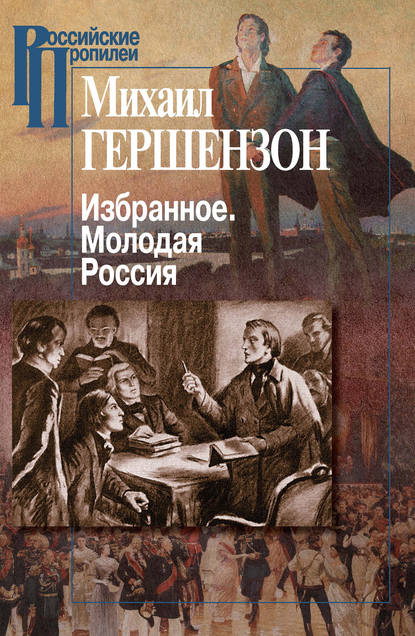По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Избранное. Молодая Россия
Жанр
Серия
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Если Герцен боится будущего, то для Грановского настоящее затемняется прошлым. Он принадлежал к числу тех по преимуществу созерцательных натур, у которых воспоминание по силе чувства далеко превосходит самые переживания. Он говорит о себе в одном письме, что никогда ничего не забывает, что обиды и печали младенчества до сих пор способны глубоко волновать его, и применяет к себе пушкинские стихи: «как вино, печаль минувших дней в душе моей чем старе, тем сильней»[97 - Пушкин А. С. Элегия («Безумных лет угасшее веселье»), написано в 1830 г., напечатано в 1834 г. Грановский Т. Н. – Мюльгаузен Е. Б. 16–19 июня 1841 г. – Грановский Т. Н. Переписка в 2 тт. Т. II. М., 1897. С. 239.]. «Я никогда не утешаюсь в моих душевных утратах, – говорит он в другом месте. – Я беру с собой горе на целую жизнь. Станкевич, сестры – они для меня ежедневно умирают снова»[98 - Грановский Т. Н. Грановской Е.Б. 29 июня 1844 г. – Там же. С. 261.]. Его душа, как душа Тютчева, – элизиум теней, и это не только тени дорогих людей, но и тени всех разбитых надежд и иллюзий. С этим тяжелым грузом в душе идет он устало через жизнь, свято лелея память о прошлом и мало веря в возможность счастия. Скорбное воспоминание мешает ему безраздельно отдаться минуте и мрачит ему жизненную даль. Он ценит труд, помимо его прямой цели, еще особенно потому, что труд «лечит душу от больных желаний»: «у меня их было много, – говорит он, – и еще осталось довольно на дне души; я им не даю воли»[99 - Грановский Т. Н. Фролову Н.Г. 17 октября 1845 г. – Там же. С. 420.]. Уже в 1843 году он пишет Вердеру: «Никогда я не понимал так хорошо то, что вы говорили мне тогда: труд и отречение! В сущности, только это и остается. Я отрекся уже от столь многих надежд моей молодости; мне остается еще только отречься от нее самой, и я скоро принесу и эту жертву, потому что сердце мое, я чувствую, становится старо и устало»[100 - Грановский Т. Н. Вердеру К. 4 октября 1843 г. – Там же. С. 441, по-немецки; Т. I. С. 123, пер. по-русски.]. А через год – и в лучшие свои дни – он пишет: «Счастливее всех других пока Герцен и я. Но долго ли продлится это счастие? У меня нет веры в жизнь, у меня напугана душа частыми утратами, и я боюсь новых. Сегодня все хорошо, завтра все может измениться. Я стал робок и мнителен…»[101 - Грановский Т. Н. Фроловым Е.П. и Н.Г. 21 октября 1844 г. – Там же. С. 418.] Герцен, трепещущий перед будущим, по крайней мере, свободен от власти прошлого; Грановский подвластен обоим, и до такой степени, что настоящее обращается для него в непрочную тропинку между двух бездн; у него нет и следа того смелого желания взнуздать и укротить дикую жизнь, заставить ее нести себя чрез пропасти и горы, которое наполняет Герцена.
Третий тип, и наиболее гармоничный, представляет собою Огарев. 1843–1845 годы были периодом, когда окончательно слагалось его мировоззрение, с удивительной полнотой воплощенное им потом в остальную часть его жизни. Две черты, к этому времени уже вполне выяснившиеся для него самого, следует признать наиболее характерными для этой сложной натуры: во-первых, слабость активной воли, делавшую его игралищем внешних условий и собственных страстей, во-вторых, присутствие огромной пассивной силы в глубине души, чувство глубокого покоя и непоколебимого упования, не покидавшее его ни в дни падений, ни в минуты душевных бурь. Из этих двух основных свойств его натуры выросло все его мировоззрение.
Высшая цель, которую он ставит себе и всякому человеку, заключается в том, чтобы научиться спокойно править парусом среди бурного моря, победить случайность не путем бегства от нее, а путем нахождения себя в ней «тем же спокойным духовным существом, сохраняющим в несимпатичной жизни глубокую симпатию с самим собой, с миром своего чувства, сознания и поступков»[102 - Гершензон М. История одной дружбы…, VIII. С. 86.]. Примирение должно быть не внешним, а внутренним; нельзя мириться со всякой мерзкой действительностью, признавая ограниченный момент действительным и непреложным: это – апатия или лицемерие. Но человек должен примириться с самим собою, то есть примирить себя, как единичного, с собою, как духом всеобщим. Этого внутреннего примирения человек достигает через проникновение себя истиной. Истина в чувстве есть любовь, истина в мысли – разумность; и то, и другое должно проникнуть нравственный мир человека, то есть мир его поступков. Только этим путем человек становится внутренне выше случайностей, то есть охраняет себя среди всех треволнений адекватным себе, своей вечной сущности. И только в этом – полное счастие: «полное счастие – сознательно внимать великой симфонии жизни и отчетливо и от полноты души разыгрывать в ней свою партию, как бы грустно ни тревожили слышимые звуки»[103 - Там же. С. 87.]. Жизнь должна быть художественным произведением, то есть свободным осуществлением внутреннего закона в личной деятельности.
Эту мысль Огарев называет еще только своим предчувствием: он знает, что до воплощения ее в жизни ему предстоит еще длинный путь, трудная внутренняя работа освобождения от многих романтических призраков; но он чувствует, что уже близка минута, когда он стряхнет всю внешнюю горечь жизни и найдет в себе силу жить адекватно истине.
Что эта теория не придумана им, а вытекла из недр его натуры, показывает то спокойное мужество, с которым он смотрит назад и вперед. Гнет воспоминаний и страх случайностей, подавлявшие Грановского и Герцена, ему чужды. Ни один из них не имел столько оснований с ужасом и отвращением вспоминать свое прошлое, как Огарев, потому что ни один не расточил так бесплодно молодость, силы, богатство, не заблуждался так часто и не падал так низко, как он. Между тем он совершенно не знает раскаяния. По его терминологии, раскаиваться значит «пребывать в наслаждении своего горевания о том, что поступил не так»[104 - Там же.]; это – неопределенная грусть, довлеющая себе и потому бесплодная. Есть другое отношение к своим ошибкам – внутренне так обновиться, чтобы стать выше горьких воспоминаний. Тогда опыт не парализует человека, а обращается в руководящую и просветляющую силу. В этой безбоязненности взгляда на самого себя, друг на друга и на весь мир, в этой стойкости любви и одушевления среди всех скорбей и ошибок он видит истинное совершеннолетие духа. Если на душе есть пятна, то в душе есть сила очиститься от них, а предаваться самообвинению и пессимизму значит избегать ясного расчета с самим собою и его результата – самообновления; они – порождение тайной трусости, потому что за ними человек ловко скрывает от себя, что ему лень жить здорово и сильно.
С той же суверенной свободой относится он и к будущему. Страх Герцена пред будущим он называет романтизмом наизнанку. Сам он не признает существования глупых случайностей; бояться будущего, говорит он в одном месте, ему мешает сознание связи mit dem Allgemeine[96 - Со всеобщим (нем.).]. Случайное, по его мысли, есть фантазия природы, и природа движется в этой сфере, как движется фантазия в художественном произведении, – вольно, но стройно, безгранично, но целесообразно. Индивидуальность органически входит в мировое целое и подлежит его законам, а следовательно, и случаю, ибо «случаи – отдельные слова в книге судьбы»[105 - Там же.]. Несчастная случайность, постигшая близкого нам человека, может надолго повергнуть нас в печаль, но враждовать против нее нельзя, как нельзя сердиться на неизбежность смерти, увядания и пр. Как враждовать с природой, с внешней необходимостью, с тем, что вне мира человеческого и, стало быть, вне возможности борьбы и победы? – И точно оправдываясь, он пишет Герцену: «Что же мне делать, если случайность меня не оскорбляет?»[97 - Этот мудрый фатализм, это – если можно так сказать – благоговенье перед грядущим с удивительной силой выражены Вильгельмом Гумбольдтом в одном сонете: «Есть власть судьбы, таинственная власть. В соединеньи с силами природы она определяет смертным час страданья и час блаженства; пред ней одной я голову склоняю. Кто чтит судьбы священный приговор, того и тяжкое не сломит горе, и в счастьи он надменно не ликует, познав и милости и кары правосудье. Как светила свершают путь свой лучезарный, так неизменно, неотразимо-властно судьба, из тайной дали исходя, пересекает суетные круги желаний наших. Так легкий след в песке сыпучем смывают в час прилива волны моря». [– Humboldt W. Sonette. Berlin, 1853. S. 58 («Friede mit dem Schicksal»)] – Примеч. И. Б. Павловой.][106 - Там же.].
Впоследствии Огарев действительно достиг того глубокого внутреннего примирения, которое в половине 40-х годов было для него еще только предчувствием, и в результатом этого примирения было спокойное мужество, какого никогда не обрели Грановский и Герцен, а вместе и совершенное освобождение «от романтических призраков». Уже в 1846 году он пишет жене: «Ich bin n?chtern geworden[98 - Я становлюсь трезвым (рассудительным) (нем.).]. Я не умею перевести этого немецкого выражения. Это не сухость сердца, не состояние, в котором чувствуешь реальность во всем, в мысли, как и в привязанности, и в котором опыт становится необходимым условием жизни»[107 - Там же.]. И точно, необыкновенная трезвость взгляда, непоколебимый детерминизм как в отношении к самому себе, так и в отношении к вещам и людям, характеризуют его в позднейшие годы. «Он сделался по плечу каждому человеку, – рассказывает Анненков, близко знавший его как раз в половине 40-х годов, – как самому простому, так и самому развитому, потому что одинаково верно понимал их духовные нужды и входил в цепь их мыслей и представлений. Вместе с тем он приобрел редкое хладнокровие суждения, не покидавшее его уже всю остальную жизнь: всякий факт и случай, являвшийся, в свою очередь, как логическое следствие целого предшествующего жизненного процесса, признавался им законным, получал его согласие и поддержку, хотя бы сам по себе не имел претензии на очевидный моральный характер и способен был бы даже возбуждать к себе неприязнь и осуждение. Ту же самую мерку прилагал он и к себе лично. Совершенно ясно и спокойно смотрел он на приближение старости, на умножающиеся припадки злой своей болезни, на грозящее ему разорение, на всю свою потерянную, испорченную жизнь, и не о чем не сожалел, ни в чем не раскаивался». Это была великая духовная сила, притом сознавшая себя, но, правда, сила только пассивная. Прошлое и грядущее не имели власти над ним, не становились между ним и текущей минутой; но от настоящего он умел лишь беззаветно брать то, что оно предлагало ему, – творить в нем он не умел. Он сам очень метко сказал о себе: «Мой враг – не прошедшее, не будущее, а настоящее, в котором я не умею решаться»; другими словами, волевой импульс никогда не достигал у него полной законченности, останавливаясь каждый раз в стадии сосуществования двух или более разнородных стремлений[108 - П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835–1885 годов. СПб., 1892. С. 102.].
V
Итак, несомненно, что из троих друзей Огарев созерцал наиболее беспристрастно, наименее отуманенным взглядом. Он приближался к гегелевскому типу разумного человека, который спокойно признает, что 2?2 = 4, не негодуя на то, что не 3, и не оскорбляясь тем, что не 5. Герцен близко подходил к нему в этом смысле: страх будущего не мешал ему ясно видеть в настоящем. Иное дело Грановский. «Романтизм», крепко коренившийся в его натуре и делавший его вечным данником прошлого, был глубоко враждебен реалистическому взгляду на мир. Огарев, столько же раз терпевший крушение и так много похоронивший в волнах, все же чувствовал себя легко и привольно в открытом море действительности; смело плавал в нем и Герцен, хотя и предвидя бури, – Грановскому он внушало ужас; он не мог забыть, что оно поглотило столько дорогих ему существ, и искал тихую пристань.
Такою тихой пристанью и было его мировоззрение, основанное на пристрастных, но полных неслабеющей любви воспоминаниях, на односторонних, но чарующих своей задушевностью верованиях. Ему было не по себе в том новом мире, который открывали тогда естественные науки, – в мире, где царит железный закон детерминизма. Герцен и Огарев ликуя приняли от Фейербаха благую весть освобождения: он дал им мужество признать за фантастически-освещенный туман те грозные утесы, «о которые бились – от семи греческих мудрецов до Канта и Гегеля – все дерзавшие думать»[109 - Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 389.]. Живое чутье действительности помогло им освободиться от догмата о приоритете логики над природой, затем в мучительных поисках выхода из дуализма идеи и бытия они доработались до сознания необходимости прежде всего постигнуть бытие в нем самом. Отсюда их страстное увлечение в 1843–1846 гг. естественными науками. В конечном итоге их занимала больше всего социальная жизнь, следовательно, история, и вот оба они одновременно приходят к сознанию, что история должна быть основана на антропологии, антропология, в свою очередь, – на физиологии, физиология – на химии; в начале 1845 г. Огарев, сообщая Герцену о курсе антропологии, открытом в Париже Огюстом Контом, и о занятиях Боткина и Фролова естественными науками, с торжеством указывал на то, что новое, положительно-научное воззрение, усвоенное ими обоими, с каждым днем становится все более общим в Европе, что всюду возникает интерес к антропологии, науке о конкретном человеке[110 - См.: Гершензон М. История одной дружбы…, VIII. С. 90.]. Это было действительное освобождение от всякой предвзятой точки зрения, как от спиритуализма, так и от материализма. Они нашли выход из двойственности логики и природы: вещество – такая же абстракция вниз, как логика – абстракция вверх; в конкретной действительности нет собственно ни того, ни другой, а есть их взаимодействие, есть процесс. И они ставят себе задачей беспристрастно изучать этот процесс, не отступая перед крайними выводами изучения; положительная наука не убьет в них идеализма, но даст ему твердую основу, введет его в русло и устремит к реально-практической цели.
Дух времени не миновал и Грановского. Мы видели: наравне с Герценом и Огаревым он признал господствующий в истории детерминизм, «закон или, лучше, необходимость»; он полагает, что ясное знание законов, определяющих движение исторических событий, может быть достигнуто лишь путем внимательного изучения фактов мира духовного и природы в их взаимодействии, и потому считает географию и антропологию основами истории. Но на этих теоретических предпосылках он и останавливается, а из тесных рамок детерминизма одним прыжком неожиданно выходит в безграничную область субъективной теологии. «Необходимость», царящая в истории, оказывается целью исторического движения[111 - См.: «Наше время перестало верить в бессмысленное владычество случая. Новая наука, философия истории, поставила на его место закон, или, лучше сказать, необходимость» – Грановский Т. Н. Сочинения. М., 1892. Т. II. С. 276.]; она – не что иное, как «нравственный закон, в осуществлении которого состоит конечная цель человечества на земле». Отсюда развивается у него целая система исторического оптимизма, вера в божественную связь, охватывающую всю жизнь человечества; в исторический процесс вносится трансцендентальная целесообразность, идущая совершенно вразрез с детерминизмом, и стремление провести эту точку зрения при изучении событий заставляет Грановского сплошь и рядом лихо обходить неразложимые этой целесообразностью глыбы фактов, либо отделываться от них фразой. Когда Огарев в 1845 году прочитал в одной немецкой брошюре меткую критику старого учения о давлении воздушного столба, он писал Герцену: «Автор провел ясно всю негативную половину своей брошюры, но для объяснения явлений иным образом прибегнул к natura abhorret vacuum (природа боится пустоты), и тут мне стало тошно. Все мистическое сделалось мне неимоверно противно, и я не могу без отвращения видеть предположения чисто-нравственного качества в природе, как abhorret»[112 - Гершензон М. История одной дружбы…, VIII. С. 91.]. А не задолго перед тем, летом 1844 года, по поводу открытия астрономами пятна на солнечном диске и предсказания Герцена о возможности в будущем такого переворота в солнечной системе, который бесследно сметет всю земную жизнь, Грановский писал жене: «Великий астроном, уверяющий тебя, что пятна на солнце произвели холодное лето и знаменуют переворот в солнечной системе, бессовестно пользуется правом математиков пороть дичь и не знать истории. Это явление повторялось тысячу раз, и каждый раз математики и чернь объясняли его по-своему и выводили страшные заключения… Но пусть будет так, как они говорят. Пусть погаснет это солнце и охладеет эта земля, дух будет продолжать начатую им здесь работу где-нибудь в другом месте. Какая китайская нелепость в предположении, что вся жизнь духа связана с органическою жизнью нашей планеты исключительно, какая хула на разум, какое отрицание всякой разумной цели в бытии космоса заключается в этой вере в силу слепого, глупого случая, который, черт знает для чего, вздумал запачкать солнце!»[113 - Грановский Т. Н. Грановской Е.Б. 4 августа 1844 г. – Грановский Т. Н. Переписка. Т. II. С. 270.] Разумная цель в бытии космоса – это был такой «антропоморфизм des Allgemeine[99 - Всеобщего (нем.).] (говоря языком того времени), и в сравнении с которым abhorret автора брошюры об атмосферном давлении представлялось еще довольно безобидной вещью.
Позднее Герцен писал о Грановском, что из него никогда не вышел бы человек чистого мышления, ни строгий естествоиспытатель: он не выдержал бы ни бесстрастную нелицеприятность логики, ни бесстрастную объективность природы[114 - См.: «Грановский, сильно сочувствуя тогдашнему научному направлению, не имел ни любви, ни таланта к отвлеченному мышлению. Он очень верно понял свое призвание, избрав главным занятием историю. Из него никогда не вышел бы ни отвлеченный мыслитель, ни замечательный натуралист. Он не выдержал бы ни бесстрастную нелицеприятность логики, ни бесстрастную объективность природы; отрешаться от всего для мысли или отрешаться от себя для наблюдения он не мог; человеческие дела, напротив. Састно занимали его» – Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 279–280.]. Действительно, он был лишен той внутренней силы, которая позволяет человеку смотреть в лицо Медузы, не каменея; он должен был отвернуться от зрелища иррациональности природы и еще более ужасного зрелища антиномий исторического процесса. Чтобы не потеряться в хаотическом волнении конкретной действительности, ему нужны были опоры и загородки. Такою внешней опорой и была его вера в нравственную цель истории, такой загородкой – его вера в jensseit[100 - Потустороннее (нем.).]– Он сам свидетельствует о том, что религиозные чувства были внушены ему в детстве матерью, потом ослаблены печально проведенной юностью и снова воскрешены влиянием жены. Их укрепил в нем более ряд тяжких потерь, понесенных им, одна вслед за другой, начиная с 1840 года: в этом году умер Станкевич, вскоре затем Е. П. Фролова, имевшая сильное влияние на Грановского и связанная с ним теплой дружбой, летом 1842 года умерла старшая из нежно-любимых им сестер, в том же году последовала за ней младшая, в 1843 умер брат. Он никогда не примирился с их потерей, они «ежедневно умирали для него снова», и единственным утешением оставалась ему надежда на свидание с ними за гробом. «Не будь же грустна, моя Лиза. Есть другая жизнь, без разлуки»[115 - Грановский Т. Н. Грановской Е.Б. 25 июня 1844 г. – Грановский Т. Н. Переписка. Т. II. С. 260.], писал он однажды жене. Герцен и Огарев в юности и вплоть до конца 30-х годов также отличались глубокой религиозностью; но уже в 1842 году вот что писал в своем дневнике Герцен по поводу смерти Вадима Пассека: «Тайна, и грозная. Сашная тайна! А как наглазно видно тут, что jenseits – мечта… «Мы увидимся, скоро увидимся», говорила жена (Пассека); теплое, облегчающее верование, мое последнее верование, за которое я держался всеми силами. Нет, и тебя я принес в жертву истине! А горько с тобою расставаться было, романтическое упование новой жизни»[116 - Герцен А.И. Сочинения. Т. I. С. 47. Дневник 1842 г. Октябрь месяц, 26.]. Расстался с ним, только несколько позднее, и Огарев – и, кажется, трудно ярче обнаружить разницу двух натур: одной, всецело опирающейся на самое себя, и другой, ищущей вне себя опоры, чем это сделал Огарев в следующих строках, обращенных к Грановскому (1845 г.): «Скорбь об утрате близких должна остаться глубоко, скорбью всей жизни; от этого-то я и ненавижу утешения посредством jenseits. Они мешают скорби, они облегчают чувство утраты, они – трусость пред страданием»[117 - Гершензон М. История одной дружбы…, VIII. С. 93.].
В своей биографии Грановского А. В. Станкевич считает нужным оправдать его мировоззрение, доказывая, что Грановский дорожил своими верованиями вовсе не из страха расстаться с утешительной и успокаивающей привычкой, а из отвращения к легкомыслию, «в начале изучения и труда уже смело провозглашающему последние результаты науки, возводящему в догмат свои догадки, свои шаткие соображения». Я думаю, что здесь вообще не может быть речи о суде и оправдании, потому что, как выразился однажды сам Грановский, взгляд всякого мыслящего человека есть результат развития целой жизни. Но биограф притом и не прав. Среди бумаг Герцена нашлось неизвестное доселе письмо Грановского к Огареву (от начала января 1845 г.), заключающее в себе искреннее и откровенное признание, так ясно изображающее ход развития его верований, совершенно согласно с нарисованной выше картиной, что сомнению не остается места. Привожу его целиком[101 - Оно составляет приписку к огромному письму Герцена от 1–2 января 1845 г., напечатанному в Русской Мысли 1891 г. VI. С. 21–26. Там же напечатаны и первые строки приписки, до слов «такой же минуты»: этими словами начинается новый листок, который не был в распоряжении издателя «Переписки недавних деятелей».].
«Я не люблю писать писем и диссертаций, вот почему я так редко пишу к тебе и так долго остаюсь профессором in spe[102 - В надежде (лат.).]. А между тем мне иногда мучительно хочется поговорить с тобой; думаю: напишу ему то и то, приготовляю в голове огромное послание, но из головы оно не выйдет. Потребность как будто усыплена или не удовлетворена, и я спокойно ожидаю другой такой же минуты. Последнее письмо Герцена задело меня за живое. Я собирался многое написать тебе, и по благородному обычаю написал про себя. Письмо не состоялось. Мне тягостен самый процесс писания, то есть держание пера в руке и пр.
«Странно и досадно! По смерти Станкевича ты и Герцен стали для меня самыми близкими людьми, перед вами обоими мне легче, чем перед другими, раскрывать душу. Узнать меня, кажется, нетрудно, особенно друзьям. Зачем же Герцен так много врет обо мне? Я вылит aus einem Guss[103 - Из одного куска (нем.).] я – романтик и т. д. Все это вздор, но вздор, который мне больно слышать от Герцена. Ему бы можно знать меня покороче. Я – aus einem Guss! Я – весь изорванный и измученный внутренне. Это не фраза. Тебе это известно, может быть. Меня измучили, конечно, не мировые вопросы, а большею частью личные утраты, жизненные опыты, которыми я, без всякого сомнения, богаче всех вас. Я искусственно успокоился от всего в истории и в дружбе. Когда я приехал из Берлина, я не нуждался в jenseits и готов был принять все результаты философии на веру (самый процесс для меня всегда был очень труден даже тогда, когда я занимался логикою при пособии Вердера и Станкевича); я смотрел на эти результаты без страха. Умер Станкевич, умерли сестры, и jenseits стало каким-то постулатом у меня. Многое изменилось во мне от причин чисто-личных. Теперь я отвык совсем от умозрения, я вдался в историю и думаю, что у меня есть призвание к этому делу. Только одно это занятие, этот интерес, с которым, впрочем, так много связано, дает единство моему внутреннему бытию. Да, я понимаю, что от этого я могу показаться посторонним очень ровным, успокоенным в себе человеком. Но Герцен мог бы заглянуть поглубже. Занятие историей, в свою очередь, развило во мне многое и в особенности какой-то скептицизм. Трудно уберечься от него среди этого вечного движения форм и идей. Одно сменяет другое, волна гонит волну. У всякого века была своя истина. Иногда становится грустно и страшно. Я мало читал Спинозу, но из всех философов его одного еще могу читать. Результат всего этого: если бы не было на свете истории, моей жены, всех вас и вина, я, право, не дал бы копейки за жизнь. Я люблю жизнь только за это. Прощай. Журнал не состоялся. Какой же я романтик? Прощай еще раз. Крепко жму тебе руку»[118 - Там же. С. 93–94.].
В этом письме Грановский говорит о двух вещах, которые не следует смешивать: о своих интимных верованиях и своих научных взглядах. Верования свои он и не пытается оправдать или доказать: он прямо заявляет, что они – плод его личного опыта, что они нужны ему, как опора в трудной жизни. Защищает же он только научный скептицизм, основанный на убеждении в относительности и сменяемости добываемых человеком истин. Очевидно, что о причинной связи между его верой и этим скептицизмом нельзя говорить: скептицизм ведет только к отрицанию догматизма и к терпимости, но сам по себе не может порождать положительных верований; он не сеет их семена в душе: он лишь облегчает их рост и упрочение.
К приведенному сейчас письму Герцен сделал такую приписку: «Может, я и в самом деле ошибся с aus einem Gusse, но я, впрочем, не в тех границах употребил это слово, в которых принял Грановский. Дело в том, что он нашел занятие вполне поглощающее, единое, сообразнейшее душе, и глубоко, отчетливо, прекрасно идет по этой дороге. Что касается до обвинения в романтизме – primo это не обвинение, а secundo повтори сам, что ты пишешь о Фролове[104 - В письме от 13 сентября 1844 г. Огарев писал: «… есть границы слабости и силы… Один из самых сильных людей, один из самых близких мне по духу и по душе – Фролов, а иногда и этой силе непереступимая граница. Есть у нас спорные пункты. У него близкое существо на том свете. Случай, несчастие, оскорбление природной святыни душевной заставляют искать jenseits [потустороннего – нем.]. Право, чувство границ, зависимость от случая тревожит меня болезненнее всего на свете» и т. д.[727 - В письме от 13 сентября 1844 г. Огарев писал: «…есть границы слабости и силы… Право, чувство границ, зависимость от случая тревожит меня болезненнее всего на свете» и т. д. – Гершензон М. История одной дружбы… VIII. С. 95.]]. Чту за дело, как и почему какие-то элементы взошли в жизнь: речь идет о том, каков человек есть и побеждено ли им внешнее»[119 - Там же. С. 95.].
Именно так стоит здесь этот вопрос для нас.
VI
Мировоззрение Грановского, рано сосредоточившегося на одной специальной отрасли знания, в своих основных чертах уже окончательно сложилось к 1842 году, когда началась его дружба с Герценом. Последний как раз в это время вступал в последний период своего развития: именно на ближайшие четыре года приходится его знакомство с Фейербахом, изучение Гегеля, решение вопроса об отношении логики к бытию, занятия естественными науками и выход из метафизики к реализму положительной науки. Развитие всякого мыслящего человека сводится к тому, чтобы найти себя в сознании, то есть чтобы выработать себе или отыскать готовыми те сознательные формулы, в которых наиболее полно воплотились бы инстинктивные, врожденные наклонности его духа. В Герцене этот процесс нахождения себя совершился как раз в период 1842—46 гг. В эти годы, когда были написаны статьи о дилетантизме и науке, «Письма об изучении природы», «Крупов» и «По поводу одной драмы»[120 - «О дилетантизме в науке» – 1843 г., «Письма об изучении природы» – 1845, 1846 гг., «Из сочинения доктора Крупова» – 1847 г., «По поводу одной драмы», первая статья цикла «Капризы и раздумье» – 1843 г.], окончательно сложились его нравственно-философские воззрения, в существе оставшиеся неизменными до конца его жизни. Таким образом, те элементы разногласия, которые в начале дружбы, по крайней мере, со стороны Герцена, находились еще в зародыше, к концу этого периода должны были выступить наружу с полной ясностью.
Они не могли не выйти наружу еще и потому, что этого требовал самый характер умственной жизни того круга людей, к которому принадлежали Грановский и Герцен. «Еще бы у нас было неминуемое дело, – говорит Герцен, – которое бы нас совершенно поглощало; а то ведь собственно вся наша деятельность была в сфере мышления и пропаганды наших убеждений… какие же могли быть уступки на этом поле?»[121 - Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 402.] В дневнике он часто возвращается к этой теме, без всякого отношения к своим спорам с Грановским. Он ясно видел, что глубокий, нравственный разрыв с существующим, со всей действительной жизнью, неизбежно должен вести к идиосинкразиям, капризам, нетерпимости: «возможность внутренняя и невозможность внешняя превращает силы в яд, отравляющий жизнь; они загнивают в организме, бродят и разлагаются, отсюда взгляд гнева и желчи, односторонность в самом мышлении»[122 - Герцен А. И. Сочинения. Т. I. С. 199. Дневник 1844 г. Май месяц, 17. В тексте «превращают силы в яд».].
Следовательно, уступок не могло быть и по существу дела, и по болезненно-чуткой настроенности обеих сторон. В особенности уступить не мог Герцен. В назревшей размолвке почин неизбежно должен был исходить от него. Не говоря уже о разнице натур – созерцательной и терпимой натуры Грановского, активной и задорной Герцена, – важно было то, что Грановский отстаивал традиционное воззрение, тогда как Герцен являлся неофитом учения юного, только что выступившего на завоевание и опьяненного своими первыми победами. Это боевое настроение очень сильно сказывается в дневнике Герцена, начиная с 1844 года. Ум от природы преимущественно критический, глубоко-враждебный духу авторитета и всякой туманности мышления, Герцен рано стал, по меткому выражению Анненкова, «неутомимым следователем по части пороков мышления, промахов развития, несообразности действий с их поводами»[123 - П. В. Анненков и его друзья… С. 106.]. Новое, реально-научное направление, которому он отдался теперь, должно было сильно обострить в нем это отвращение к традиционным верованиям, освящаемым общим молчанием, ко всяким непроверенным истинам, и естественно, что борьба против того, что казалось ему ленью или произволом мысли, получила для него в этот период характер священного долга, в осуществлении которого не может быть никаких уступок. Уже в декабре 1844 года, то есть за полтора года до размолвки, он записал в своем дневнике: «Наши личные отношения много вредят характерности и прямоте мнений. Мы, уважая прекрасные качества лиц, жертвуем для них резкостью мысли. Много надобно иметь силы, чтоб плакать и все-таки уметь подписать приговор Камиля Демулена»[124 - Герцен А. И. Сочинения. Т. I. С. 256. Дневник 1844 г. Декабрь месяц, 18. Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 389. В тексте «Былого и дум» – «Камиля Демулен’». В тексте Дневника – «Камиля Де-Мулена!».]. В этой зависти к силе Робеспьера, писал он позднее, уже дремали зачатки злых споров 1846 года. Разрыв действительно стал неизбежным.
В XXXII главе «Былого и Дум» Герцен подробно рассказал историю этого «теоретического разрыва» между ним и Огаревым, с одной стороны, Грановским – с другой; его рассказ пополняется воспоминаниями Анненкова, Панаева и Т. А. Астраковой (в записках Т. П. Пассек)[125 - Анненков П. В. Замечательное десятилетие, гл. XXVII (Впервые – Вестник Европы. 1880. № 4. С. 467–472); Панаев И. И. Литературные воспоминания, гл. V (Впервые – Современник. 1861. № 10. С. 466–467); Воспоминания Т. П. Пассек. 1840–1845 г. (Впервые – Русская Старина. 1877. № 7. С включением воспоминаний Т. А. Астраковой. С. 466–467).]. Разрыв обнаружился летом 1846 года, когда все трое – и Грановский, и Герцен, и только что вернувшийся в Россию после нескольких лет заграничного скитания Огарев – жили на даче в Соколове под Москвою; но он назревал уже года два или больше, как можно видеть и из приведенного выше письма. Герцен рассказывает, что еще прежде, чем им самим стал ясен их раздор, его заметило молодое поколение, совершенно проникнутое реалистическими воззрениями, зачитывавшееся его «Дилетантизмом в науке» и «Письмами об изучении природы», считавшее его и Белинского представителями своих философских мнений и, при всей своей любви к Грановскому, уже начинавшее восставать против его «романтизма». В тиши деревенской жизни, при близости ежедневного общения, разногласие должно было выйти наружу. Оно было слишком существенно, слишком задевало жизненный нерв каждого из участвующих, чтобы даже та горячая любовь, которою они были связаны, могла предотвратить раскол. Каждый теоретический разговор неизбежно приводил к тем же основным вопросам мировоззрения, споры становились все чаще. «Огарев, не видевший меня года четыре, – говорит Герцен, – был совершенно в том направлении, как я. Мы разными путями прошли те же пространства и очутились вместе»[126 - Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 397.]. Грановский, по-видимому, держался оборонительно и старался избегнуть резкого разрыва; почин решающего спора принадлежал Герцену. Он рассказывает, что однажды этим летом, когда разговор опять коснулся щекотливого пункта, он заметил, «что развитие науки, что современное состояние ее обязывает нас к принятию кое-каких истин, независимо от того, хотим мы или нет; что однажды узнанные, они перестают быть историческими загадками, а делаются просто неопровержимыми фактами сознания, как Эвклидовы теоремы, как Кеплеровы законы, как нераздельность причины и действия, духа и материи»[127 - Там же. С. 398.].
– Все это так мало обязательно, – возразил Грановский, – что я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа; с ней исчезает бессмертие души. Может, вам его не надобно, но я слишком много схоронил, чтоб поступиться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо.
– Славно было бы жить на свете, – сказал Герцен, – если бы все то, что кому-нибудь надобно, сейчас и было тут как тут, на манер сказок.
– Подумай, Грановский, – прибавил Огарев, – ведь это своего рода бегство от несчастия.
– Послушайте, – возразил Грановский, бледный и придавая себе вид постороннего, – вы меня искренно обяжете, если не будете никогда со мной говорить об этих предметах. Мало ли есть вещей занимательных и о которых толковать гораздо полезнее и приятнее[128 - Там же. С. 398–399. В тексте «возразил Грановский, слегка изменившись в лице», «Славно было бы жить на свете», – сказал я.].
Этим разговором все было уяснено: «так вот она, межа, – предел и вместе цензура!» Тяжело было так, говорит Герцен, точно кто-нибудь близкий умер[129 - Там же. С. 399. В тексте «Точно кто-нибудь близкий умер, так было тяжело…»]. Как сильна была боль в нем и в Огареве, показывает стихотворение («Искандеру»), сочиненное Огаревым вечером того же дня на дороге в Москву.
Я ехал по полю пустому;
И свеж, и сыр был воздух, и луна
Скучая шла по небу голубому,
И плоская синелась сторона.
В моей душе менялись скорбь и сила,
И мысль моя с тобою говорила.
Все степь да степь! Нет ни души, ни звука;
И еду вдаль я горд и одинок.
Моя судьба во мне. Ни скорбь, ни скука
Не утомят меня. Всему свой срок.
Я правды речь вел строго в дружнем круге —
Ушли друзья в младенческом испуге.
И он ушел – которого как брата
Иль как сестру так нежно я любил!
Мне тяжела, как смерть, его утрата;
Он духом чист и благороден был,
Имел он сердце нежное как ласка,
И дружба с ним мне памятна как сказка.
Ты мне один остался неизменный.
Я жду тебя. Мы в жизнь вошли вдвоем;
Таков остался наш союз надменный!
Опять одни мы в грустный путь пойдем,
Об истине глася неутомимо,
И пусть мечты и люди идут мимо.[130 - Огарев Н. П. Искандеру («Я ехал по полю пустому»), 1846 г., осень.]
Грановский страдал не меньше. Позднее, в половине 1849 года, он писал Герцену за границу: «На дружбу мою к вам двум ушли лучшие силы моей души. В ней есть доля страсти, заставлявшая меня плакать в 1846 г. и обвинять себя в бессилии разорвать связь, которая по-видимому, не могла продолжаться. Почти с отчаянием заметил я, что вы прикреплены к моей душе такими нитками, которых нельзя перерезать, не захватив живого мяса»[131 - См.: ГерценА.И. Былое и думы. Т. II. С. 282–283. Грановский Т. Н. Герцену А.И. 25 августа 1849 г.].
Надо заметить, что теоретическая рознь была обострена в это лето целым рядом мелких недоразумений, бестактностей и взаимных обид, виновником которых в большинстве случаев был, по-видимому, Герцен, но которые вместе с тем обнаруживают напряженно-нервное состояние, в котором находился весь кружок. Явное распадение дружеского круга было одной из главных причин, заставивших Герцена зимою уехать с семьей за границу. Огарев еще осенью поселился в своем пензенском имении.
VII
С Герценом, оставшимся за границей навсегда, Грановский более не виделся; изредка они обменивались письмами, полными горячей взаимной любви, глубокой тоски друг по другу. В Герцене личное раздражение улеглось не скоро. О тоне первых его писем можно судить по ответному письму Грановского от 1847 г.: «Я не отвечал на большую часть твоих писем, потому что они производили на меня нехорошее действие. В них какой-то затаенный упрек, неприязненная arri?re pensеe[105 - Задняя мысль (франц.).], которая поминутно пробивается наружу… Твои прежние насмешки над близкими тебе не были обидны, потому что в них была добродушная острота; но ирония твоих писем оскорбляет самолюбие и более живое и благородное чувство. Не лучше ли было прямо написать к нам, пожалуй, жесткое письмо, если ты не был нами доволен, но ты рассыпал свои намеки в письме к Т.А. (Астраковой) и т. д.; это было нехорошо. Последние дни твои во многом могли доказать тебе, что соколовские споры не ставили следов, и сколько любви и преданности оставил ты за собою… К чему же повторять смешные обвинения в отсутствии деятельной любви, в апатии и пр.»[132 - Грановский Т. Н. Герцену А.И. 1847 г. – Грановский Т. Н. Переписка. Т. II. С. 445–446.]. В Грановском не осталось, по-видимому, и тени горечи: это самое письмо дышит трогательной нежностью, и таковы же все позднейшие его письма. Рознь в убеждениях, ложившаяся пропастью между ним и Герценом, мучила его, и он как будто старался уверить себя, что она исчезла; в том письме 1849 г., из которого выше приведена выдержка, он пишет, вспоминая соколовские споры: «Время это прошло не без пользы для меня. Я вышел победителем из худшей стороны самого себя. Того романтизма, за который вы обвиняли меня, не осталось следа»[133 - Гершензон М. История одной дружбы // Научное слово. 1903. Кн. IX. С. 52 (далее: История одной дружбы… IX).]. До самой смерти лелеял он надежду увидеться с другом и еще осенью 1853 года называл ее своей лучшей, отраднейшей мечтой. Многое в заграничных писаниях Герцена было ему не по сердцу, но это не умаляло его любви. Писем Герцена к нему мы не знаем, но в «Былом и Думах» Герцен говорит: «… Если время доказало, что мы могли розно понимать, могли не понимать друг друга и огорчать, то еще больше времени доказало вдвое, что мы не могли не разойтись, ни сделаться чужими, – что на это и самая смерть была бессильна»[134 - Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 282. В тексте «если время доказало».]. Он рассказывает, что получил письмо с известием о смерти Грановского, идя в Ричмонде на железную дорогу. Он прочитал его на ходу и сразу не понял, потом точно в просонках сел в вагон и без мысли смотрел на входивших и выходивших; его клонил тяжелый сон и ему было страшно холодно. В Лондоне он встретил Таландье; здороваясь с ним, он сказал, что получил дурное письмо, и, как будто сам только что услышал весть, не мог удержать слез. «Мало было у нас сношений в последнее время, – говорит он в заключение, – но мне нужно было знать, что там, вдали, на нашей родине живет этот человек»[106 - В ненапечатанном письме Герцена к Е. Ф. Коршу от 27 декабря 1855 г., хранящемся в Московском Румянцевском музее, читаем: «Много, очень много оборвалось нитей, связывавших меня с Русью, вместе с жизнью нашего друга… Я думал в случае моей смерти прислать Сашу (сына) к Грановскому и хотел ему писать об этом. Теперь и это лопнуло»[728 - Гершензон М. История одной дружбы… IX. С. 53.]][135 - Там же. С. 286. В тексте «этот человек!».].
С Огаревым, осенью 1846 года уехавшим в деревню, Грановский в ближайшие годы поддерживал, кажется, деятельную переписку; во всяком случае, их отношения оставались братски-дружественными по-прежнему. Но позднее, уже в начале 50-х годов, между ними сверх теоретической размолвки возникли тяжкие недоразумения чисто-личного свойства, главным образом, из-за недружелюбного отношения Грановского и других московских друзей ко второй жене Огарева Н. А. Огаревой-Тучковой, в чьих воспоминаниях читатель и может найти кое-какие подробности этой грустной истории[136 - Огарева-Тучкова Н. А. Воспоминания. Глава VI (впервые – Русская Старина, 1890. Кн. X).]. Целая сеть пересудов, сплетен и взаимных обид опутала и надолго разъединила друзей. Нам нет надобности останавливаться на этом эпизоде; я приведу только для полноты фактического материала те, не бывшие еще в печати, немногочисленные письма из этого времени, которые находятся в моем распоряжении. Следующее письмо Огарева, черновик которого нашелся среди бумаг Герцена, относится, без сомнения, к 1854–1855 гг.
«Грановский!
«В животе и смерти Бог волен», говорит пословица. На простом языке это значит, что не сегодня – завтра умрешь. Грустно умереть или знать, что ты умер, не примирившись. Вследствие этого пишу; выйдет ли письмо длинно или коротко – черт знает! но мне надо высказаться, и потому слушай терпеливо.
«Во время оно, при последнем нашем свидании, ты обвинял меня и мою жену в насильственном браке близких мне людей. Было ли это обвинение сделано на основании только сентиментальных данных или с примесью какого-нибудь враждебного влияния, – это все равно. Обвинение было сделано, несмотря на то, что ты сам мог понять его нелепость. Другое дело Кетчер, который по патологическому состоянию мозга взялся разыгрывать роль procureur durai[107 - Королевского прокурора (франц.).] в отношении к своим друзьям; но от тебя я этого не ожидал. На Кетчера смешно сердиться, но и выносить нелепые оскорбления смешно. Я с ним внутренне разошелся с 1847 года, когда он взвел нелепую клевету на Наташу Герцен со слов Силиньки. Я его жалею и люблю и готов на всякое примирение без объяснений и без права с его стороны на дальнейшие оскорбления; с моей же стороны оскорблений быть не может именно потому, что я его люблю и жалею.
Третий тип, и наиболее гармоничный, представляет собою Огарев. 1843–1845 годы были периодом, когда окончательно слагалось его мировоззрение, с удивительной полнотой воплощенное им потом в остальную часть его жизни. Две черты, к этому времени уже вполне выяснившиеся для него самого, следует признать наиболее характерными для этой сложной натуры: во-первых, слабость активной воли, делавшую его игралищем внешних условий и собственных страстей, во-вторых, присутствие огромной пассивной силы в глубине души, чувство глубокого покоя и непоколебимого упования, не покидавшее его ни в дни падений, ни в минуты душевных бурь. Из этих двух основных свойств его натуры выросло все его мировоззрение.
Высшая цель, которую он ставит себе и всякому человеку, заключается в том, чтобы научиться спокойно править парусом среди бурного моря, победить случайность не путем бегства от нее, а путем нахождения себя в ней «тем же спокойным духовным существом, сохраняющим в несимпатичной жизни глубокую симпатию с самим собой, с миром своего чувства, сознания и поступков»[102 - Гершензон М. История одной дружбы…, VIII. С. 86.]. Примирение должно быть не внешним, а внутренним; нельзя мириться со всякой мерзкой действительностью, признавая ограниченный момент действительным и непреложным: это – апатия или лицемерие. Но человек должен примириться с самим собою, то есть примирить себя, как единичного, с собою, как духом всеобщим. Этого внутреннего примирения человек достигает через проникновение себя истиной. Истина в чувстве есть любовь, истина в мысли – разумность; и то, и другое должно проникнуть нравственный мир человека, то есть мир его поступков. Только этим путем человек становится внутренне выше случайностей, то есть охраняет себя среди всех треволнений адекватным себе, своей вечной сущности. И только в этом – полное счастие: «полное счастие – сознательно внимать великой симфонии жизни и отчетливо и от полноты души разыгрывать в ней свою партию, как бы грустно ни тревожили слышимые звуки»[103 - Там же. С. 87.]. Жизнь должна быть художественным произведением, то есть свободным осуществлением внутреннего закона в личной деятельности.
Эту мысль Огарев называет еще только своим предчувствием: он знает, что до воплощения ее в жизни ему предстоит еще длинный путь, трудная внутренняя работа освобождения от многих романтических призраков; но он чувствует, что уже близка минута, когда он стряхнет всю внешнюю горечь жизни и найдет в себе силу жить адекватно истине.
Что эта теория не придумана им, а вытекла из недр его натуры, показывает то спокойное мужество, с которым он смотрит назад и вперед. Гнет воспоминаний и страх случайностей, подавлявшие Грановского и Герцена, ему чужды. Ни один из них не имел столько оснований с ужасом и отвращением вспоминать свое прошлое, как Огарев, потому что ни один не расточил так бесплодно молодость, силы, богатство, не заблуждался так часто и не падал так низко, как он. Между тем он совершенно не знает раскаяния. По его терминологии, раскаиваться значит «пребывать в наслаждении своего горевания о том, что поступил не так»[104 - Там же.]; это – неопределенная грусть, довлеющая себе и потому бесплодная. Есть другое отношение к своим ошибкам – внутренне так обновиться, чтобы стать выше горьких воспоминаний. Тогда опыт не парализует человека, а обращается в руководящую и просветляющую силу. В этой безбоязненности взгляда на самого себя, друг на друга и на весь мир, в этой стойкости любви и одушевления среди всех скорбей и ошибок он видит истинное совершеннолетие духа. Если на душе есть пятна, то в душе есть сила очиститься от них, а предаваться самообвинению и пессимизму значит избегать ясного расчета с самим собою и его результата – самообновления; они – порождение тайной трусости, потому что за ними человек ловко скрывает от себя, что ему лень жить здорово и сильно.
С той же суверенной свободой относится он и к будущему. Страх Герцена пред будущим он называет романтизмом наизнанку. Сам он не признает существования глупых случайностей; бояться будущего, говорит он в одном месте, ему мешает сознание связи mit dem Allgemeine[96 - Со всеобщим (нем.).]. Случайное, по его мысли, есть фантазия природы, и природа движется в этой сфере, как движется фантазия в художественном произведении, – вольно, но стройно, безгранично, но целесообразно. Индивидуальность органически входит в мировое целое и подлежит его законам, а следовательно, и случаю, ибо «случаи – отдельные слова в книге судьбы»[105 - Там же.]. Несчастная случайность, постигшая близкого нам человека, может надолго повергнуть нас в печаль, но враждовать против нее нельзя, как нельзя сердиться на неизбежность смерти, увядания и пр. Как враждовать с природой, с внешней необходимостью, с тем, что вне мира человеческого и, стало быть, вне возможности борьбы и победы? – И точно оправдываясь, он пишет Герцену: «Что же мне делать, если случайность меня не оскорбляет?»[97 - Этот мудрый фатализм, это – если можно так сказать – благоговенье перед грядущим с удивительной силой выражены Вильгельмом Гумбольдтом в одном сонете: «Есть власть судьбы, таинственная власть. В соединеньи с силами природы она определяет смертным час страданья и час блаженства; пред ней одной я голову склоняю. Кто чтит судьбы священный приговор, того и тяжкое не сломит горе, и в счастьи он надменно не ликует, познав и милости и кары правосудье. Как светила свершают путь свой лучезарный, так неизменно, неотразимо-властно судьба, из тайной дали исходя, пересекает суетные круги желаний наших. Так легкий след в песке сыпучем смывают в час прилива волны моря». [– Humboldt W. Sonette. Berlin, 1853. S. 58 («Friede mit dem Schicksal»)] – Примеч. И. Б. Павловой.][106 - Там же.].
Впоследствии Огарев действительно достиг того глубокого внутреннего примирения, которое в половине 40-х годов было для него еще только предчувствием, и в результатом этого примирения было спокойное мужество, какого никогда не обрели Грановский и Герцен, а вместе и совершенное освобождение «от романтических призраков». Уже в 1846 году он пишет жене: «Ich bin n?chtern geworden[98 - Я становлюсь трезвым (рассудительным) (нем.).]. Я не умею перевести этого немецкого выражения. Это не сухость сердца, не состояние, в котором чувствуешь реальность во всем, в мысли, как и в привязанности, и в котором опыт становится необходимым условием жизни»[107 - Там же.]. И точно, необыкновенная трезвость взгляда, непоколебимый детерминизм как в отношении к самому себе, так и в отношении к вещам и людям, характеризуют его в позднейшие годы. «Он сделался по плечу каждому человеку, – рассказывает Анненков, близко знавший его как раз в половине 40-х годов, – как самому простому, так и самому развитому, потому что одинаково верно понимал их духовные нужды и входил в цепь их мыслей и представлений. Вместе с тем он приобрел редкое хладнокровие суждения, не покидавшее его уже всю остальную жизнь: всякий факт и случай, являвшийся, в свою очередь, как логическое следствие целого предшествующего жизненного процесса, признавался им законным, получал его согласие и поддержку, хотя бы сам по себе не имел претензии на очевидный моральный характер и способен был бы даже возбуждать к себе неприязнь и осуждение. Ту же самую мерку прилагал он и к себе лично. Совершенно ясно и спокойно смотрел он на приближение старости, на умножающиеся припадки злой своей болезни, на грозящее ему разорение, на всю свою потерянную, испорченную жизнь, и не о чем не сожалел, ни в чем не раскаивался». Это была великая духовная сила, притом сознавшая себя, но, правда, сила только пассивная. Прошлое и грядущее не имели власти над ним, не становились между ним и текущей минутой; но от настоящего он умел лишь беззаветно брать то, что оно предлагало ему, – творить в нем он не умел. Он сам очень метко сказал о себе: «Мой враг – не прошедшее, не будущее, а настоящее, в котором я не умею решаться»; другими словами, волевой импульс никогда не достигал у него полной законченности, останавливаясь каждый раз в стадии сосуществования двух или более разнородных стремлений[108 - П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835–1885 годов. СПб., 1892. С. 102.].
V
Итак, несомненно, что из троих друзей Огарев созерцал наиболее беспристрастно, наименее отуманенным взглядом. Он приближался к гегелевскому типу разумного человека, который спокойно признает, что 2?2 = 4, не негодуя на то, что не 3, и не оскорбляясь тем, что не 5. Герцен близко подходил к нему в этом смысле: страх будущего не мешал ему ясно видеть в настоящем. Иное дело Грановский. «Романтизм», крепко коренившийся в его натуре и делавший его вечным данником прошлого, был глубоко враждебен реалистическому взгляду на мир. Огарев, столько же раз терпевший крушение и так много похоронивший в волнах, все же чувствовал себя легко и привольно в открытом море действительности; смело плавал в нем и Герцен, хотя и предвидя бури, – Грановскому он внушало ужас; он не мог забыть, что оно поглотило столько дорогих ему существ, и искал тихую пристань.
Такою тихой пристанью и было его мировоззрение, основанное на пристрастных, но полных неслабеющей любви воспоминаниях, на односторонних, но чарующих своей задушевностью верованиях. Ему было не по себе в том новом мире, который открывали тогда естественные науки, – в мире, где царит железный закон детерминизма. Герцен и Огарев ликуя приняли от Фейербаха благую весть освобождения: он дал им мужество признать за фантастически-освещенный туман те грозные утесы, «о которые бились – от семи греческих мудрецов до Канта и Гегеля – все дерзавшие думать»[109 - Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 389.]. Живое чутье действительности помогло им освободиться от догмата о приоритете логики над природой, затем в мучительных поисках выхода из дуализма идеи и бытия они доработались до сознания необходимости прежде всего постигнуть бытие в нем самом. Отсюда их страстное увлечение в 1843–1846 гг. естественными науками. В конечном итоге их занимала больше всего социальная жизнь, следовательно, история, и вот оба они одновременно приходят к сознанию, что история должна быть основана на антропологии, антропология, в свою очередь, – на физиологии, физиология – на химии; в начале 1845 г. Огарев, сообщая Герцену о курсе антропологии, открытом в Париже Огюстом Контом, и о занятиях Боткина и Фролова естественными науками, с торжеством указывал на то, что новое, положительно-научное воззрение, усвоенное ими обоими, с каждым днем становится все более общим в Европе, что всюду возникает интерес к антропологии, науке о конкретном человеке[110 - См.: Гершензон М. История одной дружбы…, VIII. С. 90.]. Это было действительное освобождение от всякой предвзятой точки зрения, как от спиритуализма, так и от материализма. Они нашли выход из двойственности логики и природы: вещество – такая же абстракция вниз, как логика – абстракция вверх; в конкретной действительности нет собственно ни того, ни другой, а есть их взаимодействие, есть процесс. И они ставят себе задачей беспристрастно изучать этот процесс, не отступая перед крайними выводами изучения; положительная наука не убьет в них идеализма, но даст ему твердую основу, введет его в русло и устремит к реально-практической цели.
Дух времени не миновал и Грановского. Мы видели: наравне с Герценом и Огаревым он признал господствующий в истории детерминизм, «закон или, лучше, необходимость»; он полагает, что ясное знание законов, определяющих движение исторических событий, может быть достигнуто лишь путем внимательного изучения фактов мира духовного и природы в их взаимодействии, и потому считает географию и антропологию основами истории. Но на этих теоретических предпосылках он и останавливается, а из тесных рамок детерминизма одним прыжком неожиданно выходит в безграничную область субъективной теологии. «Необходимость», царящая в истории, оказывается целью исторического движения[111 - См.: «Наше время перестало верить в бессмысленное владычество случая. Новая наука, философия истории, поставила на его место закон, или, лучше сказать, необходимость» – Грановский Т. Н. Сочинения. М., 1892. Т. II. С. 276.]; она – не что иное, как «нравственный закон, в осуществлении которого состоит конечная цель человечества на земле». Отсюда развивается у него целая система исторического оптимизма, вера в божественную связь, охватывающую всю жизнь человечества; в исторический процесс вносится трансцендентальная целесообразность, идущая совершенно вразрез с детерминизмом, и стремление провести эту точку зрения при изучении событий заставляет Грановского сплошь и рядом лихо обходить неразложимые этой целесообразностью глыбы фактов, либо отделываться от них фразой. Когда Огарев в 1845 году прочитал в одной немецкой брошюре меткую критику старого учения о давлении воздушного столба, он писал Герцену: «Автор провел ясно всю негативную половину своей брошюры, но для объяснения явлений иным образом прибегнул к natura abhorret vacuum (природа боится пустоты), и тут мне стало тошно. Все мистическое сделалось мне неимоверно противно, и я не могу без отвращения видеть предположения чисто-нравственного качества в природе, как abhorret»[112 - Гершензон М. История одной дружбы…, VIII. С. 91.]. А не задолго перед тем, летом 1844 года, по поводу открытия астрономами пятна на солнечном диске и предсказания Герцена о возможности в будущем такого переворота в солнечной системе, который бесследно сметет всю земную жизнь, Грановский писал жене: «Великий астроном, уверяющий тебя, что пятна на солнце произвели холодное лето и знаменуют переворот в солнечной системе, бессовестно пользуется правом математиков пороть дичь и не знать истории. Это явление повторялось тысячу раз, и каждый раз математики и чернь объясняли его по-своему и выводили страшные заключения… Но пусть будет так, как они говорят. Пусть погаснет это солнце и охладеет эта земля, дух будет продолжать начатую им здесь работу где-нибудь в другом месте. Какая китайская нелепость в предположении, что вся жизнь духа связана с органическою жизнью нашей планеты исключительно, какая хула на разум, какое отрицание всякой разумной цели в бытии космоса заключается в этой вере в силу слепого, глупого случая, который, черт знает для чего, вздумал запачкать солнце!»[113 - Грановский Т. Н. Грановской Е.Б. 4 августа 1844 г. – Грановский Т. Н. Переписка. Т. II. С. 270.] Разумная цель в бытии космоса – это был такой «антропоморфизм des Allgemeine[99 - Всеобщего (нем.).] (говоря языком того времени), и в сравнении с которым abhorret автора брошюры об атмосферном давлении представлялось еще довольно безобидной вещью.
Позднее Герцен писал о Грановском, что из него никогда не вышел бы человек чистого мышления, ни строгий естествоиспытатель: он не выдержал бы ни бесстрастную нелицеприятность логики, ни бесстрастную объективность природы[114 - См.: «Грановский, сильно сочувствуя тогдашнему научному направлению, не имел ни любви, ни таланта к отвлеченному мышлению. Он очень верно понял свое призвание, избрав главным занятием историю. Из него никогда не вышел бы ни отвлеченный мыслитель, ни замечательный натуралист. Он не выдержал бы ни бесстрастную нелицеприятность логики, ни бесстрастную объективность природы; отрешаться от всего для мысли или отрешаться от себя для наблюдения он не мог; человеческие дела, напротив. Састно занимали его» – Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 279–280.]. Действительно, он был лишен той внутренней силы, которая позволяет человеку смотреть в лицо Медузы, не каменея; он должен был отвернуться от зрелища иррациональности природы и еще более ужасного зрелища антиномий исторического процесса. Чтобы не потеряться в хаотическом волнении конкретной действительности, ему нужны были опоры и загородки. Такою внешней опорой и была его вера в нравственную цель истории, такой загородкой – его вера в jensseit[100 - Потустороннее (нем.).]– Он сам свидетельствует о том, что религиозные чувства были внушены ему в детстве матерью, потом ослаблены печально проведенной юностью и снова воскрешены влиянием жены. Их укрепил в нем более ряд тяжких потерь, понесенных им, одна вслед за другой, начиная с 1840 года: в этом году умер Станкевич, вскоре затем Е. П. Фролова, имевшая сильное влияние на Грановского и связанная с ним теплой дружбой, летом 1842 года умерла старшая из нежно-любимых им сестер, в том же году последовала за ней младшая, в 1843 умер брат. Он никогда не примирился с их потерей, они «ежедневно умирали для него снова», и единственным утешением оставалась ему надежда на свидание с ними за гробом. «Не будь же грустна, моя Лиза. Есть другая жизнь, без разлуки»[115 - Грановский Т. Н. Грановской Е.Б. 25 июня 1844 г. – Грановский Т. Н. Переписка. Т. II. С. 260.], писал он однажды жене. Герцен и Огарев в юности и вплоть до конца 30-х годов также отличались глубокой религиозностью; но уже в 1842 году вот что писал в своем дневнике Герцен по поводу смерти Вадима Пассека: «Тайна, и грозная. Сашная тайна! А как наглазно видно тут, что jenseits – мечта… «Мы увидимся, скоро увидимся», говорила жена (Пассека); теплое, облегчающее верование, мое последнее верование, за которое я держался всеми силами. Нет, и тебя я принес в жертву истине! А горько с тобою расставаться было, романтическое упование новой жизни»[116 - Герцен А.И. Сочинения. Т. I. С. 47. Дневник 1842 г. Октябрь месяц, 26.]. Расстался с ним, только несколько позднее, и Огарев – и, кажется, трудно ярче обнаружить разницу двух натур: одной, всецело опирающейся на самое себя, и другой, ищущей вне себя опоры, чем это сделал Огарев в следующих строках, обращенных к Грановскому (1845 г.): «Скорбь об утрате близких должна остаться глубоко, скорбью всей жизни; от этого-то я и ненавижу утешения посредством jenseits. Они мешают скорби, они облегчают чувство утраты, они – трусость пред страданием»[117 - Гершензон М. История одной дружбы…, VIII. С. 93.].
В своей биографии Грановского А. В. Станкевич считает нужным оправдать его мировоззрение, доказывая, что Грановский дорожил своими верованиями вовсе не из страха расстаться с утешительной и успокаивающей привычкой, а из отвращения к легкомыслию, «в начале изучения и труда уже смело провозглашающему последние результаты науки, возводящему в догмат свои догадки, свои шаткие соображения». Я думаю, что здесь вообще не может быть речи о суде и оправдании, потому что, как выразился однажды сам Грановский, взгляд всякого мыслящего человека есть результат развития целой жизни. Но биограф притом и не прав. Среди бумаг Герцена нашлось неизвестное доселе письмо Грановского к Огареву (от начала января 1845 г.), заключающее в себе искреннее и откровенное признание, так ясно изображающее ход развития его верований, совершенно согласно с нарисованной выше картиной, что сомнению не остается места. Привожу его целиком[101 - Оно составляет приписку к огромному письму Герцена от 1–2 января 1845 г., напечатанному в Русской Мысли 1891 г. VI. С. 21–26. Там же напечатаны и первые строки приписки, до слов «такой же минуты»: этими словами начинается новый листок, который не был в распоряжении издателя «Переписки недавних деятелей».].
«Я не люблю писать писем и диссертаций, вот почему я так редко пишу к тебе и так долго остаюсь профессором in spe[102 - В надежде (лат.).]. А между тем мне иногда мучительно хочется поговорить с тобой; думаю: напишу ему то и то, приготовляю в голове огромное послание, но из головы оно не выйдет. Потребность как будто усыплена или не удовлетворена, и я спокойно ожидаю другой такой же минуты. Последнее письмо Герцена задело меня за живое. Я собирался многое написать тебе, и по благородному обычаю написал про себя. Письмо не состоялось. Мне тягостен самый процесс писания, то есть держание пера в руке и пр.
«Странно и досадно! По смерти Станкевича ты и Герцен стали для меня самыми близкими людьми, перед вами обоими мне легче, чем перед другими, раскрывать душу. Узнать меня, кажется, нетрудно, особенно друзьям. Зачем же Герцен так много врет обо мне? Я вылит aus einem Guss[103 - Из одного куска (нем.).] я – романтик и т. д. Все это вздор, но вздор, который мне больно слышать от Герцена. Ему бы можно знать меня покороче. Я – aus einem Guss! Я – весь изорванный и измученный внутренне. Это не фраза. Тебе это известно, может быть. Меня измучили, конечно, не мировые вопросы, а большею частью личные утраты, жизненные опыты, которыми я, без всякого сомнения, богаче всех вас. Я искусственно успокоился от всего в истории и в дружбе. Когда я приехал из Берлина, я не нуждался в jenseits и готов был принять все результаты философии на веру (самый процесс для меня всегда был очень труден даже тогда, когда я занимался логикою при пособии Вердера и Станкевича); я смотрел на эти результаты без страха. Умер Станкевич, умерли сестры, и jenseits стало каким-то постулатом у меня. Многое изменилось во мне от причин чисто-личных. Теперь я отвык совсем от умозрения, я вдался в историю и думаю, что у меня есть призвание к этому делу. Только одно это занятие, этот интерес, с которым, впрочем, так много связано, дает единство моему внутреннему бытию. Да, я понимаю, что от этого я могу показаться посторонним очень ровным, успокоенным в себе человеком. Но Герцен мог бы заглянуть поглубже. Занятие историей, в свою очередь, развило во мне многое и в особенности какой-то скептицизм. Трудно уберечься от него среди этого вечного движения форм и идей. Одно сменяет другое, волна гонит волну. У всякого века была своя истина. Иногда становится грустно и страшно. Я мало читал Спинозу, но из всех философов его одного еще могу читать. Результат всего этого: если бы не было на свете истории, моей жены, всех вас и вина, я, право, не дал бы копейки за жизнь. Я люблю жизнь только за это. Прощай. Журнал не состоялся. Какой же я романтик? Прощай еще раз. Крепко жму тебе руку»[118 - Там же. С. 93–94.].
В этом письме Грановский говорит о двух вещах, которые не следует смешивать: о своих интимных верованиях и своих научных взглядах. Верования свои он и не пытается оправдать или доказать: он прямо заявляет, что они – плод его личного опыта, что они нужны ему, как опора в трудной жизни. Защищает же он только научный скептицизм, основанный на убеждении в относительности и сменяемости добываемых человеком истин. Очевидно, что о причинной связи между его верой и этим скептицизмом нельзя говорить: скептицизм ведет только к отрицанию догматизма и к терпимости, но сам по себе не может порождать положительных верований; он не сеет их семена в душе: он лишь облегчает их рост и упрочение.
К приведенному сейчас письму Герцен сделал такую приписку: «Может, я и в самом деле ошибся с aus einem Gusse, но я, впрочем, не в тех границах употребил это слово, в которых принял Грановский. Дело в том, что он нашел занятие вполне поглощающее, единое, сообразнейшее душе, и глубоко, отчетливо, прекрасно идет по этой дороге. Что касается до обвинения в романтизме – primo это не обвинение, а secundo повтори сам, что ты пишешь о Фролове[104 - В письме от 13 сентября 1844 г. Огарев писал: «… есть границы слабости и силы… Один из самых сильных людей, один из самых близких мне по духу и по душе – Фролов, а иногда и этой силе непереступимая граница. Есть у нас спорные пункты. У него близкое существо на том свете. Случай, несчастие, оскорбление природной святыни душевной заставляют искать jenseits [потустороннего – нем.]. Право, чувство границ, зависимость от случая тревожит меня болезненнее всего на свете» и т. д.[727 - В письме от 13 сентября 1844 г. Огарев писал: «…есть границы слабости и силы… Право, чувство границ, зависимость от случая тревожит меня болезненнее всего на свете» и т. д. – Гершензон М. История одной дружбы… VIII. С. 95.]]. Чту за дело, как и почему какие-то элементы взошли в жизнь: речь идет о том, каков человек есть и побеждено ли им внешнее»[119 - Там же. С. 95.].
Именно так стоит здесь этот вопрос для нас.
VI
Мировоззрение Грановского, рано сосредоточившегося на одной специальной отрасли знания, в своих основных чертах уже окончательно сложилось к 1842 году, когда началась его дружба с Герценом. Последний как раз в это время вступал в последний период своего развития: именно на ближайшие четыре года приходится его знакомство с Фейербахом, изучение Гегеля, решение вопроса об отношении логики к бытию, занятия естественными науками и выход из метафизики к реализму положительной науки. Развитие всякого мыслящего человека сводится к тому, чтобы найти себя в сознании, то есть чтобы выработать себе или отыскать готовыми те сознательные формулы, в которых наиболее полно воплотились бы инстинктивные, врожденные наклонности его духа. В Герцене этот процесс нахождения себя совершился как раз в период 1842—46 гг. В эти годы, когда были написаны статьи о дилетантизме и науке, «Письма об изучении природы», «Крупов» и «По поводу одной драмы»[120 - «О дилетантизме в науке» – 1843 г., «Письма об изучении природы» – 1845, 1846 гг., «Из сочинения доктора Крупова» – 1847 г., «По поводу одной драмы», первая статья цикла «Капризы и раздумье» – 1843 г.], окончательно сложились его нравственно-философские воззрения, в существе оставшиеся неизменными до конца его жизни. Таким образом, те элементы разногласия, которые в начале дружбы, по крайней мере, со стороны Герцена, находились еще в зародыше, к концу этого периода должны были выступить наружу с полной ясностью.
Они не могли не выйти наружу еще и потому, что этого требовал самый характер умственной жизни того круга людей, к которому принадлежали Грановский и Герцен. «Еще бы у нас было неминуемое дело, – говорит Герцен, – которое бы нас совершенно поглощало; а то ведь собственно вся наша деятельность была в сфере мышления и пропаганды наших убеждений… какие же могли быть уступки на этом поле?»[121 - Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 402.] В дневнике он часто возвращается к этой теме, без всякого отношения к своим спорам с Грановским. Он ясно видел, что глубокий, нравственный разрыв с существующим, со всей действительной жизнью, неизбежно должен вести к идиосинкразиям, капризам, нетерпимости: «возможность внутренняя и невозможность внешняя превращает силы в яд, отравляющий жизнь; они загнивают в организме, бродят и разлагаются, отсюда взгляд гнева и желчи, односторонность в самом мышлении»[122 - Герцен А. И. Сочинения. Т. I. С. 199. Дневник 1844 г. Май месяц, 17. В тексте «превращают силы в яд».].
Следовательно, уступок не могло быть и по существу дела, и по болезненно-чуткой настроенности обеих сторон. В особенности уступить не мог Герцен. В назревшей размолвке почин неизбежно должен был исходить от него. Не говоря уже о разнице натур – созерцательной и терпимой натуры Грановского, активной и задорной Герцена, – важно было то, что Грановский отстаивал традиционное воззрение, тогда как Герцен являлся неофитом учения юного, только что выступившего на завоевание и опьяненного своими первыми победами. Это боевое настроение очень сильно сказывается в дневнике Герцена, начиная с 1844 года. Ум от природы преимущественно критический, глубоко-враждебный духу авторитета и всякой туманности мышления, Герцен рано стал, по меткому выражению Анненкова, «неутомимым следователем по части пороков мышления, промахов развития, несообразности действий с их поводами»[123 - П. В. Анненков и его друзья… С. 106.]. Новое, реально-научное направление, которому он отдался теперь, должно было сильно обострить в нем это отвращение к традиционным верованиям, освящаемым общим молчанием, ко всяким непроверенным истинам, и естественно, что борьба против того, что казалось ему ленью или произволом мысли, получила для него в этот период характер священного долга, в осуществлении которого не может быть никаких уступок. Уже в декабре 1844 года, то есть за полтора года до размолвки, он записал в своем дневнике: «Наши личные отношения много вредят характерности и прямоте мнений. Мы, уважая прекрасные качества лиц, жертвуем для них резкостью мысли. Много надобно иметь силы, чтоб плакать и все-таки уметь подписать приговор Камиля Демулена»[124 - Герцен А. И. Сочинения. Т. I. С. 256. Дневник 1844 г. Декабрь месяц, 18. Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 389. В тексте «Былого и дум» – «Камиля Демулен’». В тексте Дневника – «Камиля Де-Мулена!».]. В этой зависти к силе Робеспьера, писал он позднее, уже дремали зачатки злых споров 1846 года. Разрыв действительно стал неизбежным.
В XXXII главе «Былого и Дум» Герцен подробно рассказал историю этого «теоретического разрыва» между ним и Огаревым, с одной стороны, Грановским – с другой; его рассказ пополняется воспоминаниями Анненкова, Панаева и Т. А. Астраковой (в записках Т. П. Пассек)[125 - Анненков П. В. Замечательное десятилетие, гл. XXVII (Впервые – Вестник Европы. 1880. № 4. С. 467–472); Панаев И. И. Литературные воспоминания, гл. V (Впервые – Современник. 1861. № 10. С. 466–467); Воспоминания Т. П. Пассек. 1840–1845 г. (Впервые – Русская Старина. 1877. № 7. С включением воспоминаний Т. А. Астраковой. С. 466–467).]. Разрыв обнаружился летом 1846 года, когда все трое – и Грановский, и Герцен, и только что вернувшийся в Россию после нескольких лет заграничного скитания Огарев – жили на даче в Соколове под Москвою; но он назревал уже года два или больше, как можно видеть и из приведенного выше письма. Герцен рассказывает, что еще прежде, чем им самим стал ясен их раздор, его заметило молодое поколение, совершенно проникнутое реалистическими воззрениями, зачитывавшееся его «Дилетантизмом в науке» и «Письмами об изучении природы», считавшее его и Белинского представителями своих философских мнений и, при всей своей любви к Грановскому, уже начинавшее восставать против его «романтизма». В тиши деревенской жизни, при близости ежедневного общения, разногласие должно было выйти наружу. Оно было слишком существенно, слишком задевало жизненный нерв каждого из участвующих, чтобы даже та горячая любовь, которою они были связаны, могла предотвратить раскол. Каждый теоретический разговор неизбежно приводил к тем же основным вопросам мировоззрения, споры становились все чаще. «Огарев, не видевший меня года четыре, – говорит Герцен, – был совершенно в том направлении, как я. Мы разными путями прошли те же пространства и очутились вместе»[126 - Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 397.]. Грановский, по-видимому, держался оборонительно и старался избегнуть резкого разрыва; почин решающего спора принадлежал Герцену. Он рассказывает, что однажды этим летом, когда разговор опять коснулся щекотливого пункта, он заметил, «что развитие науки, что современное состояние ее обязывает нас к принятию кое-каких истин, независимо от того, хотим мы или нет; что однажды узнанные, они перестают быть историческими загадками, а делаются просто неопровержимыми фактами сознания, как Эвклидовы теоремы, как Кеплеровы законы, как нераздельность причины и действия, духа и материи»[127 - Там же. С. 398.].
– Все это так мало обязательно, – возразил Грановский, – что я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа; с ней исчезает бессмертие души. Может, вам его не надобно, но я слишком много схоронил, чтоб поступиться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо.
– Славно было бы жить на свете, – сказал Герцен, – если бы все то, что кому-нибудь надобно, сейчас и было тут как тут, на манер сказок.
– Подумай, Грановский, – прибавил Огарев, – ведь это своего рода бегство от несчастия.
– Послушайте, – возразил Грановский, бледный и придавая себе вид постороннего, – вы меня искренно обяжете, если не будете никогда со мной говорить об этих предметах. Мало ли есть вещей занимательных и о которых толковать гораздо полезнее и приятнее[128 - Там же. С. 398–399. В тексте «возразил Грановский, слегка изменившись в лице», «Славно было бы жить на свете», – сказал я.].
Этим разговором все было уяснено: «так вот она, межа, – предел и вместе цензура!» Тяжело было так, говорит Герцен, точно кто-нибудь близкий умер[129 - Там же. С. 399. В тексте «Точно кто-нибудь близкий умер, так было тяжело…»]. Как сильна была боль в нем и в Огареве, показывает стихотворение («Искандеру»), сочиненное Огаревым вечером того же дня на дороге в Москву.
Я ехал по полю пустому;
И свеж, и сыр был воздух, и луна
Скучая шла по небу голубому,
И плоская синелась сторона.
В моей душе менялись скорбь и сила,
И мысль моя с тобою говорила.
Все степь да степь! Нет ни души, ни звука;
И еду вдаль я горд и одинок.
Моя судьба во мне. Ни скорбь, ни скука
Не утомят меня. Всему свой срок.
Я правды речь вел строго в дружнем круге —
Ушли друзья в младенческом испуге.
И он ушел – которого как брата
Иль как сестру так нежно я любил!
Мне тяжела, как смерть, его утрата;
Он духом чист и благороден был,
Имел он сердце нежное как ласка,
И дружба с ним мне памятна как сказка.
Ты мне один остался неизменный.
Я жду тебя. Мы в жизнь вошли вдвоем;
Таков остался наш союз надменный!
Опять одни мы в грустный путь пойдем,
Об истине глася неутомимо,
И пусть мечты и люди идут мимо.[130 - Огарев Н. П. Искандеру («Я ехал по полю пустому»), 1846 г., осень.]
Грановский страдал не меньше. Позднее, в половине 1849 года, он писал Герцену за границу: «На дружбу мою к вам двум ушли лучшие силы моей души. В ней есть доля страсти, заставлявшая меня плакать в 1846 г. и обвинять себя в бессилии разорвать связь, которая по-видимому, не могла продолжаться. Почти с отчаянием заметил я, что вы прикреплены к моей душе такими нитками, которых нельзя перерезать, не захватив живого мяса»[131 - См.: ГерценА.И. Былое и думы. Т. II. С. 282–283. Грановский Т. Н. Герцену А.И. 25 августа 1849 г.].
Надо заметить, что теоретическая рознь была обострена в это лето целым рядом мелких недоразумений, бестактностей и взаимных обид, виновником которых в большинстве случаев был, по-видимому, Герцен, но которые вместе с тем обнаруживают напряженно-нервное состояние, в котором находился весь кружок. Явное распадение дружеского круга было одной из главных причин, заставивших Герцена зимою уехать с семьей за границу. Огарев еще осенью поселился в своем пензенском имении.
VII
С Герценом, оставшимся за границей навсегда, Грановский более не виделся; изредка они обменивались письмами, полными горячей взаимной любви, глубокой тоски друг по другу. В Герцене личное раздражение улеглось не скоро. О тоне первых его писем можно судить по ответному письму Грановского от 1847 г.: «Я не отвечал на большую часть твоих писем, потому что они производили на меня нехорошее действие. В них какой-то затаенный упрек, неприязненная arri?re pensеe[105 - Задняя мысль (франц.).], которая поминутно пробивается наружу… Твои прежние насмешки над близкими тебе не были обидны, потому что в них была добродушная острота; но ирония твоих писем оскорбляет самолюбие и более живое и благородное чувство. Не лучше ли было прямо написать к нам, пожалуй, жесткое письмо, если ты не был нами доволен, но ты рассыпал свои намеки в письме к Т.А. (Астраковой) и т. д.; это было нехорошо. Последние дни твои во многом могли доказать тебе, что соколовские споры не ставили следов, и сколько любви и преданности оставил ты за собою… К чему же повторять смешные обвинения в отсутствии деятельной любви, в апатии и пр.»[132 - Грановский Т. Н. Герцену А.И. 1847 г. – Грановский Т. Н. Переписка. Т. II. С. 445–446.]. В Грановском не осталось, по-видимому, и тени горечи: это самое письмо дышит трогательной нежностью, и таковы же все позднейшие его письма. Рознь в убеждениях, ложившаяся пропастью между ним и Герценом, мучила его, и он как будто старался уверить себя, что она исчезла; в том письме 1849 г., из которого выше приведена выдержка, он пишет, вспоминая соколовские споры: «Время это прошло не без пользы для меня. Я вышел победителем из худшей стороны самого себя. Того романтизма, за который вы обвиняли меня, не осталось следа»[133 - Гершензон М. История одной дружбы // Научное слово. 1903. Кн. IX. С. 52 (далее: История одной дружбы… IX).]. До самой смерти лелеял он надежду увидеться с другом и еще осенью 1853 года называл ее своей лучшей, отраднейшей мечтой. Многое в заграничных писаниях Герцена было ему не по сердцу, но это не умаляло его любви. Писем Герцена к нему мы не знаем, но в «Былом и Думах» Герцен говорит: «… Если время доказало, что мы могли розно понимать, могли не понимать друг друга и огорчать, то еще больше времени доказало вдвое, что мы не могли не разойтись, ни сделаться чужими, – что на это и самая смерть была бессильна»[134 - Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 282. В тексте «если время доказало».]. Он рассказывает, что получил письмо с известием о смерти Грановского, идя в Ричмонде на железную дорогу. Он прочитал его на ходу и сразу не понял, потом точно в просонках сел в вагон и без мысли смотрел на входивших и выходивших; его клонил тяжелый сон и ему было страшно холодно. В Лондоне он встретил Таландье; здороваясь с ним, он сказал, что получил дурное письмо, и, как будто сам только что услышал весть, не мог удержать слез. «Мало было у нас сношений в последнее время, – говорит он в заключение, – но мне нужно было знать, что там, вдали, на нашей родине живет этот человек»[106 - В ненапечатанном письме Герцена к Е. Ф. Коршу от 27 декабря 1855 г., хранящемся в Московском Румянцевском музее, читаем: «Много, очень много оборвалось нитей, связывавших меня с Русью, вместе с жизнью нашего друга… Я думал в случае моей смерти прислать Сашу (сына) к Грановскому и хотел ему писать об этом. Теперь и это лопнуло»[728 - Гершензон М. История одной дружбы… IX. С. 53.]][135 - Там же. С. 286. В тексте «этот человек!».].
С Огаревым, осенью 1846 года уехавшим в деревню, Грановский в ближайшие годы поддерживал, кажется, деятельную переписку; во всяком случае, их отношения оставались братски-дружественными по-прежнему. Но позднее, уже в начале 50-х годов, между ними сверх теоретической размолвки возникли тяжкие недоразумения чисто-личного свойства, главным образом, из-за недружелюбного отношения Грановского и других московских друзей ко второй жене Огарева Н. А. Огаревой-Тучковой, в чьих воспоминаниях читатель и может найти кое-какие подробности этой грустной истории[136 - Огарева-Тучкова Н. А. Воспоминания. Глава VI (впервые – Русская Старина, 1890. Кн. X).]. Целая сеть пересудов, сплетен и взаимных обид опутала и надолго разъединила друзей. Нам нет надобности останавливаться на этом эпизоде; я приведу только для полноты фактического материала те, не бывшие еще в печати, немногочисленные письма из этого времени, которые находятся в моем распоряжении. Следующее письмо Огарева, черновик которого нашелся среди бумаг Герцена, относится, без сомнения, к 1854–1855 гг.
«Грановский!
«В животе и смерти Бог волен», говорит пословица. На простом языке это значит, что не сегодня – завтра умрешь. Грустно умереть или знать, что ты умер, не примирившись. Вследствие этого пишу; выйдет ли письмо длинно или коротко – черт знает! но мне надо высказаться, и потому слушай терпеливо.
«Во время оно, при последнем нашем свидании, ты обвинял меня и мою жену в насильственном браке близких мне людей. Было ли это обвинение сделано на основании только сентиментальных данных или с примесью какого-нибудь враждебного влияния, – это все равно. Обвинение было сделано, несмотря на то, что ты сам мог понять его нелепость. Другое дело Кетчер, который по патологическому состоянию мозга взялся разыгрывать роль procureur durai[107 - Королевского прокурора (франц.).] в отношении к своим друзьям; но от тебя я этого не ожидал. На Кетчера смешно сердиться, но и выносить нелепые оскорбления смешно. Я с ним внутренне разошелся с 1847 года, когда он взвел нелепую клевету на Наташу Герцен со слов Силиньки. Я его жалею и люблю и готов на всякое примирение без объяснений и без права с его стороны на дальнейшие оскорбления; с моей же стороны оскорблений быть не может именно потому, что я его люблю и жалею.