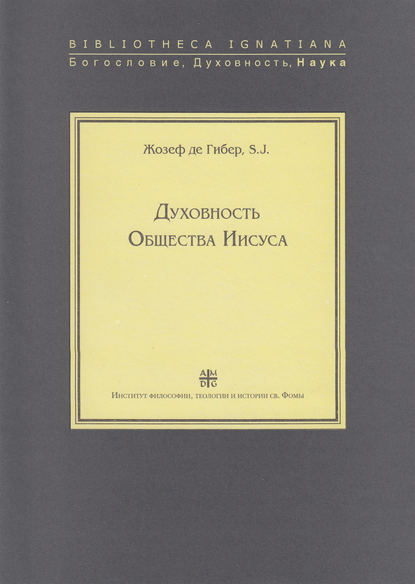По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Духовность Общества Иисуса
Автор
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Какое представление дают нам все эти документы о духовной жизни Игнатия, достигшей своей полноты?
Мистическая жизнь
Прежде всего нужно признать, что перед нами жизнь мистическая в самом точном смысле этого слова, душа, ведомая Богом стезями излиянного созерцания в той же мере, что и душа св. Франциска Ассизского или св. Иоанна Креста, хотя и по-другому. Чтобы осознать это, достаточно выделить в этих текстах характерные особенности излиянного созерцания. Они одинаково описываются богословами, хотя по-разному ими объясняются. Это переживание присутствия Божия в форме знания, обобщенного и неясного, но одновременно богатого и насыщающего; переживание любви, пронизывающей душу и овладевающей ею до самой сокровенной ее глубины, любви, которой душа бессильна противостоять; ощущение бессилия перед всемогущим действием Божиим; полное неумение вызывать, продлевать или возобновлять эти переживания и даже предвидеть их начало и конец; неумение передавать пережитое обычным языком и в особенности давать более или менее ясное представление об этом тому, кто еще не испытывал ничего подобного…[66 - См. мою книгу Theologia spiritualis, Rome, 1937, п. 382–384. Scr. de S. Ign., I, p. 472: Acta quaedam…]
Один из людей, знавших Игнатия наиболее близко, Херонимо Надаль, считает, что особый дар его состоял в умении «во всех вещах, действиях и беседах ощущать и созерцать присутствие Божие и сохранять любовь к вещам духовным, оставаясь созерцателем даже в действии (simul actione contemplativus)». В другом месте Надаль говорит о его «постоянном сосредоточении (actuatioperpetua spiritus), таком, что ему нарочно приходилось отвлекаться и заниматься другими вещами»[67 - MHSI, Epist. Nadal, IV, p. 651.]. Рибаденейра, в свою очередь, слышал, как святой в 1554 г. сказал, что «насколько он может судить, он не смог бы жить без утешения, то есть не чувствуя в себе чего-то, что не исходит и не может исходить от него самого, но всецело зависит от Бога»[68 - Scr. de S. Ign., I, p. 349 et 399 (deActis, n. 31; Dicta etfacta, n. 33); ibid., p. 367 (de Actis, n. 63).]. Рибаденейра прибавляет: «Невероятно, с какой легкостью отец наш умел сосредоточиться даже в гуще дел, словно бы, так сказать, имел под рукой дух благоговения и слезных потоков». Гонсалвиш да Камара также многократно отмечает это постоянное видение Бога и непрестанную молитву в круговороте повседневной жизни[69 - Memoriale, n. 175 et 183, Scr. de S. Ign., I, p. 241 et 244; Pontes Narr, I, p. 635, 638: yparece claramente que no solo imagina tener a Dios delante, mas que lo vede con los oyos («и представляется ясным, что он не просто представляет себе, что перед ним Бог, но видит Его глазами»).].
Те же свидетели единодушно отмечают наряду с этим непрестанным ощущением присутствия Божия, что питало и поддерживало душу Игнатия, еще более всепоглощающую власть действия Божия, которую Игнатий начинал чувствовать, как только всецело предавался молитве в своей комнате или в часовне, власть такой силы, что он не мог уже усмирять реакции своего организма. «На мессе, – говорит Надаль[70 - Acta quaedam., Scr. de S. Ign., I, p. 472 et 475. Индульт Павла III, воспроизведенный там же, I, p. 552, относится к январю 1539 г., то есть полтора года спустя после рукоположения в июне 1537 г. и всего через несколько недель после первой мессы в Рождество 1536.], – он обретал великие утешения и крайнюю чувствительность к Божественному; по временам ему приходилось даже пропускать мессу, потому что потрясение было так велико, что ослабляло и подрывало силы и здоровье…». Что до прочих богослужений, тот же свидетель говорит нам, что после своего рукоположения Игнатий «по причине обилия духовных утешений, внутренних чувств и слёз испытывал такие трудности, что был вынужден посвящать этим службам большую часть дня, и его здоровье и физические силы значительно от этого страдали; поскольку же найти какое-либо средство против этих трудностей представлялось невозможным, но, напротив, они, казалось, возрастали день ото дня», его товарищи испросили для него у Павла III разрешения заменить уставные часы определенным числом «Отче наш» и «Радуйся, Мария». И Надаль добавляет: «Но даже при чтении этих молитв он часто бывал вне себя от силы духа и благодати». Лаинесу Игнатий сообщает, «что располагает благодатью утешения и небесных посещений настолько свободно, что, как он сказал, пожелай он находить Бога сверхъестественным путем десять раз в день и даже еще чаще, он, с Божией помощью, мог бы делать это с легкостью, но между тем обыкновенно от этого воздерживается по причине вреда (nocumentum) таких божественных посещений для его тела и припадает устами к сему неиссякаемому источнику не чаще раза в день; тем самым тело его не ослаблялось чрезмерно, а дух подкреплялся – несомненно, не так, как ему бы хотелось, но настолько, насколько это было необходимо человеку, столь занятому и надломленному болезнью»[71 - Рассказано deActis, п. 39, Scr. de S. Ign., I, p. 353.]. Дневник за 1544 г. в точности подтверждает это свидетельство, показывая нам, как Игнатий ежедневно во время мессы отдается сему божественному действию.
Тогда он служит мессу каждый день за редким исключением по причине болезни. Позже, когда силы его убыли, он уже мог служить мессу лишь изредка. В 1555 г. Камара отмечает[72 - Memoriale, п. 183, р. 244, et п. 194, р. 250; Fontes Narr., I, p. 638, 643.] «великий урон, который несет его тело, когда он слушает или служит мессу, не будучи крепок; и даже когда он крепок, мы видели, что в день после мессы он бывает болен». В тот же период он мог служить мессу только «по воскресеньям и праздничным дням». Это подтверждает и Оливье Манар, который был тогда в Риме: «Месса его длилась немногим больше часа, потому что частые вознесения духа и слезы мешали ему. Еще одним большим препятствием служила его слабость; поэтому несколько месяцев я почти каждый день служил для него в его отдельной часовне»[73 - Responsio ad Lancicii postulatu, I, n. 8, Scr. de S. Ign., I, p. 511.].
Камара нам говорит[74 - Memoriale, n. 179, Scr. de S. Ign., p. 242; Fontes Narr., I, p. 637.], что во времена, когда он был его министром, Игнатий, встав поутру, сразу принимался «читать “Радуйся, Мария”, что заменяло ему богослужение; завершив это, он входил в часовню по соседству со своей комнатой, чтобы слушать мессу в те дни, когда не служил ее сам. После мессы он два часа предавался молитве; в это время, дабы его не беспокоили, он распоряжался, чтобы все, что в это время поступит для него в привратницкую, передавали мне, ибо я замещал его как министр». Если же какие-то наиболее важные дела Гонсалвиш приносил ему прямо в часовню, то заставал его углубленным в Бога совершенно иначе, чем это бывает со всеми прочими набожными людьми, которых ему часто приходилось видеть молящимися[75 - Это частое переживание божественного присутствия, не исчезающее даже в гуще хлопот, вкупе с моментами, когда, отдаваясь божественному влиянию, Игнатий оказывается всецело в его власти, представляет собой интересную особенность, близкую, вопреки глубоким различиям между двумя мистическими опытами, тому, что говорит св. Иоанн Креста о преобразующем союзе, в особенности в «Живом пламени» (IV, 4 ss.), повествуя о пробуждениях Бога в его душе, о recuerdos («воспоминаниях»), если воспользоваться словом, которое один раз встречается в дневнике Игнатия рядом со словом intelligencias («постижения»), которое он применяет очень часто, подразумевая умственные видения (Journal, 19 fеvrier, p. 100, 61).].
Фрагменты дневника за 1544 г. завершают и уточняют эти свидетельства[76 - Цитируя «Дневник», я указываю вместе с номером страницы строку в издании MHSI, Const, I. – На предмет различных слов и выражений читателю рекомендуется обращаться к «предметному указателю» на с. 425–430 указанного издания, например, к с. 427 на предмет слова intelligencias, intelligentiae.]. Здесь часты выражения, которыми автор пытается передать пережитой им самим и в то же время невыразимый аспект обретенных озарений. Например, 19 февраля на мессе он обрел постижения об «усвоении» молитв, когда говорят с Отцом, с Сыном и т. д., о действии Божественных Лиц и об Их исхождении, и все это он «скорее чувствовал или видел, нежели разумел» (mas sentiendo о viendo que entendiendo) (с. 101, 35). 21 февраля он «узнал, почувствовал или увидел (Dominus scit)», что каждое из трех Лиц есть в каждом другом (с. 102, 29). 27 февраля он «почувствовал или, точнее, увидел, за пределами естественных сил, Пресвятую Троицу и Иисуса, Который точно также представлял или помещал меня либо был посредником при Пресвятой Троице, чтобы это умозрительное видение мне передалось. При этом чувстве и видении нахлынули слезы и любовь». И ниже он прибавляет, что, когда писал это, его «разум испытал влечение увидеть Пресвятую Троицу, и увидел, хотя и не так отчетливо, как прежде, три Лица» (с. 108, 83 слл.).
Часто Игнатий подчеркивает эту невозможность выразить пережитое: 15 февраля у него были такие постижения, «что и не описать» (с. 94, 92). 25 февраля он «чувствовал и видел такое, что невозможно так объяснить» (с. 129, 69). 17 марта каждое слово, которым он именовал Бога, проникало в него «так глубоко, со столь дивным преклонением и почтительным смирением, что, кажется, и объяснить невозможно» (с. 129, 69). 2 апреля он пишет о постижениях «столь сильных и утонченных, что не могу найти ни памяти, ни разумения, чтобы суметь растолковать или разъяснить их» (с. 13, 84). Такое подчеркивание невыразимости этих милостей тем более примечательно, что святой не пытался объяснить их тому, кто никогда не обретал их. Он делал записи для самого себя и хотел всего лишь найти такие выражения, которые бы потом оживили в нем самом воспоминание. Такой способ выражения мыслей, чтобы он сам смог потом понять себя с полуслова.
Полным властителем этих даров остается Бог. Игнатий здесь не противоречит тому, что сказал Лаинесу о легкости, с какой находит Бога благодатным путем так часто, как пожелает, и об ограничениях, которые соблюдает, припадая к сему источнику. Но, хотя это по-прежнему верно в целом, он замечает, что не всегда может по своему желанию уклоняться от божественных проникновений, как и останавливать свой выбор на предмете, связывающем его с этими милостями. 8 марта он «старался не возвышать очи разумения горе и быть полностью удовольствованным; более того, просил о том, чтобы к равной славе Божией слёзы меня не “посещали”. Тем не менее несколько раз разумение мое возвышалось горе безответно, и казалось, что вижу нечто такое из Божественного Существа, чего в другое время и при желании не способен был увидеть» (121, 52). Подобным же образом 6 марта перед ним «предстало то же Самое Божественное существо, так что не увидеть Его я не мог». Несколько позже в том же месте он пишет, что желал «увидеть прежнее и искал, но ничего не было» (с. 118, 70 слл.).
Эти общие замечания о мистической жизни Игнатия можно завершить двумя его признаниями, которые на первый взгляд удивляют, но, принадлежа человеку, столь привыкшему взвешивать каждое слово (это подчеркивают все очевидцы, и об этом повсеместно свидетельствуют его выражения, сложные из-за предосторожностей), предполагают исключительную глубину и высоту божественных даров.
Лаинесу он признался, что, «прочтя жития множества святых, если только в их жизни не было на самом деле больше, чем написано, он не согласился бы с легкостью обменяться с ними тем, что сам ощутил и вкусил от Бога, хотя он не набрался бы отваги предпочесть им себя или дерзости сравнивать себя с малейшим из них – он, не святой, но грешный и ничтожный»[77 - В de Actis, п. 333, Scr. de S. Ign., I, p. 349; cf. Dicta et facta, n. 31, p. 398.].
Рибаденейре, простодушно сказавшему ему в ответ на слова об обретенных милостях, что не знающий его может узреть в его словах тщеславие, Игнатий ответил, «что никакого греха не боится он меньше этого; более того, вопрошая себя, назвал ли он сотую или пятисотую часть даров, что обрел от Бога, он заключил, что это не была и тысячная часть, ибо ему казалось, что говорить о них не подобает; он имел в виду, что слышащие их бы не поняли». Рибаденейра добавляет: «Он имел обыкновение говорить, что не верит, что в ком-то еще могут сочетаться, как в нем, две вещи: с его стороны такой грех, со стороны же Бога такое обилие даров… Он желал, когда грешит, испытывать некое страдание, физическое или духовное, например, лишение даров, утешений и т. д., но этого не происходило, и, напротив, ему казалось, что Бог посещает его тем больше»[78 - Dicta et facta, п. 7–8, Ibid., p. 395.]. Лишь изучив более тщательно заметки Духовного дневника 1544 г., мы сможем в какой-то мере понять значение этих странных слов в устах человека, столь сдержанного в своих выражениях. В то же время мы помним об основных особенностях мистической жизни этого святого в годы его правления Обществом в Риме.
Особенности игнатианской мистики[79 - H. Rahner, Die Mystik des hi. Ignatius und der Inhalt der Vision von La Storta, ZAM, 10 (1935), p. 202–220.]
В этом дневнике она предстает нам как мистика, главным образом, тринитарная и евхаристическая, с точки зрения объекта; скорее как мистика служения любви, чем как мистика любовного единения, с точки зрения общей ориентации; скорее как итог божественного действия на всю человеческую жизнь, умственную и физическую, чем как мистика самоуглубления, с точки зрения психологической.
Это, прежде всего, мистика тринитарная и евхаристическая. В 1553 г., диктуя свою автобиографию Гонсалвишу да Камаре, Игнатий заметит по поводу своих видений Троицы в Манресе, что с тех пор он «с крайним благоговением почитал Святейшую Троицу и потому каждый день молился трём Лицам по отдельности». И заключит словами о том, что «на всю жизнь у него осталось это впечатление от чувства великого благоговения при молитве Святейшей Троице»[80 - n. 28, p. 58.]. Было бы трудно, я думаю, обнаружить больший мистический расцвет этого чувства, чем тот, который угадывается в дневнике за 1544 год. Этот расцвет материально осязаем: на 50 страницах издания Monumenta, содержащих подробности обретенных милостей, мы находим 170 пассажей, относящихся к Троице. Но исключительно значима не столько частота этих упоминаний, не столько даже количество месс, отслуженных Троице[81 - В первые шесть месяцев Дневника (со 2 февраля по 4 июля) Игнатий часто отмечает, какую мессу он совершил (позже он перестает это делать); из 116 указаний такого рода мы находим 30 на мессу Троице, 20 – на мессу Имени Иисуса или другую мессу в честь Христа, 9 – на мессу Святому Духу, 16 – Пресвятой Деве.], сколько место этой тайны среди излиянных милостей, дарованных святому. Из отрывков, которые он обвел чернилами, потому что в них описываются важнейшие дары (частично эти отрывки были переписаны на мадридский листок), дюжина описывает видения Троицы, а еще четыре касаются Иисуса, Христа-Человека, в роли Посредника Троицы.
Очень разнообразны сообщенные Игнатию «постижения», связанные с этой тайной. 11 февраля он «ощутил или увидел» Святого Духа, но не мог так «ни увидеть, ни ощутить ни одно из двух других Божественных Лиц» (с. 91, 15). 27 февраля он видит себя погруженным в лоно явленной Пресвятой Троицы ему, хотя и различает «не так отчетливо, как прежде, три Лица» (с. 108, 85; 109, 8). 28 он видит человеческую природу Иисуса «у ног Пресвятой Троицы» (с. 109, 20). 29 он обретает постижение «трех Лиц, и в Отце – Второго и Третьего» (с. 110, 30).
В других местах божественная Сущность являет Себя в Своем единстве: 3 марта он благоговеет перед Пресвятой Троицей, не видя «так, как в прошлые дни, Лица по отдельности», но чувствуя, «будто бы в какой-то светлой ясности, одну Сущность». Его благоговение направляется «к Пресвятой Троице, без “узнаваний” или узрений трех Лиц по отдельности: просто восприятие или представление Пресвятой Троицы». И он прибавляет: «Точно так же несколько раз чувствовал то же самое, устремляясь к Иисусу[82 - Когда в Своих заметках св. Игнатий говорит об Иисусе, контекст ясно показывает, что речь идет о человеческой природе Христа; именно она выше явилась ему «у ног Пресвятой Троицы».], как будто нахожусь в Его тени, как будто Он ведет меня; но благодать от Пресвятой Троицы не уменьшалась: напротив, казалось, что еще теснее соединяюсь с Его Божественным Величеством. И на молитвах к Отцу не мог и не чувствовал желания обрести благоговение – разве что всего несколько раз, когда другие Лица представлялись мне в Нем, так что опосредованно или непосредственно все обращалось к Пресвятой Троице» (с. 118, 88 слл). 6 марта, на словах Те igitur во время мессы, святой видит «не тускло, а ясно, и очень ясно, Само Божественное Существо, или Сущность, в виде шара <…>, и из этой Сущности показывался или происходил (yr о deribar) Отец, так что на словах «Тебя», то есть «Отец», Божественная Сущность предстала мне раньше Отца» (с. 117, 40). В тот же день после мессы имеет место то же видение Божественной Сущности в виде шара, но на этот раз с Тремя Лицами, Которые все выходили или происходили (saltan о se derivavan) из Сущности, «не выходя за пределы шарообразного видения» (с. 116, 63)[83 - Рассматривать здесь вопрос о том, какому богословскому объяснению в рамках той или иной богословской системы, рассматривающей «самобытность» (subsistances) в Троице, поддаются образы, описанные св. Игнатием – довольно-таки озадачивающие, в особенности образ Отца, выходящего или происходящего из Божественной Сущности, – было бы делом долгим и не слишком полезным. Как будет сказано ниже по поводу психологических особенностей этих видений, перед нами здесь, как кажется, не образные видения, в которых образы порождены прямым воздействием Бога на чувства святого, но видения умственные, где вспомогательные образные элементы – лишь продукт реакции, порожденной откликом чувств на прямое воздействие Бога на разум, или, лучше сказать, очень несовершенные попытки передать, что постигает разум под влиянием этого божественного воздействия. С этого момента ничто уже не мешает чертам чисто человеческого происхождения, несовершенным или даже не столь неукоснительно точным, проникать в эти образы и в данном случае тем легче, что, вопреки серьезности своего обучения в Париже, Игнатий не был профессиональным богословом.]. 10 марта его вновь посещает видение Сущности и Отца, сначала Сущности, а потом Отца, «то есть, – добавляет он, – устремлялось благоговение сначала к Сущности, а затем к Отцу» (с. 122, 89 слл.).
В нескольких из приведенных текстов уже обозначилась еще одна черта этих видений: явное преобладание Троицы, Которая повсюду предстает здесь как средоточие всего. Душа Игнатия видит или ощущает человеческую природу Христа, Пресвятую Деву, святых, но всегда явно как посредников и заступников, чья главная роль – вести его к Троице, испрашивать для него благосклонность или прощение Трех Божественных Лиц. Слова intercessores и mediatores встречаются в его заметках множество раз.
23 февраля, во время подготовки к мессе, святой чувствует побуждение следовать Иисусу. Ему представляется: поскольку Иисус – глава Общества, это самый веский довод в пользу того, чтобы принять, по Его примеру, полную бедность, – и ему кажется, что «это некоторым образом дело Пресвятой Троицы, явление Иисуса или его ощущение», что напоминает ему видение в Ла Сторте, когда «Отец поместил меня вместе с Сыном» (с. 122, 89 слл.). На следующий день он чувствует, что утверждение, которое он желал получить от Пресвятой Троицы по поводу своего выбора относительно бедности, передано ему через Сына (с. 106–107). Он молит Иисуса получить для него прощение у Троицы, за то что несколько дней назад проявил к ней недостаток почтения[84 - 12 февраля (с. 92, примечание, отрывок был затем вычеркнут) он прервал благодарственную молитву, обращенную к Троице, чтобы встать и заставить людей прекратить шум, который раздавался в соседней комнате и мешал ему.]. 25, на мессе, в молитвах, обращенных к Отцу, он чувствует, что Иисус «представляет или препровождает произносимые им молитвы к Отцу» (с. 107, 43).
15 февраля, после оплошности, упомянутой чуть выше, он краснея просит заступничества у Пресвятой Девы и чувствует, что Отец доволен тем, что за него молится Мария, «видеть Которую я не мог». На мессе он «чувствовал и видел», что Пресвятая Дева ходатайствует перед Отцом; это чувство сопровождает его в молитвах к Отцу и Сыну, и он не может не чувствовать, что это благодаря Ей к нему приходят все обретаемые им милости, и не знать при освящении, что Ее плоть – в Ее Сыне, «с такими постижениями, что и не описать» (с. 94, 72 слл.).
Мистика Игнатия является не только тринитарной, но и в высшей степени евхаристической. Однако не в том смысле, что в ней мы находим столь же многочисленные озарения по поводу этой тайны, какие только что отметили в связи с тайной Троицы. В Манресе, как мы видели, у него были великие евхаристические просветления; в «Дневнике» мы не находим ничего подобного. Единственное «постижение», связанное с этой тайной, – только что процитированное, обретенное 15 февраля. Можно присовокупить к нему «мысль или суждение» от 10 марта «о том, что, исполняя обязанность служить Мессу, мне нужно действовать или быть как ангел» (с. 122, 88); и это все. Зато ежедневная месса является очевидным средоточием милостей, которые он отмечает весь остаток дня. Пробуждение[85 - Снова и снова мы находим записи о дарах, полученных святым тогда, когда он после пробуждения молился в постели, прежде чем встать; например, 12 февраля (с. 91, 26), 16 (с. 97, 59), 16 (с. 98, 90)… Это обстоятельство интересно тем, что обнаруживает его привычку непрестанно молиться, как только дела позволяли ему оставить все и не думать ни о чем, кроме Бога.] и подъем с мыслью о мессе, молитва и внутреннее приготовление к мессе, приготовление алтаря и облачения, начало мессы и различные ее части, благодарственная молитва – вот моменты, с которыми связано огромное большинство отмеченных им милостей. И даже те, что он обретает в течение дня, почти всегда представляются продолжением или завершением утренних. В первой части рукописи нет ни дня, когда бы в записях Игнатия явно не упоминалась связь обретенных даров с мессой[86 - Исключение 12 февраля – лишь видимость (с. 91, 26): упоминание мессы этого дня находилось в отрывке, позднее вычеркнутом и воспроизводимом в примечании к с. 92.]. Во второй части, где, начиная с 13 марта, записи становятся более краткими и наконец, в конце мая, сводятся почти полностью к упоминаниям обретенных слёз, эти пометки делаются всегда и представлены алгебраическими значками, предваряющими записи каждого дня и означающими связь этих даров с мессой: «перед, на, после».
Приведенные примеры позволяют заметить: озарения относительно Троицы касаются Лиц, к Которым обращены, к Которым «применяются» молитвы мессы, тех Лиц, которые связаны со словами этих молитв. Днем 25 февраля дары, связанные со святым человечеством Христа и обретенные после беседы с кардиналом Карпи, продолжают дары мессы (с. 106, 17). То же происходит и 4 марта с дарами, с озарениями о Троице, обретенными у кардинала Бургоса, а потом на улицах (с. 114, 62), и 6 марта с видениями Божественной Сущности, посещавшими Игнатия в базилике св. Петра: ему предстает «все в том же светлом цвете <…> То же Самое Божественное Существо» и «точно так же», как и прежде, во время его собственной мессы (с. 118). Таким образом излиянные дары, которыми Бог щедро осыпает Игнатия, предстают сосредоточенными на жертвоприношении Христа, а главное место занимает в них Пресвятая Троица.
Если, рассмотрев их предмет, мы остановимся на их природе, их общей направленности, то заметим, прежде всего, следующее: в жизни этого святого ни дары познания, даруемые разуму, ни дары любви, даруемые воле, не пользуются ярко выраженным перевесом. Мы уже отмечали многочисленные и великие озарения, в особенности связанные с Троицей; дары излиянной любви не кажутся ни менее многочисленными, ни менее достойными восхищения. В воскресенье мясопуста, 17 февраля, во время мессы и в особенности во время чтения послания дня (2 Кор 11, 19 слл.), он проливает обильные слезы, не чувствуя «ни постижений, ни различий в Лицах или в чувствованиях по отношению к ним, но сильнейшую любовь, жар и великую усладу в Божественном, с весьма возросшим душевным утешением» (с. 97, 70). 4 марта он, в частности, просматривает «Входное песнопение» (Introitum) мессы, «весь подвигнутый ко благоговению и любви, устремляясь к пресвятой Троице». Потом, во время подготовки к мессе, он «залился слезами, зарыдал и ощутил столь сильную любовь, что показалось, будто чрезвычайно тесно приблизился к Его любви [к Пресвятой Троице], столь светлой и сладостной, что подумалось: это насыщенное “посещение” и любовь отмечены особо и выделяются из числа других “посещений”». Когда он вошел в часовню и облачился, он «в огромном изобилии залился слезами, зарыдал и ощутил сильнейшую любовь, все из любви к Пресвятой Троице». В начале мессы от изобилия слёз он чувствует в одном глазу такую боль, что опасается его испортить… В конце, говоря: «Placeat tibi, Sancta Trinitas», – он ощущает «чрезвычайно сильную любовь», заливается «обильными слезами» и замечает, что все дары, обретенные до и во время мессы, «устремлялись к Пресвятой Троице, вознося и увлекая меня к ее любви». После мессы, когда он молится у престола, то переживает «такие сильные рыдания и излияния слёз, целиком устремляющиеся к Пресвятой Троице, что подумалось: не хочу подниматься с колен, чувствуя такую любовь и такую духовную сладость». Таким образом, если мы пожелаем обратиться к старинному делению созерцательных душ на серафические и херувимские, в зависимости от того, направляет ли их Бог при помощи излиянных даров, затрагивающих более явно и непосредственно волю либо разум, то не сможем отнести св. Игнатия ни к одной из этих двух категорий. Скорее, мы сможем причислить его к третьей, прибавленной монсеньером Содро, категории под названием «души ангельские». В этих душах излиянные дары сосредоточиваются не только для того, чтобы связать с Богом лишь чисто духовные способности человека. Они затрагивают и способности конкретные и практические, память и воображение и тем самым, посредством этих способностей и непосредственно, побуждают человека не только к единению, но и к служению[87 - A. Saudreau, Les Degres de la vie spirituelle, ed. 6, Paris-Angers, 1935, t. 2, n. 477–485. Мосеньер Содро относит св. Игнатия к мистикам серафическим вместе со св. Франциском Ассизским; мне же кажется, что, если мы сохраним его деление на три группы, то можно без колебаний отнести нашего святого к третьей, образцового представителя которой он видит в св. Павле.].
Очень заметной и отчетливой чертой дневника Игнатия, как и всех имеющихся у нас документов о его внутренней жизни, является полное отсутствие того, что можно было бы назвать «брачным» аспектом мистического союза. В Упражнениях (353 и 365) он будет представлять нам Церковь как Невесту Христа, но нигде он не рассматривает душу как невесту Бога, Христа. Нигде то единение с Троицей и Иисусом, которое он описывает всевозможными способами и представляет как нечто глубоко интимное, не рассматривается им как духовный брак. Не предстает это единение и как преобразующий союз, расплавляющий жизнь души в жизни Бога, некоторым образом заставляющий нашу собственную жизнь исчезнуть в жизни обитающего в нас Христа. Ничто в нашем святом не напоминает лиризм «Духовной песни» или «Живого пламени» св. Иоанна Креста: не только великолепный поэтический дар кармельского учителя полностью отсутствует в основателе Общества; самой сущности мыслей, изложенных на страницах его сочинений, этого пылающего стремления к равенству любви, к совершенному единству в полной наготе духа, этого предвосхищения присутствия Возлюбленного за завесой, что становится все тоньше и тоньше, этого движения к ясному видению – всех этих характерных черт мистики св. Иоанна нет и следа в заметках Игнатия.
Напротив, во всех его отношениях с божественными Лицами, со Христом преобладает смиренный и исполненный любви взгляд служителя, забота о том, чтобы различить тончайшие нюансы того служения, которого Он жаждет, великодушное стремление исполнить желаемое всецело и совершенно, чего бы то ни стоило, в радостном порыве любви, но в то же время с глубоким чувством бесконечного величия Бога и Его трансцендентной святости. Таким образом, более двадцати лет спустя мы снова находим те мысли о возвышенном служении величайшему из Учителей, Чья благодать уже отрешила от мира раненого из Памплоны.
Очень значима с этой точки зрения вся первая часть «Дневника», со 2 февраля по 12 марта, полностью занятая размышлениями о бедности церквей Общества: должна ли последняя исключать всякий твердый доход, не только на содержание обетников, но также и на богослужебные расходы церквей домов обетников[88 - О том, какой именно вопрос был предметом этих размышлений, и о его важности см. MHSI, Const., I, р. 35–37 (примечание).]? Сорок дней Игнатий, со своей стороны, сам будет применять все советы, которые дает в Упражнениях для совершения хорошего выбора, для постижения воли Божией в определенном вопросе. Но милости, которые будут дарованы ему в это время, пусть безвозмездные (gratuites) и излиянные, также будут устремлены к одной цели: к различению воли Божией. Главное место в этих размышлениях занимает, согласно второму времени выбора в Упражнениях (176), опыт внутренних движений, которые тщательно записываются с первых же дней: 2 февраля обилие благоговения и слёз, и все склоняет скорее к «ничто», к тому, чтобы не иметь ничего; то же происходит 3, 4, 5, 6, и 7 февраля. Игнатий преподносит Богу свое решение не принимать никакого имущества для церквей и отмечает обретенные милости в качестве его подтверждений, например, 10 февраля (с. 89, 66). В соответствии с тем, что советует своим упражняющимся, он не довольствуется одним каким-нибудь указанием, но хочет обрести достаточную ясность (asaz claridad) в своих переживаниях, он просит долго и настойчиво, он обращается к своим Посредникам, чтобы они упросили Бога ясно утвердить его решение. Такая мольба, пылкая, порой тревожная, почти нетерпеливая, об обретении сего божественного утверждения займет большую часть записей за эти сорок дней и 12 марта, пройдя сквозь потемки и искушения, завершится последним излиянием света и бесповоротным решением, отмеченным написанным жирным шрифтом словом «Finido» (с. 125, 70)[89 - Существует и другой пример благодатных размышлений Игнатия, изложенных в общих чертах в его письме к Франциску Бордже от 5 июня 1552 г. (Epist. S. Ign., IV, p. 283), на предмет замысла Юлия III произвести Франциска в кардиналы по просьбе Карла V; cf. Suau, p. 271.].
Ту же общую ориентацию обнаруживает ряд постижений (lumieres) и ощущений в начале второй части «Дневника», связанных со смиренным преклонением перед божественным Величием. 14 марта со множеством слёз и с обычным благоговением, устремлявшимся то к Отцу, то к Сыну, Игнатий чувствует, как душу его пронизывает мысль о том, с «каким почтением и преклонением (reverencia у acatamiento) должен я, идя на Мессу, именовать Господа Бога нашего», и о том, что искать следует не слёз, а сего почтения и преклонения. Он отдается этому чувству преклонения, исходящему не от него, но от Бога, что лишь усиливает благоговение и слезы. Он убежден, что «это и есть тот путь, который Господь хотел мне указать, когда в прошлые дни я думал, что Он хочет показать мне что-то; и потому, служа Мессу, я убедился, что эта благодать и познание более способствует духовному преуспеянию моей души, нежели все прежние» (с. 127, 11 слл.). Этот дар излияного преклонения сохраняется и в следующие дни: слова acatamiento, reverencia, umildad каждый день повторяются в его записях с 14 по 27 марта. 30 марта свет проливается на любовный характер этого преклонения: оно должно порождаться не страхом, но любовью (с. 131, 38). 4 апреля святой отмечает, что «не обретая почтения или преклонения, исполненного любви, нужно искать преклонения, исполненного страха, взирая на собственные промахи, чтобы достичь того преклонения, что исполнено любви» (с. 133, 95). Это размышление подсказано, несомненно, тем, что накануне, 3 апреля, ни до мессы, ни на ней, ни после нее у него не было слёз, каковое лишение он принял со смирением и упованием, в то время как 4 апреля смог отметить изобилие слёз, постижений и внутренних чувств.
Мы можем спросить, не обусловлена ли эта устремленность мистических даров, описанных в дневнике, к служению, поиску и исполнению воли Божией, прежде всего, особыми обстоятельствами, в которых Игнатий писал эти заметки. Но если сопоставить друг с другом все указания, какие дают нам наблюдения, которые мы уже сделали и еще сделаем впереди, мне представляется несомненным, что здесь перед нами постоянная особенность божественного воздействия на душу Игнатия, пребывающая в полном согласии со всем, что известно о его духовной жизни начиная с первых ее шагов. Это покажут нам и дальнейшие наблюдения, которые мы сделаем на основании Упражнений, Конституций и переписки, где мысль о служении Богу, стяжании Его славы, знании и исполнении Его воли направляет и подчиняет себе все. Таким образом, советы и методы святого представляются нам, прежде всего, отголоском тех даров, посредством которых Бог, Своим произволением, задал твердое направление его собственной духовной жизни, а также их практическим переложением для других. Так, например, тройная беседа в Упражнениях, когда мы должны просить у Марии, Христа и Отца необходимой для Упражнений благодати, – что она, как не транспозиция мистических милостей, о которых мы ведем речь?
Мистики любви не исключают разума (lumieres), а мистики разума не исключают любви. Ни те, ни другие не исключают и не забывают служения Богу, плода и необходимого следствия единения. Так и мистический путь Игнатия не исключает единения с Троицей посредством веры и любви во Христе. Но как другим мистикам придает их особый характер свет разума (lumiere) или пламя любви, так особое лицо мистики Игнатия образует великодушное и смиренное служение, исполненное любви, в котором, как в едином центре, сходятся, сосредоточиваются и концентрируются все великолепные излиянные дары, которыми он наделен.
Кроме того, если бы потребовалось, психологические особенности этих даров могли бы подтвердить, что перед нами не мистика самоуглубления, единения с Богом в самой глубине души, так далеко, как только возможно, от всего чувственного, но божественное воздействие, объемлющее всю душу целиком, со всеми ее способностями, какие только могут быть поставлены на службу Богу.
Психология игнатианской мистики
Даже попытка начертить мистический путь Игнатия представляется невозможной: вехи его слишком часто отсутствуют, детальные же сведения есть у нас лишь о двух частях этого пути, о Манресе и Риме в 1544 г., когда писался «Дневник». Однако можно с уверенностью утверждать: каким бы ни был в тайниках души святого этот путь, это, несомненно, была стезя все более полного самоотречения, все более совершенного владения своими страстями и всей чувственной (sensible) частью своей души. Но это отнюдь не был путь постепенного освобождения, все большего бегства за пределы чувственного, и в этом смысле он отличался от того типа духовного пути, который можно назвать «дионисийским».
Поэтому в обретаемых им милостях, даже самых возвышенных, до самого конца его жизни относительно заметную роль играло воображение, чувственность, телесные реакции. И так же до конца жизни эти излиянные дары соседствовали с такими усилиями и делами, которые возникает соблазн всецело отнести лишь на долю простого аскетизма (ascese elementaire).
Мы уже слышали от святого, что он сдержанно отдается божественному воздействию, которое может ощутить в любой момент, дабы окончательно не исчерпать свои силы и не разрушить свое здоровье. Дневник 1544 г. дает нам несколько конкретных примеров этого воздействия излиянных даров на организм. 8 февраля Игнатий чувствует, что оказался пред Отцом, и в этот миг волосы его встают дыбом, и он ощущает «сильнейший жар» во всем теле (с. 88, 47). 19 февраля он чувствует, что грудь его сдавлена из-за сильной любви (с. 100, 62). Часто он отмечает жар, обыкновенно жар внутренний, духовный, но иногда также, например, 9 марта, «внешний жар, вызывающий благоговение и веселость ума» (с. 122, 67), а 14 апреля «сильный жар, внутренний и внешний, кажется, скорее сверхъестественный, и без слёз» (с. 134, 25).
И в высказываниях Игнатия о Манресе, и в приведенных выше отрывках дневника несколько раз встречаются примеры очень простых образных видений, в частности, 6 марта «Божественная Сущность в виде шара, чуть большего, чем тот, каким предстает Солнце», и вновь, после мессы, «то же самое <…> шарообразное видение», и в базилике св. Петра «все в том же светлом цвете <…> То же Самое Божественное Существо, и ночью, когда он писал свои заметки, он «увидел нечто разумением, хотя по большей части не столь ясно и не так отчетливо, и не в таком величии, но как будто крупная искра (centella grandecilla) предстала разумению», предмет, притянувший к себе разумение и показавший, что он – То же Божественное Существо, которое Игнатий созерцал и прежде.
Если бы речь здесь шла об образных видениях в собственном смысле этого слова, где Бог являет душе истину, разъясняя ее посредством образов, трудно было бы понять, почему Бог избрал образы столь несовершенные и бедные. И, прежде всего, не было бы никакой соразмерности между образами и производимым ими интеллектуальным обогащением, какое отмечает святой: 19 февраля его «разумение прояснилось настолько [относительно Троицы], что ему подумалось: даже при усердном учении я не усвоил бы так много <…>, даже если бы учился всю жизнь» (с. 100, 70). Игнатий не указывает на то, что его богатые постижения во время мессы сопровождались какими-либо образами, но добавляет, что потом, в течение дня, даже когда он шел по городу, ему с великой внутренней радостью представлялась Пресвятая Троица, «Которую видел то как трех разумных существ, то как трех животных, то как три другие вещи, и так далее» (с. 101, 87). В своих «Правилах распознавания духов»[90 - Для второй недели, правило 8, Exercitia, п. 336.] он сам предупреждает нас, чтобы мы заботливо различали то, что является прямым воздействием Бога на нашу душу, и те реакции, которые могут быть следствием наших привычек, предрассудков и т. д. Представляется, что здесь как раз подходящий случай для применения этого принципа. От Бога исходит интеллектуальное постижение (lumiere) и излиянная любовь к Его божественным Лицам. Образные элементы, сопровождающие эти постижения и эту любовь, – всего лишь результат этой непроизвольной реакции чувственной части души на божественное воздействие, воспринятое частью духовной. И бедность их – проявление особенностей воображения самого Игнатия, столь же слабого в создании символических образов, сколь сильного в представлении конкретных жизненных ситуаций.
Та же тенденция передавать при помощи очень простых выражений чувственного порядка явления в высшей степени духовные проявляется и в том, какие определения дает Игнатий благоговению и прочим милостям, которые он обретает. 6 марта «благоговение <…> с отменной сладостью и ясностью, смешанной с цветом»; 18 февраля некое благоговение «жаркое и как будто бы красноватое». Мы видели, что это ощущение жара встречается у него очень часто. Напротив, ощущение прикосновения, столь обычное у других мистиков, встречается у него только раз, 4 марта, когда он отмечает «в высшей степени ощутимые прикосновения (tocamientos)» (с. 114, 42)[91 - Заметим, что это не слово toques, распространенное у св. Иоанна Креста.].
Насколько можно об этом судить по имеющимся у нас документам, божественные известия (communications divines), обретаемые св. Игнатием, почти всегда имели форму простых видений. Наиболее известным исключением являются здесь знаменитые слова, услышанные в Ла Сторте. Другим исключением является, возможно (если только речь не идет здесь о харизме еще более непонятного характера), милость, отмечаемая в «Дневнике» с 11 по 28 мая и обозначенная латинским (не испанским) словом «loquela», дар loquela («говора»), данный свыше (divinitus). 11 мая он говорит нам о двойном «говоре» – внутреннем и внешнем, и о «такой внутренней гармонии относительно внешнего “говора”, что и не расскажешь». На следующий день он отмечает «внутренний “говор” с такой сладостью, что подобен был небесному “говору” или музыке»; благоговение возрастает «со слезами от чувства того, что чувствовал или усваивал свыше». 13 мая внутренний «говор» дивен и сильнее, чем в предыдущие дни. 22 его посещают сомнения относительно «вкуса или сладости “говора”: не под действием ли злого духа прекратилось духовное “посещение” слезами? Ему показалось, что он слишком услаждается «тоном “говора”, т. е. его звучанием, не слишком обращая внимание на значение слов и “говора”» (с. 139, 38). Слезы возвращаются, он успокаивается и действительно продолжает отмечать этот «говор» до 28 мая. Чем был этот «говор», внутренний и внешний, приятный для слуха, словно музыка, который в то же время обладает смыслом и наставляет Игнатия? Идет ли речь о внутренних словах, обычных в мистике, но, как мы сказали, мало привычных, как кажется, для Игнатия? Возможно. В любом случае, дар этот остается неясным.
Но самым необычным и поистине озадачивающим в мистической жизни Игнатия, в особенности в том, что открывает нам его «Дневник», является то место, какое занимают в ней слезы, дар слёз. В первой части рукописи, за сорок дней, со 2 февраля по 12 марта, слезы упоминаются 175 раз, или в среднем более четырех раз в день; во второй части с 14 марта появляются алгебраические пометки (а 1 d, потом О С Y), к которым впредь, вплоть до 27 февраля 1545 г., будут сводиться заметки, ежедневно отмечающие присутствие, изобилие или отсутствие слёз до мессы, на ней и после нее, на молитве, в комнате или в часовне; с конца мая более развернутые записи исчезают и на оставшиеся девять месяцев «Дневник» превращается в реестр, в котором тщательно регистрируется этот дар слёз. Добавим, что упоминание о слезах 26 раз сопровождается упоминанием рыданий (sollozos); четырнадцать раз отмечается, что слезы мешают святому говорить: например, 3 марта в начале мессы он испытывает все мыслимые трудности, когда пытается начать и сказать «In nomine Patris»; иногда изобилие слёз таково, что он опасается потерять зрение, если продолжит служить мессу, например, 5 февраля, 4 марта, а также 5, 6, 7 и 21 октября.
Таков факт в своей материальной действительности, факт, которому я не знаю подобных в католической литературе. Если католическая традиция всегда с большим почтением относилась к слезам и к сокрушению (сокрушению из страха и сокрушению из любви) и с еще большим – к мистическому дару слёз[92 - Некоторое количество текстов собрано в исследовании о. Ж. Навателя (J. Novatel), La devotion sensible, les larmes et les Exercices. Enghien, 1920 (CBE, n. 64); среди старинных трактатов самыми развернутыми мне представляются три книги св. Роберта Беллармина (Roberto Bellarmino), De Gemitu columbae sive de Bono lacrymarum. Rome, 1617: I, о необходимости слёз; II, источники; III, плоды, – хотя святой распространяется здесь, прежде всего, о слезах боли и достаточно мало о слезах любви, II, 10; см. также Lopez Ezquerra, Lucerna mystica (1961), tr. 5, с. 15, подробно говорится об излиянном даре слёз и его различных формах; Бенедикт XIV, De Servorum Dei Beatif., III, с. 26, п. 10–11; Theophile Raynaud, Heteroclita spiritualia, I, sect. 2, p. 5, n. 20 ss., etd. О слезах как «выражении мистического чувства» у св. Августина см. замечания А. Мандуза в VieSpir., LX(1939), p. 34–55.], то мне не кажется, что кто-то из святых, будь то мужчина или женщина, на деле отводил им подобное место[93 - Между тем может быть небезынтересно отметить то значительное место, какое отводит слезам в своем «Искусстве созерцания» бл. Раймунд Луллий, (cf. RAM, 6/1925/, p. 373–377, и мой труд Etudes de theologie mystique. Toulouse, 1930, p. 305–309), сходство которого с Игнатием в отдельных моментах неоднократно отмечалось, например, Е. Allison Peers, Studies of the Spanish Mystics, I, London, 1927, p. 4 ss.].
Истолковывать этот факт как учащение слёз вследствие болезненного, старческого ослабления нервной системы или же проявление чрезмерно эмоциональной натуры, не способной совладать со своими чувствами, объяснять заботливое наблюдение святого за своими слезами детской иллюзией ценности чисто физиологического явления – гипотеза удобная[94 - Такова гипотеза M. Баумгартена (М. Baumgarten) в Zeitschr. F. Kirchengesch., 56 (1937), p. 405–408; в его глазах Игнатий – натура болезненно эмоциональная и наивная, принимающая самые банальные явления за видения, плачущая при всяком удобном случае, разделяющая свойственное определенным кругам той эпохи увлечение слезами, которые считались неотъемлемой частью благоговения, теряющаяся в деталях и бесконечных замечаниях о вещах самых незначительных… То, что здоровье Игнатия было шатким и часто плохим, факт известный; в частности, письмо римских общников к общникам испанским конца 1543 г. свидетельствует о том, что в это время он вынужден был по слабости здоровья переложить на них свою переписку (Epist. S. Ign., 1.1, p. 285), и действительно за 1544 г. в издании мы находим лишь три записки и фрагмент письма (ibid., р. 291 ss.), куда меньше, чем за предыдущие и последующие годы; его забота о деталях, о наблюдениях, о заметках – черта не менее известная и объединяет его с людьми весьма великими, например, с Наполеоном; то, что он обладал очень живой чувствительностью, несмотря на необычайное самообладание, о каковом свидетельствует каждая страница «Мемориала» Гонсалвиша да Камары, к коему отсылает нас о. М.Б., вещь несомненная, и это показывает нам «Дневник»… Но целая пропасть отделяет все эти факты от слабости духа, недостатка силы и инфантильного иллюминизма, каковые приписывает Б. основателю Общества Иисуса, чьи очевидные дела и влияния, засвидетельствованные во всех документах, стали бы тогда самой неразрешимой загадкой.], но не выдерживающая никакой серьезной проверки. Игнатий никогда не считался ни слабоумным, ни неврастеником: друзья и недруги единодушно видят в нем сильную личность с железной волей, управляемой твердым рассудком. Самих его дел достаточно, чтобы это засвидетельствовать: в 1544–1545 гг. в разгаре работа по организации и расширению Общества; это момент основания первых коллегий, а сам Игнатий учреждает в Риме Casa Santa Marta (дом св. Марфы) и собирается основать Римскую коллегию и Германикум…
С другой стороны, известно недоверие святого к любителям видений и осязаемых даров: достаточно вспомнить его письмо от июля 1549 г. к Франциску Бордже на тему телесных откровений Овьедо и Онфруа, письмо, написанное Поланко, но проверенное и исправленное им самим[95 - Epist. S. Ign., XII, p. 633–654. [Letters Ign., p. 195–211].]. В частности, по поводу слёз можно обратиться к письму от 22 ноября 1553 г., которое Поланко отправил от лица Игнатия о. Николасу из Гауды: «Дара слёз не нужно просить как такового: он не обязателен и не для всякого человека хорош и подходящ сам по себе… У некоторых он есть, потому что натура их такова, что переживания высшей части их души вызывают реакции в части низшей, или же потому, что Бог, видя, что этот дар им подходит, дает им его; но от этого они не начинают любить сильнее или творить больше блага, чем другие люди, лишенные этих слёз, хотя в высшей части души они любят не меньше… И я говорю Вашему Преподобию, что некоторым, даже если бы наделить их этим даром было в моих силах, я бы его не дал, потому что эти слезы не умножают в них любовь, но наносят ущерб их телу и уму, тем самым препятствуя некоторым делам любви»[96 - Ibid., V, p. 513. [Letters Ign., p. 211–212].].
Но если слезы обладают, таким образом, ценностью второстепенной, почему они занимают такое значительное место в «Дневнике»? Я, со своей стороны, вижу лишь одно правдоподобное объяснение, и состоит оно в следующем допущении: у Игнатия, будь то по причине темперамента или по произволению Божию, как напоминает только что приведенное письмо, материальное явление слёз действительно было связано с определенными излиянными милостями, духовными и внутренними дарами, которые были для него исключительно ценны; тем самым, бесчисленные заметки о слезах имели целью напомнить ему, когда и при каких обстоятельствах эти милости были ему оказаны[97 - Это объяснение не противоречит учению, изложенному выше: 16 марта (с. 127, 35) он просит: «…что же касается “посещений” или слёз, то пусть они не будут мне даны, если это столь же послужит Его Божественному Величеству, или пусть я наслаждаюсь его благодатными дарами и “посещениями” в чистоте и бескорыстно». В то же время, на следующий день, он понимает, что Божественная воля в том, чтобы он прилагал усилия к обретению этих даров. Таким образом, он ясно ощущает опасность привязанности к этим дарам и в то же время не менее ясно видит, что воля Божия в том, чтобы он искал их.].
И это не голословная гипотеза. В письме Бордже от 20 сентября 1548 г. святой различает три вида слёз: слезы, вызванные мыслью о наших и чужих грехах; слезы, вызванные созерцанием тайн жизни Христовой; наконец, слезы, порожденные любовью к Божественным лицам. Эти, последние, наиболее совершенны сами по себе, хотя для каждого лучшими являются те, «посредством которых Господь наш Бог главным образом с ним общается, делясь с ним Своими святейшими дарами и духовными милостями». 14 марта в «Дневнике» он говорит о слезах, «устремлявшихся то к Отцу, то к Сыну, то – и т. п., и также ко святым, однако без каких-либо видений, но лишь так, что благоговение устремлялось то к одному, то к другому» (с. 126, 6); 11 мая слезы «показались мне весьма, весьма отличны от всех прошлых, ибо протекали так медленно, внутренне, сладостно, без шума или сильных порывов, что казалось, будто исходят они настолько изнутри, что и объяснить невозможно» (с. 137, 85). Таким образом, представляется, что для Игнатия существовала тесная связь, почти равнозначность между слезами и внутренними дарами, чьим проявлением они являлись.
Почему в своих заметках Игнатий отмечает, столь щедро в начале и почти исключительно в дальнейшем, скорее слезы, чем духовные милости, которые они означали? Для простоты, ибо слово это имело для него хорошо известный и очень богатый смысл и одним штрихом напоминало ему о целом комплексе внутренних состояний? Возможно, хотя вопрос остается непроясненным. Но каковы бы ни были объяснения, неизменным остается сам факт этих слёз, непрестанных и тщательно подмечаемых, в жизни, исполненной высочайшего созерцания, факт причудливый и особенный.
Просуществовал ли этот факт, столь ясно засвидетельствованный в 1544 г., вплоть до смерти святого? Представляется, что нет, если придерживаться свидетельства Гонсалвиша да Камары и Рибаденейры. Первый говорит нам в своем «Мемориале», что Игнатий «имел обыкновение плакать столь беспрерывно, что, если во время мессы не плакал трижды, то считал себя обделенным утешением… Врач велел ему не плакать больше, и он послушался; и выказывая в этом послушание, как он обыкновенно делает в подобных вещах, он обретает без слёз много больше утешений, чем прежде. Это отец наш доверил о. Поланко, судя по тому, что сказал мне доктор Олаве»[98 - Memoriale, п. 183, Scr. deS. Ign., I, p. 244; FontesNarr., I, p. 638–639.]. Рибаденейра, со своей стороны, говорит нам, что Игнатий, несмотря на вред, который эти слезы причиняли его здоровью, не мог смириться с необходимостью их прекратить, опасаясь тем самым остановить и поток божественных утешений, но в конце концов все-таки уступил требованиям врачей, утешения же, напротив, лишь умножились[99 - de Actis, n. 43, Scr. de S. Ign., I, p. 335: Cum lacrymarum vi maxima abundaret, et cosolationem illae eximiam spiritui et debilitatem corpori aff erent (aliquando namque prope orbatus oculis est lacrymarum fl uxu), et spiritus suavitatem corporis sanitati praeff erret, timeretque ne, si lacrmas cohiberet, tanta illa ac tam affl uens divinae consolationis dulcedo minueretur, tandem ratione et consilio medicorum victus, sibi a lacrymis temperavit, easque quasi habenis regebat, ut cum vellet prae devotione fl eret, cum nollet abstineret. Sed tamen tanta postea subsecuta est consolationis divinae abundantia, ut oculorum ariditas infl uentem gratiam non reprimeret, sed magis augeret.]. Можно не соглашаться с тем, как Рибаденейра толкует ощущения своего отца, говоря нам, что он ставил духовные наслаждения выше сохранности здоровья, ибо такой образ мыслей плохо согласуется с вышеупомянутыми наставлениями, но сам факт, что он преградил путь потоку слёз из-за вмешательства врачей, следует принять. Тем самым, то положение дел, которое являет нам «Дневник» за 1544 г., как кажется, не оставалось неизменным до конца, во всяком случае в том, что касается изобилия слёз, ибо мы уже видели, что с ослаблением сил Игнатия последствия божественных утешений и милостей для его организма отнюдь не уменьшились, но, напротив, возросли настолько, что ему пришлось служить мессу уже не каждый день, как было еще в 1544 г., но только «по воскресеньям и праздничным дням»[100 - Есть и другие особенности, которые следовало бы отметить, например, утешение, которое дает Игнатию музыка и песни, и даже телесное облегчение, которое он в них находит (Memoriale, п. 177–178, Scr. de S. Ign., I, p. 242; Fontes Narr., I, p. 636–637; deActis, n. 29, p. 348); а также факт, сообщаемый Рибаденейрой (Dicta etfacta, I, п. 16, 17, 20, p. 396), что определенное телесное благополучие помогало ему находить Бога, что заставило его понять, что воля Божия в том, чтобы он заботился о своем здоровье.].
Упорный аскетизм
Другой чертой внутренней жизни нашего святого является следующее: самые незаурядные излиянные дары до самого конца жизни сосуществовали в нем с аскетическими делами, которые многие сочли бы пригодным только для новичков.
Во-первых, это применение различных испытаний совести вплоть до конца его жизни. Мы уже слышали свидетельство Лаинеса в 1547 г. о том, что он заботливо сравнивал «неделю с неделей, месяц с месяцем, день с днем, ища всякий день преуспевать»[101 - Scr. de S. Ign., I, p. 127; Fontes Narr., I, p. 140.]. Рибаденейра уточнит: «Он всегда придерживался этого обычая испытывать свою совесть каждый час и спрашивать себя с пристальным вниманием, как этот час прошел. Если же в конце часа он вспоминал о деле более важном или о занятии, препятствующем сему благочестивому упражнению, он откладывал испытание совести, но в первую же свободную минуту или в следующий час восполнял эту отсрочку». Затем следует часто упоминаемый поступок: ни с того ни с сего святой спрашивает у встреченного им отца, сколько раз за этот день он уже совершил испытание совести, когда же тот отвечает, что семь, то он говорит: «Так мало?» – хотя день еще только начался[102 - de Actis, n. 42, Scr. de S. Ign., I, p. 354; Fontes Narr, II, 345.]. Гонсалвиш да Камара подтверждает, что на протяжении всех последних лет своей жизни каждый час дня, а также каждый час ночи, когда не спал, Игнатий совершал испытание совести[103 - Memoriale, n. 24, Scr. de S. Ign., I, p. 164; Fontes Narr, I, p. 542.]. И это испытание было не просто взглядом на то, сколь совершенно или несовершенно исполнял он свои дела, но также смиренным поиском провинностей, в которые он впадал. И вновь нам свидетельствует об этом Рибаденейра в заметке 1554 года. Игнатий настолько боялся малейшей тени греха, что часто ему случалось анализировать с величайшей заботой, не допустил ли он какого-либо прегрешения в делах, где, казалось бы, не было и следа провинности: в мимолетной мысли, в легком потакании воле или других малейших деталях, в которых мы бы ничего не нашли даже при самом тщательном рассмотрении. «Я узнал от него самого, что однажды он позвал своего духовника, дабы исповедаться в одном прегрешении: в том, что он открыл трем отцам изъян некоего отца, в то время как для избавления его от его затруднений хватило бы сказать и двум, а между тем затруднения его были многочисленны и уже небезызвестны этому третьему отцу, и этот разговор не мог ухудшить его мнение о том человеке»[104 - de Actis, п. 41, Scr. de S. Ign., I, p. 354.].
Мистическая жизнь
Прежде всего нужно признать, что перед нами жизнь мистическая в самом точном смысле этого слова, душа, ведомая Богом стезями излиянного созерцания в той же мере, что и душа св. Франциска Ассизского или св. Иоанна Креста, хотя и по-другому. Чтобы осознать это, достаточно выделить в этих текстах характерные особенности излиянного созерцания. Они одинаково описываются богословами, хотя по-разному ими объясняются. Это переживание присутствия Божия в форме знания, обобщенного и неясного, но одновременно богатого и насыщающего; переживание любви, пронизывающей душу и овладевающей ею до самой сокровенной ее глубины, любви, которой душа бессильна противостоять; ощущение бессилия перед всемогущим действием Божиим; полное неумение вызывать, продлевать или возобновлять эти переживания и даже предвидеть их начало и конец; неумение передавать пережитое обычным языком и в особенности давать более или менее ясное представление об этом тому, кто еще не испытывал ничего подобного…[66 - См. мою книгу Theologia spiritualis, Rome, 1937, п. 382–384. Scr. de S. Ign., I, p. 472: Acta quaedam…]
Один из людей, знавших Игнатия наиболее близко, Херонимо Надаль, считает, что особый дар его состоял в умении «во всех вещах, действиях и беседах ощущать и созерцать присутствие Божие и сохранять любовь к вещам духовным, оставаясь созерцателем даже в действии (simul actione contemplativus)». В другом месте Надаль говорит о его «постоянном сосредоточении (actuatioperpetua spiritus), таком, что ему нарочно приходилось отвлекаться и заниматься другими вещами»[67 - MHSI, Epist. Nadal, IV, p. 651.]. Рибаденейра, в свою очередь, слышал, как святой в 1554 г. сказал, что «насколько он может судить, он не смог бы жить без утешения, то есть не чувствуя в себе чего-то, что не исходит и не может исходить от него самого, но всецело зависит от Бога»[68 - Scr. de S. Ign., I, p. 349 et 399 (deActis, n. 31; Dicta etfacta, n. 33); ibid., p. 367 (de Actis, n. 63).]. Рибаденейра прибавляет: «Невероятно, с какой легкостью отец наш умел сосредоточиться даже в гуще дел, словно бы, так сказать, имел под рукой дух благоговения и слезных потоков». Гонсалвиш да Камара также многократно отмечает это постоянное видение Бога и непрестанную молитву в круговороте повседневной жизни[69 - Memoriale, n. 175 et 183, Scr. de S. Ign., I, p. 241 et 244; Pontes Narr, I, p. 635, 638: yparece claramente que no solo imagina tener a Dios delante, mas que lo vede con los oyos («и представляется ясным, что он не просто представляет себе, что перед ним Бог, но видит Его глазами»).].
Те же свидетели единодушно отмечают наряду с этим непрестанным ощущением присутствия Божия, что питало и поддерживало душу Игнатия, еще более всепоглощающую власть действия Божия, которую Игнатий начинал чувствовать, как только всецело предавался молитве в своей комнате или в часовне, власть такой силы, что он не мог уже усмирять реакции своего организма. «На мессе, – говорит Надаль[70 - Acta quaedam., Scr. de S. Ign., I, p. 472 et 475. Индульт Павла III, воспроизведенный там же, I, p. 552, относится к январю 1539 г., то есть полтора года спустя после рукоположения в июне 1537 г. и всего через несколько недель после первой мессы в Рождество 1536.], – он обретал великие утешения и крайнюю чувствительность к Божественному; по временам ему приходилось даже пропускать мессу, потому что потрясение было так велико, что ослабляло и подрывало силы и здоровье…». Что до прочих богослужений, тот же свидетель говорит нам, что после своего рукоположения Игнатий «по причине обилия духовных утешений, внутренних чувств и слёз испытывал такие трудности, что был вынужден посвящать этим службам большую часть дня, и его здоровье и физические силы значительно от этого страдали; поскольку же найти какое-либо средство против этих трудностей представлялось невозможным, но, напротив, они, казалось, возрастали день ото дня», его товарищи испросили для него у Павла III разрешения заменить уставные часы определенным числом «Отче наш» и «Радуйся, Мария». И Надаль добавляет: «Но даже при чтении этих молитв он часто бывал вне себя от силы духа и благодати». Лаинесу Игнатий сообщает, «что располагает благодатью утешения и небесных посещений настолько свободно, что, как он сказал, пожелай он находить Бога сверхъестественным путем десять раз в день и даже еще чаще, он, с Божией помощью, мог бы делать это с легкостью, но между тем обыкновенно от этого воздерживается по причине вреда (nocumentum) таких божественных посещений для его тела и припадает устами к сему неиссякаемому источнику не чаще раза в день; тем самым тело его не ослаблялось чрезмерно, а дух подкреплялся – несомненно, не так, как ему бы хотелось, но настолько, насколько это было необходимо человеку, столь занятому и надломленному болезнью»[71 - Рассказано deActis, п. 39, Scr. de S. Ign., I, p. 353.]. Дневник за 1544 г. в точности подтверждает это свидетельство, показывая нам, как Игнатий ежедневно во время мессы отдается сему божественному действию.
Тогда он служит мессу каждый день за редким исключением по причине болезни. Позже, когда силы его убыли, он уже мог служить мессу лишь изредка. В 1555 г. Камара отмечает[72 - Memoriale, п. 183, р. 244, et п. 194, р. 250; Fontes Narr., I, p. 638, 643.] «великий урон, который несет его тело, когда он слушает или служит мессу, не будучи крепок; и даже когда он крепок, мы видели, что в день после мессы он бывает болен». В тот же период он мог служить мессу только «по воскресеньям и праздничным дням». Это подтверждает и Оливье Манар, который был тогда в Риме: «Месса его длилась немногим больше часа, потому что частые вознесения духа и слезы мешали ему. Еще одним большим препятствием служила его слабость; поэтому несколько месяцев я почти каждый день служил для него в его отдельной часовне»[73 - Responsio ad Lancicii postulatu, I, n. 8, Scr. de S. Ign., I, p. 511.].
Камара нам говорит[74 - Memoriale, n. 179, Scr. de S. Ign., p. 242; Fontes Narr., I, p. 637.], что во времена, когда он был его министром, Игнатий, встав поутру, сразу принимался «читать “Радуйся, Мария”, что заменяло ему богослужение; завершив это, он входил в часовню по соседству со своей комнатой, чтобы слушать мессу в те дни, когда не служил ее сам. После мессы он два часа предавался молитве; в это время, дабы его не беспокоили, он распоряжался, чтобы все, что в это время поступит для него в привратницкую, передавали мне, ибо я замещал его как министр». Если же какие-то наиболее важные дела Гонсалвиш приносил ему прямо в часовню, то заставал его углубленным в Бога совершенно иначе, чем это бывает со всеми прочими набожными людьми, которых ему часто приходилось видеть молящимися[75 - Это частое переживание божественного присутствия, не исчезающее даже в гуще хлопот, вкупе с моментами, когда, отдаваясь божественному влиянию, Игнатий оказывается всецело в его власти, представляет собой интересную особенность, близкую, вопреки глубоким различиям между двумя мистическими опытами, тому, что говорит св. Иоанн Креста о преобразующем союзе, в особенности в «Живом пламени» (IV, 4 ss.), повествуя о пробуждениях Бога в его душе, о recuerdos («воспоминаниях»), если воспользоваться словом, которое один раз встречается в дневнике Игнатия рядом со словом intelligencias («постижения»), которое он применяет очень часто, подразумевая умственные видения (Journal, 19 fеvrier, p. 100, 61).].
Фрагменты дневника за 1544 г. завершают и уточняют эти свидетельства[76 - Цитируя «Дневник», я указываю вместе с номером страницы строку в издании MHSI, Const, I. – На предмет различных слов и выражений читателю рекомендуется обращаться к «предметному указателю» на с. 425–430 указанного издания, например, к с. 427 на предмет слова intelligencias, intelligentiae.]. Здесь часты выражения, которыми автор пытается передать пережитой им самим и в то же время невыразимый аспект обретенных озарений. Например, 19 февраля на мессе он обрел постижения об «усвоении» молитв, когда говорят с Отцом, с Сыном и т. д., о действии Божественных Лиц и об Их исхождении, и все это он «скорее чувствовал или видел, нежели разумел» (mas sentiendo о viendo que entendiendo) (с. 101, 35). 21 февраля он «узнал, почувствовал или увидел (Dominus scit)», что каждое из трех Лиц есть в каждом другом (с. 102, 29). 27 февраля он «почувствовал или, точнее, увидел, за пределами естественных сил, Пресвятую Троицу и Иисуса, Который точно также представлял или помещал меня либо был посредником при Пресвятой Троице, чтобы это умозрительное видение мне передалось. При этом чувстве и видении нахлынули слезы и любовь». И ниже он прибавляет, что, когда писал это, его «разум испытал влечение увидеть Пресвятую Троицу, и увидел, хотя и не так отчетливо, как прежде, три Лица» (с. 108, 83 слл.).
Часто Игнатий подчеркивает эту невозможность выразить пережитое: 15 февраля у него были такие постижения, «что и не описать» (с. 94, 92). 25 февраля он «чувствовал и видел такое, что невозможно так объяснить» (с. 129, 69). 17 марта каждое слово, которым он именовал Бога, проникало в него «так глубоко, со столь дивным преклонением и почтительным смирением, что, кажется, и объяснить невозможно» (с. 129, 69). 2 апреля он пишет о постижениях «столь сильных и утонченных, что не могу найти ни памяти, ни разумения, чтобы суметь растолковать или разъяснить их» (с. 13, 84). Такое подчеркивание невыразимости этих милостей тем более примечательно, что святой не пытался объяснить их тому, кто никогда не обретал их. Он делал записи для самого себя и хотел всего лишь найти такие выражения, которые бы потом оживили в нем самом воспоминание. Такой способ выражения мыслей, чтобы он сам смог потом понять себя с полуслова.
Полным властителем этих даров остается Бог. Игнатий здесь не противоречит тому, что сказал Лаинесу о легкости, с какой находит Бога благодатным путем так часто, как пожелает, и об ограничениях, которые соблюдает, припадая к сему источнику. Но, хотя это по-прежнему верно в целом, он замечает, что не всегда может по своему желанию уклоняться от божественных проникновений, как и останавливать свой выбор на предмете, связывающем его с этими милостями. 8 марта он «старался не возвышать очи разумения горе и быть полностью удовольствованным; более того, просил о том, чтобы к равной славе Божией слёзы меня не “посещали”. Тем не менее несколько раз разумение мое возвышалось горе безответно, и казалось, что вижу нечто такое из Божественного Существа, чего в другое время и при желании не способен был увидеть» (121, 52). Подобным же образом 6 марта перед ним «предстало то же Самое Божественное существо, так что не увидеть Его я не мог». Несколько позже в том же месте он пишет, что желал «увидеть прежнее и искал, но ничего не было» (с. 118, 70 слл.).
Эти общие замечания о мистической жизни Игнатия можно завершить двумя его признаниями, которые на первый взгляд удивляют, но, принадлежа человеку, столь привыкшему взвешивать каждое слово (это подчеркивают все очевидцы, и об этом повсеместно свидетельствуют его выражения, сложные из-за предосторожностей), предполагают исключительную глубину и высоту божественных даров.
Лаинесу он признался, что, «прочтя жития множества святых, если только в их жизни не было на самом деле больше, чем написано, он не согласился бы с легкостью обменяться с ними тем, что сам ощутил и вкусил от Бога, хотя он не набрался бы отваги предпочесть им себя или дерзости сравнивать себя с малейшим из них – он, не святой, но грешный и ничтожный»[77 - В de Actis, п. 333, Scr. de S. Ign., I, p. 349; cf. Dicta et facta, n. 31, p. 398.].
Рибаденейре, простодушно сказавшему ему в ответ на слова об обретенных милостях, что не знающий его может узреть в его словах тщеславие, Игнатий ответил, «что никакого греха не боится он меньше этого; более того, вопрошая себя, назвал ли он сотую или пятисотую часть даров, что обрел от Бога, он заключил, что это не была и тысячная часть, ибо ему казалось, что говорить о них не подобает; он имел в виду, что слышащие их бы не поняли». Рибаденейра добавляет: «Он имел обыкновение говорить, что не верит, что в ком-то еще могут сочетаться, как в нем, две вещи: с его стороны такой грех, со стороны же Бога такое обилие даров… Он желал, когда грешит, испытывать некое страдание, физическое или духовное, например, лишение даров, утешений и т. д., но этого не происходило, и, напротив, ему казалось, что Бог посещает его тем больше»[78 - Dicta et facta, п. 7–8, Ibid., p. 395.]. Лишь изучив более тщательно заметки Духовного дневника 1544 г., мы сможем в какой-то мере понять значение этих странных слов в устах человека, столь сдержанного в своих выражениях. В то же время мы помним об основных особенностях мистической жизни этого святого в годы его правления Обществом в Риме.
Особенности игнатианской мистики[79 - H. Rahner, Die Mystik des hi. Ignatius und der Inhalt der Vision von La Storta, ZAM, 10 (1935), p. 202–220.]
В этом дневнике она предстает нам как мистика, главным образом, тринитарная и евхаристическая, с точки зрения объекта; скорее как мистика служения любви, чем как мистика любовного единения, с точки зрения общей ориентации; скорее как итог божественного действия на всю человеческую жизнь, умственную и физическую, чем как мистика самоуглубления, с точки зрения психологической.
Это, прежде всего, мистика тринитарная и евхаристическая. В 1553 г., диктуя свою автобиографию Гонсалвишу да Камаре, Игнатий заметит по поводу своих видений Троицы в Манресе, что с тех пор он «с крайним благоговением почитал Святейшую Троицу и потому каждый день молился трём Лицам по отдельности». И заключит словами о том, что «на всю жизнь у него осталось это впечатление от чувства великого благоговения при молитве Святейшей Троице»[80 - n. 28, p. 58.]. Было бы трудно, я думаю, обнаружить больший мистический расцвет этого чувства, чем тот, который угадывается в дневнике за 1544 год. Этот расцвет материально осязаем: на 50 страницах издания Monumenta, содержащих подробности обретенных милостей, мы находим 170 пассажей, относящихся к Троице. Но исключительно значима не столько частота этих упоминаний, не столько даже количество месс, отслуженных Троице[81 - В первые шесть месяцев Дневника (со 2 февраля по 4 июля) Игнатий часто отмечает, какую мессу он совершил (позже он перестает это делать); из 116 указаний такого рода мы находим 30 на мессу Троице, 20 – на мессу Имени Иисуса или другую мессу в честь Христа, 9 – на мессу Святому Духу, 16 – Пресвятой Деве.], сколько место этой тайны среди излиянных милостей, дарованных святому. Из отрывков, которые он обвел чернилами, потому что в них описываются важнейшие дары (частично эти отрывки были переписаны на мадридский листок), дюжина описывает видения Троицы, а еще четыре касаются Иисуса, Христа-Человека, в роли Посредника Троицы.
Очень разнообразны сообщенные Игнатию «постижения», связанные с этой тайной. 11 февраля он «ощутил или увидел» Святого Духа, но не мог так «ни увидеть, ни ощутить ни одно из двух других Божественных Лиц» (с. 91, 15). 27 февраля он видит себя погруженным в лоно явленной Пресвятой Троицы ему, хотя и различает «не так отчетливо, как прежде, три Лица» (с. 108, 85; 109, 8). 28 он видит человеческую природу Иисуса «у ног Пресвятой Троицы» (с. 109, 20). 29 он обретает постижение «трех Лиц, и в Отце – Второго и Третьего» (с. 110, 30).
В других местах божественная Сущность являет Себя в Своем единстве: 3 марта он благоговеет перед Пресвятой Троицей, не видя «так, как в прошлые дни, Лица по отдельности», но чувствуя, «будто бы в какой-то светлой ясности, одну Сущность». Его благоговение направляется «к Пресвятой Троице, без “узнаваний” или узрений трех Лиц по отдельности: просто восприятие или представление Пресвятой Троицы». И он прибавляет: «Точно так же несколько раз чувствовал то же самое, устремляясь к Иисусу[82 - Когда в Своих заметках св. Игнатий говорит об Иисусе, контекст ясно показывает, что речь идет о человеческой природе Христа; именно она выше явилась ему «у ног Пресвятой Троицы».], как будто нахожусь в Его тени, как будто Он ведет меня; но благодать от Пресвятой Троицы не уменьшалась: напротив, казалось, что еще теснее соединяюсь с Его Божественным Величеством. И на молитвах к Отцу не мог и не чувствовал желания обрести благоговение – разве что всего несколько раз, когда другие Лица представлялись мне в Нем, так что опосредованно или непосредственно все обращалось к Пресвятой Троице» (с. 118, 88 слл). 6 марта, на словах Те igitur во время мессы, святой видит «не тускло, а ясно, и очень ясно, Само Божественное Существо, или Сущность, в виде шара <…>, и из этой Сущности показывался или происходил (yr о deribar) Отец, так что на словах «Тебя», то есть «Отец», Божественная Сущность предстала мне раньше Отца» (с. 117, 40). В тот же день после мессы имеет место то же видение Божественной Сущности в виде шара, но на этот раз с Тремя Лицами, Которые все выходили или происходили (saltan о se derivavan) из Сущности, «не выходя за пределы шарообразного видения» (с. 116, 63)[83 - Рассматривать здесь вопрос о том, какому богословскому объяснению в рамках той или иной богословской системы, рассматривающей «самобытность» (subsistances) в Троице, поддаются образы, описанные св. Игнатием – довольно-таки озадачивающие, в особенности образ Отца, выходящего или происходящего из Божественной Сущности, – было бы делом долгим и не слишком полезным. Как будет сказано ниже по поводу психологических особенностей этих видений, перед нами здесь, как кажется, не образные видения, в которых образы порождены прямым воздействием Бога на чувства святого, но видения умственные, где вспомогательные образные элементы – лишь продукт реакции, порожденной откликом чувств на прямое воздействие Бога на разум, или, лучше сказать, очень несовершенные попытки передать, что постигает разум под влиянием этого божественного воздействия. С этого момента ничто уже не мешает чертам чисто человеческого происхождения, несовершенным или даже не столь неукоснительно точным, проникать в эти образы и в данном случае тем легче, что, вопреки серьезности своего обучения в Париже, Игнатий не был профессиональным богословом.]. 10 марта его вновь посещает видение Сущности и Отца, сначала Сущности, а потом Отца, «то есть, – добавляет он, – устремлялось благоговение сначала к Сущности, а затем к Отцу» (с. 122, 89 слл.).
В нескольких из приведенных текстов уже обозначилась еще одна черта этих видений: явное преобладание Троицы, Которая повсюду предстает здесь как средоточие всего. Душа Игнатия видит или ощущает человеческую природу Христа, Пресвятую Деву, святых, но всегда явно как посредников и заступников, чья главная роль – вести его к Троице, испрашивать для него благосклонность или прощение Трех Божественных Лиц. Слова intercessores и mediatores встречаются в его заметках множество раз.
23 февраля, во время подготовки к мессе, святой чувствует побуждение следовать Иисусу. Ему представляется: поскольку Иисус – глава Общества, это самый веский довод в пользу того, чтобы принять, по Его примеру, полную бедность, – и ему кажется, что «это некоторым образом дело Пресвятой Троицы, явление Иисуса или его ощущение», что напоминает ему видение в Ла Сторте, когда «Отец поместил меня вместе с Сыном» (с. 122, 89 слл.). На следующий день он чувствует, что утверждение, которое он желал получить от Пресвятой Троицы по поводу своего выбора относительно бедности, передано ему через Сына (с. 106–107). Он молит Иисуса получить для него прощение у Троицы, за то что несколько дней назад проявил к ней недостаток почтения[84 - 12 февраля (с. 92, примечание, отрывок был затем вычеркнут) он прервал благодарственную молитву, обращенную к Троице, чтобы встать и заставить людей прекратить шум, который раздавался в соседней комнате и мешал ему.]. 25, на мессе, в молитвах, обращенных к Отцу, он чувствует, что Иисус «представляет или препровождает произносимые им молитвы к Отцу» (с. 107, 43).
15 февраля, после оплошности, упомянутой чуть выше, он краснея просит заступничества у Пресвятой Девы и чувствует, что Отец доволен тем, что за него молится Мария, «видеть Которую я не мог». На мессе он «чувствовал и видел», что Пресвятая Дева ходатайствует перед Отцом; это чувство сопровождает его в молитвах к Отцу и Сыну, и он не может не чувствовать, что это благодаря Ей к нему приходят все обретаемые им милости, и не знать при освящении, что Ее плоть – в Ее Сыне, «с такими постижениями, что и не описать» (с. 94, 72 слл.).
Мистика Игнатия является не только тринитарной, но и в высшей степени евхаристической. Однако не в том смысле, что в ней мы находим столь же многочисленные озарения по поводу этой тайны, какие только что отметили в связи с тайной Троицы. В Манресе, как мы видели, у него были великие евхаристические просветления; в «Дневнике» мы не находим ничего подобного. Единственное «постижение», связанное с этой тайной, – только что процитированное, обретенное 15 февраля. Можно присовокупить к нему «мысль или суждение» от 10 марта «о том, что, исполняя обязанность служить Мессу, мне нужно действовать или быть как ангел» (с. 122, 88); и это все. Зато ежедневная месса является очевидным средоточием милостей, которые он отмечает весь остаток дня. Пробуждение[85 - Снова и снова мы находим записи о дарах, полученных святым тогда, когда он после пробуждения молился в постели, прежде чем встать; например, 12 февраля (с. 91, 26), 16 (с. 97, 59), 16 (с. 98, 90)… Это обстоятельство интересно тем, что обнаруживает его привычку непрестанно молиться, как только дела позволяли ему оставить все и не думать ни о чем, кроме Бога.] и подъем с мыслью о мессе, молитва и внутреннее приготовление к мессе, приготовление алтаря и облачения, начало мессы и различные ее части, благодарственная молитва – вот моменты, с которыми связано огромное большинство отмеченных им милостей. И даже те, что он обретает в течение дня, почти всегда представляются продолжением или завершением утренних. В первой части рукописи нет ни дня, когда бы в записях Игнатия явно не упоминалась связь обретенных даров с мессой[86 - Исключение 12 февраля – лишь видимость (с. 91, 26): упоминание мессы этого дня находилось в отрывке, позднее вычеркнутом и воспроизводимом в примечании к с. 92.]. Во второй части, где, начиная с 13 марта, записи становятся более краткими и наконец, в конце мая, сводятся почти полностью к упоминаниям обретенных слёз, эти пометки делаются всегда и представлены алгебраическими значками, предваряющими записи каждого дня и означающими связь этих даров с мессой: «перед, на, после».
Приведенные примеры позволяют заметить: озарения относительно Троицы касаются Лиц, к Которым обращены, к Которым «применяются» молитвы мессы, тех Лиц, которые связаны со словами этих молитв. Днем 25 февраля дары, связанные со святым человечеством Христа и обретенные после беседы с кардиналом Карпи, продолжают дары мессы (с. 106, 17). То же происходит и 4 марта с дарами, с озарениями о Троице, обретенными у кардинала Бургоса, а потом на улицах (с. 114, 62), и 6 марта с видениями Божественной Сущности, посещавшими Игнатия в базилике св. Петра: ему предстает «все в том же светлом цвете <…> То же Самое Божественное Существо» и «точно так же», как и прежде, во время его собственной мессы (с. 118). Таким образом излиянные дары, которыми Бог щедро осыпает Игнатия, предстают сосредоточенными на жертвоприношении Христа, а главное место занимает в них Пресвятая Троица.
Если, рассмотрев их предмет, мы остановимся на их природе, их общей направленности, то заметим, прежде всего, следующее: в жизни этого святого ни дары познания, даруемые разуму, ни дары любви, даруемые воле, не пользуются ярко выраженным перевесом. Мы уже отмечали многочисленные и великие озарения, в особенности связанные с Троицей; дары излиянной любви не кажутся ни менее многочисленными, ни менее достойными восхищения. В воскресенье мясопуста, 17 февраля, во время мессы и в особенности во время чтения послания дня (2 Кор 11, 19 слл.), он проливает обильные слезы, не чувствуя «ни постижений, ни различий в Лицах или в чувствованиях по отношению к ним, но сильнейшую любовь, жар и великую усладу в Божественном, с весьма возросшим душевным утешением» (с. 97, 70). 4 марта он, в частности, просматривает «Входное песнопение» (Introitum) мессы, «весь подвигнутый ко благоговению и любви, устремляясь к пресвятой Троице». Потом, во время подготовки к мессе, он «залился слезами, зарыдал и ощутил столь сильную любовь, что показалось, будто чрезвычайно тесно приблизился к Его любви [к Пресвятой Троице], столь светлой и сладостной, что подумалось: это насыщенное “посещение” и любовь отмечены особо и выделяются из числа других “посещений”». Когда он вошел в часовню и облачился, он «в огромном изобилии залился слезами, зарыдал и ощутил сильнейшую любовь, все из любви к Пресвятой Троице». В начале мессы от изобилия слёз он чувствует в одном глазу такую боль, что опасается его испортить… В конце, говоря: «Placeat tibi, Sancta Trinitas», – он ощущает «чрезвычайно сильную любовь», заливается «обильными слезами» и замечает, что все дары, обретенные до и во время мессы, «устремлялись к Пресвятой Троице, вознося и увлекая меня к ее любви». После мессы, когда он молится у престола, то переживает «такие сильные рыдания и излияния слёз, целиком устремляющиеся к Пресвятой Троице, что подумалось: не хочу подниматься с колен, чувствуя такую любовь и такую духовную сладость». Таким образом, если мы пожелаем обратиться к старинному делению созерцательных душ на серафические и херувимские, в зависимости от того, направляет ли их Бог при помощи излиянных даров, затрагивающих более явно и непосредственно волю либо разум, то не сможем отнести св. Игнатия ни к одной из этих двух категорий. Скорее, мы сможем причислить его к третьей, прибавленной монсеньером Содро, категории под названием «души ангельские». В этих душах излиянные дары сосредоточиваются не только для того, чтобы связать с Богом лишь чисто духовные способности человека. Они затрагивают и способности конкретные и практические, память и воображение и тем самым, посредством этих способностей и непосредственно, побуждают человека не только к единению, но и к служению[87 - A. Saudreau, Les Degres de la vie spirituelle, ed. 6, Paris-Angers, 1935, t. 2, n. 477–485. Мосеньер Содро относит св. Игнатия к мистикам серафическим вместе со св. Франциском Ассизским; мне же кажется, что, если мы сохраним его деление на три группы, то можно без колебаний отнести нашего святого к третьей, образцового представителя которой он видит в св. Павле.].
Очень заметной и отчетливой чертой дневника Игнатия, как и всех имеющихся у нас документов о его внутренней жизни, является полное отсутствие того, что можно было бы назвать «брачным» аспектом мистического союза. В Упражнениях (353 и 365) он будет представлять нам Церковь как Невесту Христа, но нигде он не рассматривает душу как невесту Бога, Христа. Нигде то единение с Троицей и Иисусом, которое он описывает всевозможными способами и представляет как нечто глубоко интимное, не рассматривается им как духовный брак. Не предстает это единение и как преобразующий союз, расплавляющий жизнь души в жизни Бога, некоторым образом заставляющий нашу собственную жизнь исчезнуть в жизни обитающего в нас Христа. Ничто в нашем святом не напоминает лиризм «Духовной песни» или «Живого пламени» св. Иоанна Креста: не только великолепный поэтический дар кармельского учителя полностью отсутствует в основателе Общества; самой сущности мыслей, изложенных на страницах его сочинений, этого пылающего стремления к равенству любви, к совершенному единству в полной наготе духа, этого предвосхищения присутствия Возлюбленного за завесой, что становится все тоньше и тоньше, этого движения к ясному видению – всех этих характерных черт мистики св. Иоанна нет и следа в заметках Игнатия.
Напротив, во всех его отношениях с божественными Лицами, со Христом преобладает смиренный и исполненный любви взгляд служителя, забота о том, чтобы различить тончайшие нюансы того служения, которого Он жаждет, великодушное стремление исполнить желаемое всецело и совершенно, чего бы то ни стоило, в радостном порыве любви, но в то же время с глубоким чувством бесконечного величия Бога и Его трансцендентной святости. Таким образом, более двадцати лет спустя мы снова находим те мысли о возвышенном служении величайшему из Учителей, Чья благодать уже отрешила от мира раненого из Памплоны.
Очень значима с этой точки зрения вся первая часть «Дневника», со 2 февраля по 12 марта, полностью занятая размышлениями о бедности церквей Общества: должна ли последняя исключать всякий твердый доход, не только на содержание обетников, но также и на богослужебные расходы церквей домов обетников[88 - О том, какой именно вопрос был предметом этих размышлений, и о его важности см. MHSI, Const., I, р. 35–37 (примечание).]? Сорок дней Игнатий, со своей стороны, сам будет применять все советы, которые дает в Упражнениях для совершения хорошего выбора, для постижения воли Божией в определенном вопросе. Но милости, которые будут дарованы ему в это время, пусть безвозмездные (gratuites) и излиянные, также будут устремлены к одной цели: к различению воли Божией. Главное место в этих размышлениях занимает, согласно второму времени выбора в Упражнениях (176), опыт внутренних движений, которые тщательно записываются с первых же дней: 2 февраля обилие благоговения и слёз, и все склоняет скорее к «ничто», к тому, чтобы не иметь ничего; то же происходит 3, 4, 5, 6, и 7 февраля. Игнатий преподносит Богу свое решение не принимать никакого имущества для церквей и отмечает обретенные милости в качестве его подтверждений, например, 10 февраля (с. 89, 66). В соответствии с тем, что советует своим упражняющимся, он не довольствуется одним каким-нибудь указанием, но хочет обрести достаточную ясность (asaz claridad) в своих переживаниях, он просит долго и настойчиво, он обращается к своим Посредникам, чтобы они упросили Бога ясно утвердить его решение. Такая мольба, пылкая, порой тревожная, почти нетерпеливая, об обретении сего божественного утверждения займет большую часть записей за эти сорок дней и 12 марта, пройдя сквозь потемки и искушения, завершится последним излиянием света и бесповоротным решением, отмеченным написанным жирным шрифтом словом «Finido» (с. 125, 70)[89 - Существует и другой пример благодатных размышлений Игнатия, изложенных в общих чертах в его письме к Франциску Бордже от 5 июня 1552 г. (Epist. S. Ign., IV, p. 283), на предмет замысла Юлия III произвести Франциска в кардиналы по просьбе Карла V; cf. Suau, p. 271.].
Ту же общую ориентацию обнаруживает ряд постижений (lumieres) и ощущений в начале второй части «Дневника», связанных со смиренным преклонением перед божественным Величием. 14 марта со множеством слёз и с обычным благоговением, устремлявшимся то к Отцу, то к Сыну, Игнатий чувствует, как душу его пронизывает мысль о том, с «каким почтением и преклонением (reverencia у acatamiento) должен я, идя на Мессу, именовать Господа Бога нашего», и о том, что искать следует не слёз, а сего почтения и преклонения. Он отдается этому чувству преклонения, исходящему не от него, но от Бога, что лишь усиливает благоговение и слезы. Он убежден, что «это и есть тот путь, который Господь хотел мне указать, когда в прошлые дни я думал, что Он хочет показать мне что-то; и потому, служа Мессу, я убедился, что эта благодать и познание более способствует духовному преуспеянию моей души, нежели все прежние» (с. 127, 11 слл.). Этот дар излияного преклонения сохраняется и в следующие дни: слова acatamiento, reverencia, umildad каждый день повторяются в его записях с 14 по 27 марта. 30 марта свет проливается на любовный характер этого преклонения: оно должно порождаться не страхом, но любовью (с. 131, 38). 4 апреля святой отмечает, что «не обретая почтения или преклонения, исполненного любви, нужно искать преклонения, исполненного страха, взирая на собственные промахи, чтобы достичь того преклонения, что исполнено любви» (с. 133, 95). Это размышление подсказано, несомненно, тем, что накануне, 3 апреля, ни до мессы, ни на ней, ни после нее у него не было слёз, каковое лишение он принял со смирением и упованием, в то время как 4 апреля смог отметить изобилие слёз, постижений и внутренних чувств.
Мы можем спросить, не обусловлена ли эта устремленность мистических даров, описанных в дневнике, к служению, поиску и исполнению воли Божией, прежде всего, особыми обстоятельствами, в которых Игнатий писал эти заметки. Но если сопоставить друг с другом все указания, какие дают нам наблюдения, которые мы уже сделали и еще сделаем впереди, мне представляется несомненным, что здесь перед нами постоянная особенность божественного воздействия на душу Игнатия, пребывающая в полном согласии со всем, что известно о его духовной жизни начиная с первых ее шагов. Это покажут нам и дальнейшие наблюдения, которые мы сделаем на основании Упражнений, Конституций и переписки, где мысль о служении Богу, стяжании Его славы, знании и исполнении Его воли направляет и подчиняет себе все. Таким образом, советы и методы святого представляются нам, прежде всего, отголоском тех даров, посредством которых Бог, Своим произволением, задал твердое направление его собственной духовной жизни, а также их практическим переложением для других. Так, например, тройная беседа в Упражнениях, когда мы должны просить у Марии, Христа и Отца необходимой для Упражнений благодати, – что она, как не транспозиция мистических милостей, о которых мы ведем речь?
Мистики любви не исключают разума (lumieres), а мистики разума не исключают любви. Ни те, ни другие не исключают и не забывают служения Богу, плода и необходимого следствия единения. Так и мистический путь Игнатия не исключает единения с Троицей посредством веры и любви во Христе. Но как другим мистикам придает их особый характер свет разума (lumiere) или пламя любви, так особое лицо мистики Игнатия образует великодушное и смиренное служение, исполненное любви, в котором, как в едином центре, сходятся, сосредоточиваются и концентрируются все великолепные излиянные дары, которыми он наделен.
Кроме того, если бы потребовалось, психологические особенности этих даров могли бы подтвердить, что перед нами не мистика самоуглубления, единения с Богом в самой глубине души, так далеко, как только возможно, от всего чувственного, но божественное воздействие, объемлющее всю душу целиком, со всеми ее способностями, какие только могут быть поставлены на службу Богу.
Психология игнатианской мистики
Даже попытка начертить мистический путь Игнатия представляется невозможной: вехи его слишком часто отсутствуют, детальные же сведения есть у нас лишь о двух частях этого пути, о Манресе и Риме в 1544 г., когда писался «Дневник». Однако можно с уверенностью утверждать: каким бы ни был в тайниках души святого этот путь, это, несомненно, была стезя все более полного самоотречения, все более совершенного владения своими страстями и всей чувственной (sensible) частью своей души. Но это отнюдь не был путь постепенного освобождения, все большего бегства за пределы чувственного, и в этом смысле он отличался от того типа духовного пути, который можно назвать «дионисийским».
Поэтому в обретаемых им милостях, даже самых возвышенных, до самого конца его жизни относительно заметную роль играло воображение, чувственность, телесные реакции. И так же до конца жизни эти излиянные дары соседствовали с такими усилиями и делами, которые возникает соблазн всецело отнести лишь на долю простого аскетизма (ascese elementaire).
Мы уже слышали от святого, что он сдержанно отдается божественному воздействию, которое может ощутить в любой момент, дабы окончательно не исчерпать свои силы и не разрушить свое здоровье. Дневник 1544 г. дает нам несколько конкретных примеров этого воздействия излиянных даров на организм. 8 февраля Игнатий чувствует, что оказался пред Отцом, и в этот миг волосы его встают дыбом, и он ощущает «сильнейший жар» во всем теле (с. 88, 47). 19 февраля он чувствует, что грудь его сдавлена из-за сильной любви (с. 100, 62). Часто он отмечает жар, обыкновенно жар внутренний, духовный, но иногда также, например, 9 марта, «внешний жар, вызывающий благоговение и веселость ума» (с. 122, 67), а 14 апреля «сильный жар, внутренний и внешний, кажется, скорее сверхъестественный, и без слёз» (с. 134, 25).
И в высказываниях Игнатия о Манресе, и в приведенных выше отрывках дневника несколько раз встречаются примеры очень простых образных видений, в частности, 6 марта «Божественная Сущность в виде шара, чуть большего, чем тот, каким предстает Солнце», и вновь, после мессы, «то же самое <…> шарообразное видение», и в базилике св. Петра «все в том же светлом цвете <…> То же Самое Божественное Существо, и ночью, когда он писал свои заметки, он «увидел нечто разумением, хотя по большей части не столь ясно и не так отчетливо, и не в таком величии, но как будто крупная искра (centella grandecilla) предстала разумению», предмет, притянувший к себе разумение и показавший, что он – То же Божественное Существо, которое Игнатий созерцал и прежде.
Если бы речь здесь шла об образных видениях в собственном смысле этого слова, где Бог являет душе истину, разъясняя ее посредством образов, трудно было бы понять, почему Бог избрал образы столь несовершенные и бедные. И, прежде всего, не было бы никакой соразмерности между образами и производимым ими интеллектуальным обогащением, какое отмечает святой: 19 февраля его «разумение прояснилось настолько [относительно Троицы], что ему подумалось: даже при усердном учении я не усвоил бы так много <…>, даже если бы учился всю жизнь» (с. 100, 70). Игнатий не указывает на то, что его богатые постижения во время мессы сопровождались какими-либо образами, но добавляет, что потом, в течение дня, даже когда он шел по городу, ему с великой внутренней радостью представлялась Пресвятая Троица, «Которую видел то как трех разумных существ, то как трех животных, то как три другие вещи, и так далее» (с. 101, 87). В своих «Правилах распознавания духов»[90 - Для второй недели, правило 8, Exercitia, п. 336.] он сам предупреждает нас, чтобы мы заботливо различали то, что является прямым воздействием Бога на нашу душу, и те реакции, которые могут быть следствием наших привычек, предрассудков и т. д. Представляется, что здесь как раз подходящий случай для применения этого принципа. От Бога исходит интеллектуальное постижение (lumiere) и излиянная любовь к Его божественным Лицам. Образные элементы, сопровождающие эти постижения и эту любовь, – всего лишь результат этой непроизвольной реакции чувственной части души на божественное воздействие, воспринятое частью духовной. И бедность их – проявление особенностей воображения самого Игнатия, столь же слабого в создании символических образов, сколь сильного в представлении конкретных жизненных ситуаций.
Та же тенденция передавать при помощи очень простых выражений чувственного порядка явления в высшей степени духовные проявляется и в том, какие определения дает Игнатий благоговению и прочим милостям, которые он обретает. 6 марта «благоговение <…> с отменной сладостью и ясностью, смешанной с цветом»; 18 февраля некое благоговение «жаркое и как будто бы красноватое». Мы видели, что это ощущение жара встречается у него очень часто. Напротив, ощущение прикосновения, столь обычное у других мистиков, встречается у него только раз, 4 марта, когда он отмечает «в высшей степени ощутимые прикосновения (tocamientos)» (с. 114, 42)[91 - Заметим, что это не слово toques, распространенное у св. Иоанна Креста.].
Насколько можно об этом судить по имеющимся у нас документам, божественные известия (communications divines), обретаемые св. Игнатием, почти всегда имели форму простых видений. Наиболее известным исключением являются здесь знаменитые слова, услышанные в Ла Сторте. Другим исключением является, возможно (если только речь не идет здесь о харизме еще более непонятного характера), милость, отмечаемая в «Дневнике» с 11 по 28 мая и обозначенная латинским (не испанским) словом «loquela», дар loquela («говора»), данный свыше (divinitus). 11 мая он говорит нам о двойном «говоре» – внутреннем и внешнем, и о «такой внутренней гармонии относительно внешнего “говора”, что и не расскажешь». На следующий день он отмечает «внутренний “говор” с такой сладостью, что подобен был небесному “говору” или музыке»; благоговение возрастает «со слезами от чувства того, что чувствовал или усваивал свыше». 13 мая внутренний «говор» дивен и сильнее, чем в предыдущие дни. 22 его посещают сомнения относительно «вкуса или сладости “говора”: не под действием ли злого духа прекратилось духовное “посещение” слезами? Ему показалось, что он слишком услаждается «тоном “говора”, т. е. его звучанием, не слишком обращая внимание на значение слов и “говора”» (с. 139, 38). Слезы возвращаются, он успокаивается и действительно продолжает отмечать этот «говор» до 28 мая. Чем был этот «говор», внутренний и внешний, приятный для слуха, словно музыка, который в то же время обладает смыслом и наставляет Игнатия? Идет ли речь о внутренних словах, обычных в мистике, но, как мы сказали, мало привычных, как кажется, для Игнатия? Возможно. В любом случае, дар этот остается неясным.
Но самым необычным и поистине озадачивающим в мистической жизни Игнатия, в особенности в том, что открывает нам его «Дневник», является то место, какое занимают в ней слезы, дар слёз. В первой части рукописи, за сорок дней, со 2 февраля по 12 марта, слезы упоминаются 175 раз, или в среднем более четырех раз в день; во второй части с 14 марта появляются алгебраические пометки (а 1 d, потом О С Y), к которым впредь, вплоть до 27 февраля 1545 г., будут сводиться заметки, ежедневно отмечающие присутствие, изобилие или отсутствие слёз до мессы, на ней и после нее, на молитве, в комнате или в часовне; с конца мая более развернутые записи исчезают и на оставшиеся девять месяцев «Дневник» превращается в реестр, в котором тщательно регистрируется этот дар слёз. Добавим, что упоминание о слезах 26 раз сопровождается упоминанием рыданий (sollozos); четырнадцать раз отмечается, что слезы мешают святому говорить: например, 3 марта в начале мессы он испытывает все мыслимые трудности, когда пытается начать и сказать «In nomine Patris»; иногда изобилие слёз таково, что он опасается потерять зрение, если продолжит служить мессу, например, 5 февраля, 4 марта, а также 5, 6, 7 и 21 октября.
Таков факт в своей материальной действительности, факт, которому я не знаю подобных в католической литературе. Если католическая традиция всегда с большим почтением относилась к слезам и к сокрушению (сокрушению из страха и сокрушению из любви) и с еще большим – к мистическому дару слёз[92 - Некоторое количество текстов собрано в исследовании о. Ж. Навателя (J. Novatel), La devotion sensible, les larmes et les Exercices. Enghien, 1920 (CBE, n. 64); среди старинных трактатов самыми развернутыми мне представляются три книги св. Роберта Беллармина (Roberto Bellarmino), De Gemitu columbae sive de Bono lacrymarum. Rome, 1617: I, о необходимости слёз; II, источники; III, плоды, – хотя святой распространяется здесь, прежде всего, о слезах боли и достаточно мало о слезах любви, II, 10; см. также Lopez Ezquerra, Lucerna mystica (1961), tr. 5, с. 15, подробно говорится об излиянном даре слёз и его различных формах; Бенедикт XIV, De Servorum Dei Beatif., III, с. 26, п. 10–11; Theophile Raynaud, Heteroclita spiritualia, I, sect. 2, p. 5, n. 20 ss., etd. О слезах как «выражении мистического чувства» у св. Августина см. замечания А. Мандуза в VieSpir., LX(1939), p. 34–55.], то мне не кажется, что кто-то из святых, будь то мужчина или женщина, на деле отводил им подобное место[93 - Между тем может быть небезынтересно отметить то значительное место, какое отводит слезам в своем «Искусстве созерцания» бл. Раймунд Луллий, (cf. RAM, 6/1925/, p. 373–377, и мой труд Etudes de theologie mystique. Toulouse, 1930, p. 305–309), сходство которого с Игнатием в отдельных моментах неоднократно отмечалось, например, Е. Allison Peers, Studies of the Spanish Mystics, I, London, 1927, p. 4 ss.].
Истолковывать этот факт как учащение слёз вследствие болезненного, старческого ослабления нервной системы или же проявление чрезмерно эмоциональной натуры, не способной совладать со своими чувствами, объяснять заботливое наблюдение святого за своими слезами детской иллюзией ценности чисто физиологического явления – гипотеза удобная[94 - Такова гипотеза M. Баумгартена (М. Baumgarten) в Zeitschr. F. Kirchengesch., 56 (1937), p. 405–408; в его глазах Игнатий – натура болезненно эмоциональная и наивная, принимающая самые банальные явления за видения, плачущая при всяком удобном случае, разделяющая свойственное определенным кругам той эпохи увлечение слезами, которые считались неотъемлемой частью благоговения, теряющаяся в деталях и бесконечных замечаниях о вещах самых незначительных… То, что здоровье Игнатия было шатким и часто плохим, факт известный; в частности, письмо римских общников к общникам испанским конца 1543 г. свидетельствует о том, что в это время он вынужден был по слабости здоровья переложить на них свою переписку (Epist. S. Ign., 1.1, p. 285), и действительно за 1544 г. в издании мы находим лишь три записки и фрагмент письма (ibid., р. 291 ss.), куда меньше, чем за предыдущие и последующие годы; его забота о деталях, о наблюдениях, о заметках – черта не менее известная и объединяет его с людьми весьма великими, например, с Наполеоном; то, что он обладал очень живой чувствительностью, несмотря на необычайное самообладание, о каковом свидетельствует каждая страница «Мемориала» Гонсалвиша да Камары, к коему отсылает нас о. М.Б., вещь несомненная, и это показывает нам «Дневник»… Но целая пропасть отделяет все эти факты от слабости духа, недостатка силы и инфантильного иллюминизма, каковые приписывает Б. основателю Общества Иисуса, чьи очевидные дела и влияния, засвидетельствованные во всех документах, стали бы тогда самой неразрешимой загадкой.], но не выдерживающая никакой серьезной проверки. Игнатий никогда не считался ни слабоумным, ни неврастеником: друзья и недруги единодушно видят в нем сильную личность с железной волей, управляемой твердым рассудком. Самих его дел достаточно, чтобы это засвидетельствовать: в 1544–1545 гг. в разгаре работа по организации и расширению Общества; это момент основания первых коллегий, а сам Игнатий учреждает в Риме Casa Santa Marta (дом св. Марфы) и собирается основать Римскую коллегию и Германикум…
С другой стороны, известно недоверие святого к любителям видений и осязаемых даров: достаточно вспомнить его письмо от июля 1549 г. к Франциску Бордже на тему телесных откровений Овьедо и Онфруа, письмо, написанное Поланко, но проверенное и исправленное им самим[95 - Epist. S. Ign., XII, p. 633–654. [Letters Ign., p. 195–211].]. В частности, по поводу слёз можно обратиться к письму от 22 ноября 1553 г., которое Поланко отправил от лица Игнатия о. Николасу из Гауды: «Дара слёз не нужно просить как такового: он не обязателен и не для всякого человека хорош и подходящ сам по себе… У некоторых он есть, потому что натура их такова, что переживания высшей части их души вызывают реакции в части низшей, или же потому, что Бог, видя, что этот дар им подходит, дает им его; но от этого они не начинают любить сильнее или творить больше блага, чем другие люди, лишенные этих слёз, хотя в высшей части души они любят не меньше… И я говорю Вашему Преподобию, что некоторым, даже если бы наделить их этим даром было в моих силах, я бы его не дал, потому что эти слезы не умножают в них любовь, но наносят ущерб их телу и уму, тем самым препятствуя некоторым делам любви»[96 - Ibid., V, p. 513. [Letters Ign., p. 211–212].].
Но если слезы обладают, таким образом, ценностью второстепенной, почему они занимают такое значительное место в «Дневнике»? Я, со своей стороны, вижу лишь одно правдоподобное объяснение, и состоит оно в следующем допущении: у Игнатия, будь то по причине темперамента или по произволению Божию, как напоминает только что приведенное письмо, материальное явление слёз действительно было связано с определенными излиянными милостями, духовными и внутренними дарами, которые были для него исключительно ценны; тем самым, бесчисленные заметки о слезах имели целью напомнить ему, когда и при каких обстоятельствах эти милости были ему оказаны[97 - Это объяснение не противоречит учению, изложенному выше: 16 марта (с. 127, 35) он просит: «…что же касается “посещений” или слёз, то пусть они не будут мне даны, если это столь же послужит Его Божественному Величеству, или пусть я наслаждаюсь его благодатными дарами и “посещениями” в чистоте и бескорыстно». В то же время, на следующий день, он понимает, что Божественная воля в том, чтобы он прилагал усилия к обретению этих даров. Таким образом, он ясно ощущает опасность привязанности к этим дарам и в то же время не менее ясно видит, что воля Божия в том, чтобы он искал их.].
И это не голословная гипотеза. В письме Бордже от 20 сентября 1548 г. святой различает три вида слёз: слезы, вызванные мыслью о наших и чужих грехах; слезы, вызванные созерцанием тайн жизни Христовой; наконец, слезы, порожденные любовью к Божественным лицам. Эти, последние, наиболее совершенны сами по себе, хотя для каждого лучшими являются те, «посредством которых Господь наш Бог главным образом с ним общается, делясь с ним Своими святейшими дарами и духовными милостями». 14 марта в «Дневнике» он говорит о слезах, «устремлявшихся то к Отцу, то к Сыну, то – и т. п., и также ко святым, однако без каких-либо видений, но лишь так, что благоговение устремлялось то к одному, то к другому» (с. 126, 6); 11 мая слезы «показались мне весьма, весьма отличны от всех прошлых, ибо протекали так медленно, внутренне, сладостно, без шума или сильных порывов, что казалось, будто исходят они настолько изнутри, что и объяснить невозможно» (с. 137, 85). Таким образом, представляется, что для Игнатия существовала тесная связь, почти равнозначность между слезами и внутренними дарами, чьим проявлением они являлись.
Почему в своих заметках Игнатий отмечает, столь щедро в начале и почти исключительно в дальнейшем, скорее слезы, чем духовные милости, которые они означали? Для простоты, ибо слово это имело для него хорошо известный и очень богатый смысл и одним штрихом напоминало ему о целом комплексе внутренних состояний? Возможно, хотя вопрос остается непроясненным. Но каковы бы ни были объяснения, неизменным остается сам факт этих слёз, непрестанных и тщательно подмечаемых, в жизни, исполненной высочайшего созерцания, факт причудливый и особенный.
Просуществовал ли этот факт, столь ясно засвидетельствованный в 1544 г., вплоть до смерти святого? Представляется, что нет, если придерживаться свидетельства Гонсалвиша да Камары и Рибаденейры. Первый говорит нам в своем «Мемориале», что Игнатий «имел обыкновение плакать столь беспрерывно, что, если во время мессы не плакал трижды, то считал себя обделенным утешением… Врач велел ему не плакать больше, и он послушался; и выказывая в этом послушание, как он обыкновенно делает в подобных вещах, он обретает без слёз много больше утешений, чем прежде. Это отец наш доверил о. Поланко, судя по тому, что сказал мне доктор Олаве»[98 - Memoriale, п. 183, Scr. deS. Ign., I, p. 244; FontesNarr., I, p. 638–639.]. Рибаденейра, со своей стороны, говорит нам, что Игнатий, несмотря на вред, который эти слезы причиняли его здоровью, не мог смириться с необходимостью их прекратить, опасаясь тем самым остановить и поток божественных утешений, но в конце концов все-таки уступил требованиям врачей, утешения же, напротив, лишь умножились[99 - de Actis, n. 43, Scr. de S. Ign., I, p. 335: Cum lacrymarum vi maxima abundaret, et cosolationem illae eximiam spiritui et debilitatem corpori aff erent (aliquando namque prope orbatus oculis est lacrymarum fl uxu), et spiritus suavitatem corporis sanitati praeff erret, timeretque ne, si lacrmas cohiberet, tanta illa ac tam affl uens divinae consolationis dulcedo minueretur, tandem ratione et consilio medicorum victus, sibi a lacrymis temperavit, easque quasi habenis regebat, ut cum vellet prae devotione fl eret, cum nollet abstineret. Sed tamen tanta postea subsecuta est consolationis divinae abundantia, ut oculorum ariditas infl uentem gratiam non reprimeret, sed magis augeret.]. Можно не соглашаться с тем, как Рибаденейра толкует ощущения своего отца, говоря нам, что он ставил духовные наслаждения выше сохранности здоровья, ибо такой образ мыслей плохо согласуется с вышеупомянутыми наставлениями, но сам факт, что он преградил путь потоку слёз из-за вмешательства врачей, следует принять. Тем самым, то положение дел, которое являет нам «Дневник» за 1544 г., как кажется, не оставалось неизменным до конца, во всяком случае в том, что касается изобилия слёз, ибо мы уже видели, что с ослаблением сил Игнатия последствия божественных утешений и милостей для его организма отнюдь не уменьшились, но, напротив, возросли настолько, что ему пришлось служить мессу уже не каждый день, как было еще в 1544 г., но только «по воскресеньям и праздничным дням»[100 - Есть и другие особенности, которые следовало бы отметить, например, утешение, которое дает Игнатию музыка и песни, и даже телесное облегчение, которое он в них находит (Memoriale, п. 177–178, Scr. de S. Ign., I, p. 242; Fontes Narr., I, p. 636–637; deActis, n. 29, p. 348); а также факт, сообщаемый Рибаденейрой (Dicta etfacta, I, п. 16, 17, 20, p. 396), что определенное телесное благополучие помогало ему находить Бога, что заставило его понять, что воля Божия в том, чтобы он заботился о своем здоровье.].
Упорный аскетизм
Другой чертой внутренней жизни нашего святого является следующее: самые незаурядные излиянные дары до самого конца жизни сосуществовали в нем с аскетическими делами, которые многие сочли бы пригодным только для новичков.
Во-первых, это применение различных испытаний совести вплоть до конца его жизни. Мы уже слышали свидетельство Лаинеса в 1547 г. о том, что он заботливо сравнивал «неделю с неделей, месяц с месяцем, день с днем, ища всякий день преуспевать»[101 - Scr. de S. Ign., I, p. 127; Fontes Narr., I, p. 140.]. Рибаденейра уточнит: «Он всегда придерживался этого обычая испытывать свою совесть каждый час и спрашивать себя с пристальным вниманием, как этот час прошел. Если же в конце часа он вспоминал о деле более важном или о занятии, препятствующем сему благочестивому упражнению, он откладывал испытание совести, но в первую же свободную минуту или в следующий час восполнял эту отсрочку». Затем следует часто упоминаемый поступок: ни с того ни с сего святой спрашивает у встреченного им отца, сколько раз за этот день он уже совершил испытание совести, когда же тот отвечает, что семь, то он говорит: «Так мало?» – хотя день еще только начался[102 - de Actis, n. 42, Scr. de S. Ign., I, p. 354; Fontes Narr, II, 345.]. Гонсалвиш да Камара подтверждает, что на протяжении всех последних лет своей жизни каждый час дня, а также каждый час ночи, когда не спал, Игнатий совершал испытание совести[103 - Memoriale, n. 24, Scr. de S. Ign., I, p. 164; Fontes Narr, I, p. 542.]. И это испытание было не просто взглядом на то, сколь совершенно или несовершенно исполнял он свои дела, но также смиренным поиском провинностей, в которые он впадал. И вновь нам свидетельствует об этом Рибаденейра в заметке 1554 года. Игнатий настолько боялся малейшей тени греха, что часто ему случалось анализировать с величайшей заботой, не допустил ли он какого-либо прегрешения в делах, где, казалось бы, не было и следа провинности: в мимолетной мысли, в легком потакании воле или других малейших деталях, в которых мы бы ничего не нашли даже при самом тщательном рассмотрении. «Я узнал от него самого, что однажды он позвал своего духовника, дабы исповедаться в одном прегрешении: в том, что он открыл трем отцам изъян некоего отца, в то время как для избавления его от его затруднений хватило бы сказать и двум, а между тем затруднения его были многочисленны и уже небезызвестны этому третьему отцу, и этот разговор не мог ухудшить его мнение о том человеке»[104 - de Actis, п. 41, Scr. de S. Ign., I, p. 354.].