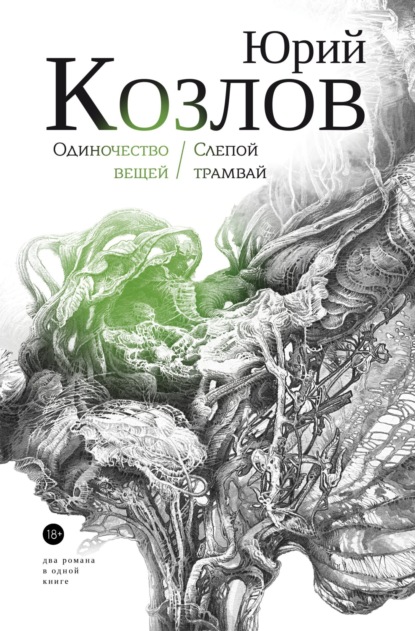По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Одиночество вещей. Слепой трамвай. Том 1.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Одиночество вещей. Слепой трамвай. Том 1.
Юрий Вильямович Козлов
Первый том настоящего издания объединяет два произведения Юрия Козлова: уже хорошо известное читателям и новое, недавно оконченное.
«Одиночество вещей» – роман, где мистика, политика и философия сплетаются в причудливую и захватывающую ткань повествования, уводящую читателя в коллективное бессознательное эпохи девяностых годов, когда рушилась страна и судьбы людей. В хозяйстве российского фермера трудятся ожившие «классики марксизма», а само «бессмертное учение» завершает жизнь в одном из московских гаражей.
«Слепой трамвай» – аллегория движущейся по непредсказуемому маршруту человеческой цивилизации. Возможно, к катастрофе. Но героиня романа – женщина, поднявшаяся на новую ступень антропологического развития, – верит, что у людей, несмотря на все их грехи и отступления от добродетели, остается шанс на жизнь и счастье в новом мире.
Юрий Вильямович Козлов
Одиночество вещей. Слепой трамвай
© Козлов Ю. В., 2023
© ООО «Арт-холдинг “Медиарост”», 2023
Одиночество вещей
Часть первая
Война гороскопов
Леон перелистывал Философский энциклопедический словарь, невообразимой толщины книгу, в которой не было философии, когда услышал, что дядя Петя, младший брат отца, последовательно изгнанный из семьи, из квартиры, из партии, с работы (не одной), алкаш, только-только вырвавшийся после трехлетних страданий из ЛТП, заделался фермером-арендатором в деревне Зайцы Куньинского района Псковской области.
Это явствовало из полученного от дяди Пети письма, которое в данный момент читала на кухне вслух мать.
Отец был совершенно равнодушен к судьбе младшего брата. Письмо из неведомых Зайцев несколько дней приглашающе лежало на холодильнике, однако отец не удосужился его распечатать. «Гляди-ка ты, – только и сказал он, – почта еще функционирует». В последнее время отец перестал проявлять интерес к получаемым письмам, равно как и снимать трубку звонящего телефона. Нераспечатанные письма он, на манер Фолкнера, складывал в стол. К нюнящему телефону подходил, когда тот переставал звонить.
Мать, естественно, знала про внезапную и странную отцовскую нелюбовь к новостям – политическим и семейным, из которых, собственно, состояла жизнь. Но полагала, что все должно иметь свой предел. Не распечатывать письмо от хоть и неудалого, но все же родного брата было, по ее мнению, запределом. Поэтому она читала письмо вслух.
Как и следовало ожидать, оно заканчивалось просьбой выслать в долг пятьсот рублей, которые дядя Петя обещал вернуть в начале лета, как только получит от правительства ссуду, а еще вернее – осенью, когда рассчитается за произведенную сельхозпродукцию и будет при немалых деньгах. Подобное уточнение, видимо, должно было подчеркнуть искренность и основательность арендно-фермерских намерений дяди Пети.
«Он что, охренел там в этих Зайцах? – удивился отец. – Какую ссуду? От какого правительства?» – «От нашего, советского, а может, российского правительства, – ответила мать. – Он не уточняет. Петя молодец. Лучше поднимать сельское хозяйство, чем пьянствовать да судиться с райкомом из-за взносов». – «Поднимать? – усмехнулся отец. – А кто, интересно, его положил?» – «Как кто? – сказала мать. – Наше советское, а может, российское правительство. Или оба вместе». – «А теперь, стало быть, советское и российское правительства передумали? От кого этот дурак ждет ссуду? Какие пятьсот рублей? Он их тут же пропьет!» – «И все равно, – упорствовала мать, – он молодец. Хоть на что-то решился. Будет, как Кандид, возделывать свой сад». – «Вероятно, – неожиданно легко, если не сказать равнодушно согласился отец. – Всякое неначатое дело таит в себе совершенство. Вот и летят, как бабочки на лампу. А как начнут – сплошное разочарование, обожженные крылья».
Леон вспомнил, чем закончилась давняя дяди Петина попытка отсудить у исключившего его из рядов КПСС райкома уплаченные за восемнадцать, что ли, лет пребывания в партии членские взносы. Жестоким обследованием в психдиспансере, где дядю Петю пытали разрывающими суставы инъекциями и электрошоком, от которого мозги в голове, если верить дяде Пете (а как тут ему не верить?), превращались в трясущееся в горшке говно, трехлетним лечением в ЛТП в Пермской области на лесоповале.
Леон чуть было не спросил у отца: неужто же и дело со взносами таило до своего начала совершенство? И если да, в чем оно заключалось?
Но не спросил. Отец, принимая во внимание возраст Леона, вряд ли бы ответил искренне. «Конечно же, таило, – так бы ответил отец. – Дядя Петя, к примеру, мог принести в портфеле в здание райкома бомбу и взорвать его к чертовой матери. А он затеял глупую судебную тяжбу и все испортил».
Да и не очень-то интересовал Леона дядя Петя, последний раз появлявшийся у них в Москве как раз три года назад – перед ЛТП, когда Леон ходил в пятый класс. Дядя Петя запомнился тихим, трезвым и бесконечно грустным. Как-то не верилось в громовые его запои, когда он с топором в руках и с пеной на губах гонял жену и детей, крушил мебель, разбивал к чертовой матери раковины и унитазы.
За два дня, проведенные у них, дядя Петя починил все вышедшие из строя электроприборы, включая такой сложный, как вязальная машина, намертво прикрепил к стенке стеллаж с тяжелыми книгами.
Стеллаж уже несколько лет, подобно гигантскому утюгу, угрожающе нависал над отцовской головой, когда тот садился за письменный стол работать.
На стеллаже располагались собрания сочинений классиков марксизма-ленинизма: коричневые Маркс и Энгельс, синий Ленин, под самым потолком – вишневый неприметный Сталин. Книгами идущих вослед практиков и теоретиков недавно еще всепобеждающего и единственно верного, а нынче никого и ничего не побеждающего и единственно неверного учения отец отчего-то брезговал, не помещал их в опасно гуляющий над головой утюг-стеллаж. Глянцевые томики и брошюрки несерьезных, как западные триллеры, расцветок, вероятно, могли, по мнению отца, внести диссонанс в монолит учения, смотрелись бы на стеллаже как сорные васильки и лютики, а случись возврат к суровым временам – как куриная слепота! – посреди единообразного, но почему-то (понятно почему!) непрополотого литого свинцового поля. Им и было место на непрестижных полках в кладовке в неорганизованной компании прочих печатных сорняков-однодневок: газет, журналов, еженедельников, старых и многочисленных новых, нечетко или излишне четко отпечатанных на толстой или тонкой, желтой или белой бумаге. Воистину, за сорняками было не разглядеть злаков. Предстояло собрать урожай не свинцовых, как обычно, зерен, но плевел.
Кладовка была неиссякающим источником макулатуры. Леон едва успевал увязывать в пачки, обменивать на талоны, приобретать на эти талоны то «Железную маску», то «Анжелику» да тут же в магазине и уступать желающим по рыночной цене. Однако уже было объявлено о предстоящем многократном удорожании периодики и книг. Вряд ли на следующий год родители смогут вольно выписывать в дом, вольно покупать в киосках. Источник, следовательно, иссякнет, пересохнет, как – рано или поздно – любой источник.
Что-то беспокоящее заключалось в том, что хоть и пустенькие, но живенькие изданьица увязывались в пачки, исчезали в макулатурных подвалах, в то время как свинцовые тома основоположников хоть и кренились, но оставались в стеллаже. И одновременно лживым было беспокойство, так как не кто иной, как Леон, самолично относил пачки в макулатурный подвал. Он утешал себя тем, что, будь его воля, он бы в первую голову отнес туда свинцовые тома. Что не следует пугающе усложнять, городить на пустом месте. Что это, в сущности, естественный круговорот бумаги в обществе: одна уходит из дома, превращается в другую – частично в картон, частично в деньги в кармане Леона, третья же остается в стеллаже. А что уходит хоть и сорная, но живая, остается же радиоактивная и мертвая, то только так в жизни и бывает. Жизнь склонна к застывшим, калечащим все живое формам. Это закон.
И этот закон не нравился Леону.
Каждый раз, входя в отцовский кабинет, Леон вонзал недоумевающий взгляд в пронизывающие время, подобно игле мешковину, переплеты. Они как будто были вечны, как будто были не книги, как будто существовали не для того, чтобы их читали. Сталин пятидесятого года издания выглядел несравнимо новее только что купленного, но уже гнуто-обложечного, газетно-раздувшегося, серого, как борода, Бердяева.
Оттого-то и само учение виделось Леону в цвете этих самых угнездившихся над головой отца томов: коричневым, темно-синим и вишневым. Он даже вывел цветовой код развития учения, так сказать, спектральный его анализ: от коричневого (дерьма) через темно-синий (синяк) к вишневому (кровоподтеку). На вишневом учение временно приостановило развитие, стабилизировалось и закрепилось, воинственно отторгая все, что не дерьмо, не удар, не кровь. Кто-то, правда, сказал Леону, что существуют черные тома собрания сочинений Пол Пота. Но их, наверно, не успели перевести на русский. А может, перевести успели, да не успели издать. Иначе бы они непременно были у отца. Как, к примеру, фиолетовые тома Мао Цзэдуна. Черный гробовой цвет мог достойно увенчать учение, да только мелковат в масштабах планеты оказался Пол Пот. Он был всего лишь предтечей настоящего завершителя учения, о скором приходе которого возвестил, но чье время еще не настало.
Отца не обрадовало, что дядя Петя укрепил стеллаж. «Ну вот, – помнится, вздохнул он, – теперь мне не умереть красиво. Я бы мог стать святым мучеником во славу марксизма, а ты, – ткнул он пальцем в дядю Петю, – все испортил». Леон хотел было возразить, что чего-чего, а мучеников во славу марксизма было предостаточно, но подумал, что отец имеет в виду иное, не безвинное и, следовательно, не святое, а сознательное и, следовательно, святое мученичество. Безвинное мученичество не в счет. Это воздух марксизма. Когда немарксисты перестают безвинно мучиться, задыхающимся марксистам являются странные мысли о падающих на голову стеллажах.
Узнав, что дядя Петя решил податься в фермеры-арендаторы, вспомнив, что у него золотые руки, что трезвый он работает как заведенный, Леон подумал, что, укрепив над головой отца первый, дядя Петя вознамерился укрепить – уже над головой страны – второй стеллаж. Кормить страну, предварительно не очистив ее от налипшего коричневого дерьма, не утишив примочками чудовищных синяков, не подсушив мокнущих под вишневой коркой ран, – было все равно что кормить странного, вечно голодного больного, который чем ему хуже, тем ненасытнее до жратвы и воровства, тем злее ненавидит того, кто его кормит, тем изощреннее ему вредит, мешает себя кормить. То есть дядя Петя собирался укреплять не больного, но болезнь, играть по правилам, которые безумный больной установил для себя и для врачей, а это означало не излечение, но продление голодного сумасшествия. Съедено-то все будет со свистом, да что толку? Дядя Петя думал (если думал), что вступает на дорогу милосердного сельскохозяйственного труда, тогда как в действительности то была дорога продолжения страданий.
Леон перелистывал Философский энциклопедический словарь и как бы ощущал лицом мертвящий, с запашком дерьма ветер, сквозящий сквозь стены от литого стеллажа в кабинете отца к его столу, на котором лежал этот самый Философский энциклопедический словарь. Мертвый ветер каждую страницу припорашивал смесью коричневого, синего, вишневого, что давало в смешении цветов однозначную серость, в смешении же качеств – дерьмо, поскольку дерьмо имеет тенденцию преобладать в соревновании качеств. Только над смертью – нет. Черный полпотовский цвет посильнее серого марксистского.
Леон почему-то читал про Пифагора.
Ему казалось, марксистский ветер не прошьется сквозь тысячелетия до чистой эгейской сини, белого аттического солнца, мраморных колонн, черно-зеленых оливковых рощ и виноградников, горных пастбищ, свободных людей, с удовольствием владевших рабами. Но он был тут как тут, костлявой Хароновой рукой хватающий Пифагора за хитон, ошеломляющим порывом, как птицу в печную трубу, вгоняющий его учение в десять пар онтологических принципов: предел – беспредельное, нечет – чет, одно – множество, право – лево, мужское – женское, покоящееся – движущееся, прямое – кривое, свет – тьма, добро – зло, квадрат – прямоугольник.
Тем самым превращая его в абсурд, так как пары онтологических принципов можно было выстраивать бесконечно: вода – вино, мир – война, любовь – ненависть, трусость – храбрость, правда – ложь и так далее. Пока не надоест. Тем самым выдавая произвольно выбранные внутри вечной бесконечности Пифагором вехи – он сыпал их, как корм птицам, – за конечные пограничные столбы на территории античного познания, за которыми будто бы пустота несовершенства. Как и за всем, что не есть научный коммунизм. Марксистский ветер весьма тяготел к конечности, так называемой эсхатологичности, к пограничным столбам на территориях любого познания, запретным зонам, желательно под шлагбаумами, а еще лучше – под колючей проволокой с пропущенным током.
Но Леон, хоть его родители и были преподавателями научного коммунизма, учеными-марксистами, мать кандидатом, отец доктором философских наук, доподлинно знал, что если что в мире и конечно, так это прежде всего сам научный коммунизм. Конечен именно в силу своих посягательств на бесконечность. Конечно все. Но что посягает на вечность – вдвойне и быстрее. Он бы мог утвердиться в конечном мире: в термитнике, улье, осином гнезде или муравейнике. Но в том-то и беда (для коммунизма) и счастье (для жизни), что мир бесконечен. Вот только что там – за концом коммунизма? Впрямь ли счастье?
С некоторых пор Леон сомневался.
Ведь каждому ясно, что между пределом и беспредельным во всем своем многообразии помещается сущее, между четом и нечетом бесчисленное множество дробей, между право и лево прямо, между мужчиной и женщиной гермафродит, между покоящимся и движущимся трогающееся с места, между прямым и кривым спиральное, между светом и тьмой знаменитое сфумато Леонардо да Винчи, между добром и злом исполнение приказа, между квадратом и прямоугольником параллелограмм. Так же как между водой и вином пиво (применительно к нашей действительности – бражка), между миром и войной прозябание (применительно к нашей действительности – застой, стремительно развивающийся от относительного благополучия к чистой нищете), между правдой и ложью полуправда и полуложь, между трусостью и храбростью ничтожество. Так же как пауза между словом и молчанием. Как одичание, голод, хаос и хамство между научным коммунизмом и естественными формами человеческого существования, между обществом коммунистическим и посткоммунистическим. Как что-то тягостно-тревожное, неизвестное человеку, между жизнью и смертью. Вот этого неподдающегося осмыслению провала и боялся Леон. Ибо в нем, как и в прочих пифагоровых онтологических принципах, заключалась бесконечность. Но не та, которую хотелось приветствовать после необъяснимого (с чего бы?) самоуничтожения коммунизма. Да, Пифагор, если отвлечься от того, что он владел рабами, являлся последовательным античным антикоммунистом. Как подавляющее большинство живущих до и после него здравомыслящих людей. Однако зло, вносимое в мир коммунизмом, было совершенно непропорционально количеству коммунистов в мире. В этом заключалась первая тайна. Вторая – в том, что самоуничтожиться коммунизм мог только… во имя еще большего зла. И третья – что высказать вслух эту самую антикоммунистическую из всех антикоммунистических мыслей – означало навлечь на себя славу… коммуниста.
Так казалось Леону, перелистывающему от скуки Философский энциклопедический словарь.
Иногда его томило это: Леон.
Какими же придурками надо быть, злился он, что при фамилии Леонтьев назвать сына Леонидом! Как ни дергайся, с таким именем, такой фамилией «Леон» неизбежен.
Мать, отец и, естественно, сам Леон были русскими.
Но кроме того, что мать и отец были русскими, они были преподавателями научного коммунизма, коммунистами и, следовательно, интернационалистами. Их не могла смутить такая мелочь, как Леон, равно как: Рафик, Гюнтер, Хасан, Василь или Абдужапар.
Леон задавался вопросом, кто они больше: русские или интернационалисты? Родительский интернационализм представлялся ему в цветах и запахах обложек основоположников.
Это отбивало охоту искать ответ, так как он был очевиден и это был не тот ответ, которого хотелось.
Отец и мать до недавнего времени частенько выступали в печати со статьями, написанными порознь и совместно, в соавторстве. Леон обратил внимание, что когда совместно, то было меньше страха перед абсурдом, больше какого-то победительного презрения к позору. Последним совместным родительским трудом была книга о новой общности людей – советском народе, истинными представителями которого отец и мать, вероятно, себя считали.
Сейчас новая общность предстала никогда не бывшей. В некорыстное существование бывших советских интернационалистов, а ныне самых что ни на есть националистов никто не верил. Лишь русским интернационалистам эта метаморфоза, как, впрочем, и любая другая метаморфоза, не далась. Сделаться одними только русскими родителям было странно, непривычно и… мелковато. Отец и мать остались коммунистами, говорящими на русском языке, до поры помалкивающими об интернационализме, то есть самыми жалкими и ничтожными из всех возможных разновидностей коммунистов.
В новой несуществующей общности – советском народе – с кличкой «Леон» было не затеряться.
Косились незнакомые. Знакомые, те, с кем вместе рос, переходил из класса в класс, тоже начинали коситься.
– Когда в Израиль, Леон? – вдруг громко спросил у него в школьном туалете, разогнав рукой клубы сигаретного дыма, Коля Фомин – здоровый, похожий на белого медведя малый.
Юрий Вильямович Козлов
Первый том настоящего издания объединяет два произведения Юрия Козлова: уже хорошо известное читателям и новое, недавно оконченное.
«Одиночество вещей» – роман, где мистика, политика и философия сплетаются в причудливую и захватывающую ткань повествования, уводящую читателя в коллективное бессознательное эпохи девяностых годов, когда рушилась страна и судьбы людей. В хозяйстве российского фермера трудятся ожившие «классики марксизма», а само «бессмертное учение» завершает жизнь в одном из московских гаражей.
«Слепой трамвай» – аллегория движущейся по непредсказуемому маршруту человеческой цивилизации. Возможно, к катастрофе. Но героиня романа – женщина, поднявшаяся на новую ступень антропологического развития, – верит, что у людей, несмотря на все их грехи и отступления от добродетели, остается шанс на жизнь и счастье в новом мире.
Юрий Вильямович Козлов
Одиночество вещей. Слепой трамвай
© Козлов Ю. В., 2023
© ООО «Арт-холдинг “Медиарост”», 2023
Одиночество вещей
Часть первая
Война гороскопов
Леон перелистывал Философский энциклопедический словарь, невообразимой толщины книгу, в которой не было философии, когда услышал, что дядя Петя, младший брат отца, последовательно изгнанный из семьи, из квартиры, из партии, с работы (не одной), алкаш, только-только вырвавшийся после трехлетних страданий из ЛТП, заделался фермером-арендатором в деревне Зайцы Куньинского района Псковской области.
Это явствовало из полученного от дяди Пети письма, которое в данный момент читала на кухне вслух мать.
Отец был совершенно равнодушен к судьбе младшего брата. Письмо из неведомых Зайцев несколько дней приглашающе лежало на холодильнике, однако отец не удосужился его распечатать. «Гляди-ка ты, – только и сказал он, – почта еще функционирует». В последнее время отец перестал проявлять интерес к получаемым письмам, равно как и снимать трубку звонящего телефона. Нераспечатанные письма он, на манер Фолкнера, складывал в стол. К нюнящему телефону подходил, когда тот переставал звонить.
Мать, естественно, знала про внезапную и странную отцовскую нелюбовь к новостям – политическим и семейным, из которых, собственно, состояла жизнь. Но полагала, что все должно иметь свой предел. Не распечатывать письмо от хоть и неудалого, но все же родного брата было, по ее мнению, запределом. Поэтому она читала письмо вслух.
Как и следовало ожидать, оно заканчивалось просьбой выслать в долг пятьсот рублей, которые дядя Петя обещал вернуть в начале лета, как только получит от правительства ссуду, а еще вернее – осенью, когда рассчитается за произведенную сельхозпродукцию и будет при немалых деньгах. Подобное уточнение, видимо, должно было подчеркнуть искренность и основательность арендно-фермерских намерений дяди Пети.
«Он что, охренел там в этих Зайцах? – удивился отец. – Какую ссуду? От какого правительства?» – «От нашего, советского, а может, российского правительства, – ответила мать. – Он не уточняет. Петя молодец. Лучше поднимать сельское хозяйство, чем пьянствовать да судиться с райкомом из-за взносов». – «Поднимать? – усмехнулся отец. – А кто, интересно, его положил?» – «Как кто? – сказала мать. – Наше советское, а может, российское правительство. Или оба вместе». – «А теперь, стало быть, советское и российское правительства передумали? От кого этот дурак ждет ссуду? Какие пятьсот рублей? Он их тут же пропьет!» – «И все равно, – упорствовала мать, – он молодец. Хоть на что-то решился. Будет, как Кандид, возделывать свой сад». – «Вероятно, – неожиданно легко, если не сказать равнодушно согласился отец. – Всякое неначатое дело таит в себе совершенство. Вот и летят, как бабочки на лампу. А как начнут – сплошное разочарование, обожженные крылья».
Леон вспомнил, чем закончилась давняя дяди Петина попытка отсудить у исключившего его из рядов КПСС райкома уплаченные за восемнадцать, что ли, лет пребывания в партии членские взносы. Жестоким обследованием в психдиспансере, где дядю Петю пытали разрывающими суставы инъекциями и электрошоком, от которого мозги в голове, если верить дяде Пете (а как тут ему не верить?), превращались в трясущееся в горшке говно, трехлетним лечением в ЛТП в Пермской области на лесоповале.
Леон чуть было не спросил у отца: неужто же и дело со взносами таило до своего начала совершенство? И если да, в чем оно заключалось?
Но не спросил. Отец, принимая во внимание возраст Леона, вряд ли бы ответил искренне. «Конечно же, таило, – так бы ответил отец. – Дядя Петя, к примеру, мог принести в портфеле в здание райкома бомбу и взорвать его к чертовой матери. А он затеял глупую судебную тяжбу и все испортил».
Да и не очень-то интересовал Леона дядя Петя, последний раз появлявшийся у них в Москве как раз три года назад – перед ЛТП, когда Леон ходил в пятый класс. Дядя Петя запомнился тихим, трезвым и бесконечно грустным. Как-то не верилось в громовые его запои, когда он с топором в руках и с пеной на губах гонял жену и детей, крушил мебель, разбивал к чертовой матери раковины и унитазы.
За два дня, проведенные у них, дядя Петя починил все вышедшие из строя электроприборы, включая такой сложный, как вязальная машина, намертво прикрепил к стенке стеллаж с тяжелыми книгами.
Стеллаж уже несколько лет, подобно гигантскому утюгу, угрожающе нависал над отцовской головой, когда тот садился за письменный стол работать.
На стеллаже располагались собрания сочинений классиков марксизма-ленинизма: коричневые Маркс и Энгельс, синий Ленин, под самым потолком – вишневый неприметный Сталин. Книгами идущих вослед практиков и теоретиков недавно еще всепобеждающего и единственно верного, а нынче никого и ничего не побеждающего и единственно неверного учения отец отчего-то брезговал, не помещал их в опасно гуляющий над головой утюг-стеллаж. Глянцевые томики и брошюрки несерьезных, как западные триллеры, расцветок, вероятно, могли, по мнению отца, внести диссонанс в монолит учения, смотрелись бы на стеллаже как сорные васильки и лютики, а случись возврат к суровым временам – как куриная слепота! – посреди единообразного, но почему-то (понятно почему!) непрополотого литого свинцового поля. Им и было место на непрестижных полках в кладовке в неорганизованной компании прочих печатных сорняков-однодневок: газет, журналов, еженедельников, старых и многочисленных новых, нечетко или излишне четко отпечатанных на толстой или тонкой, желтой или белой бумаге. Воистину, за сорняками было не разглядеть злаков. Предстояло собрать урожай не свинцовых, как обычно, зерен, но плевел.
Кладовка была неиссякающим источником макулатуры. Леон едва успевал увязывать в пачки, обменивать на талоны, приобретать на эти талоны то «Железную маску», то «Анжелику» да тут же в магазине и уступать желающим по рыночной цене. Однако уже было объявлено о предстоящем многократном удорожании периодики и книг. Вряд ли на следующий год родители смогут вольно выписывать в дом, вольно покупать в киосках. Источник, следовательно, иссякнет, пересохнет, как – рано или поздно – любой источник.
Что-то беспокоящее заключалось в том, что хоть и пустенькие, но живенькие изданьица увязывались в пачки, исчезали в макулатурных подвалах, в то время как свинцовые тома основоположников хоть и кренились, но оставались в стеллаже. И одновременно лживым было беспокойство, так как не кто иной, как Леон, самолично относил пачки в макулатурный подвал. Он утешал себя тем, что, будь его воля, он бы в первую голову отнес туда свинцовые тома. Что не следует пугающе усложнять, городить на пустом месте. Что это, в сущности, естественный круговорот бумаги в обществе: одна уходит из дома, превращается в другую – частично в картон, частично в деньги в кармане Леона, третья же остается в стеллаже. А что уходит хоть и сорная, но живая, остается же радиоактивная и мертвая, то только так в жизни и бывает. Жизнь склонна к застывшим, калечащим все живое формам. Это закон.
И этот закон не нравился Леону.
Каждый раз, входя в отцовский кабинет, Леон вонзал недоумевающий взгляд в пронизывающие время, подобно игле мешковину, переплеты. Они как будто были вечны, как будто были не книги, как будто существовали не для того, чтобы их читали. Сталин пятидесятого года издания выглядел несравнимо новее только что купленного, но уже гнуто-обложечного, газетно-раздувшегося, серого, как борода, Бердяева.
Оттого-то и само учение виделось Леону в цвете этих самых угнездившихся над головой отца томов: коричневым, темно-синим и вишневым. Он даже вывел цветовой код развития учения, так сказать, спектральный его анализ: от коричневого (дерьма) через темно-синий (синяк) к вишневому (кровоподтеку). На вишневом учение временно приостановило развитие, стабилизировалось и закрепилось, воинственно отторгая все, что не дерьмо, не удар, не кровь. Кто-то, правда, сказал Леону, что существуют черные тома собрания сочинений Пол Пота. Но их, наверно, не успели перевести на русский. А может, перевести успели, да не успели издать. Иначе бы они непременно были у отца. Как, к примеру, фиолетовые тома Мао Цзэдуна. Черный гробовой цвет мог достойно увенчать учение, да только мелковат в масштабах планеты оказался Пол Пот. Он был всего лишь предтечей настоящего завершителя учения, о скором приходе которого возвестил, но чье время еще не настало.
Отца не обрадовало, что дядя Петя укрепил стеллаж. «Ну вот, – помнится, вздохнул он, – теперь мне не умереть красиво. Я бы мог стать святым мучеником во славу марксизма, а ты, – ткнул он пальцем в дядю Петю, – все испортил». Леон хотел было возразить, что чего-чего, а мучеников во славу марксизма было предостаточно, но подумал, что отец имеет в виду иное, не безвинное и, следовательно, не святое, а сознательное и, следовательно, святое мученичество. Безвинное мученичество не в счет. Это воздух марксизма. Когда немарксисты перестают безвинно мучиться, задыхающимся марксистам являются странные мысли о падающих на голову стеллажах.
Узнав, что дядя Петя решил податься в фермеры-арендаторы, вспомнив, что у него золотые руки, что трезвый он работает как заведенный, Леон подумал, что, укрепив над головой отца первый, дядя Петя вознамерился укрепить – уже над головой страны – второй стеллаж. Кормить страну, предварительно не очистив ее от налипшего коричневого дерьма, не утишив примочками чудовищных синяков, не подсушив мокнущих под вишневой коркой ран, – было все равно что кормить странного, вечно голодного больного, который чем ему хуже, тем ненасытнее до жратвы и воровства, тем злее ненавидит того, кто его кормит, тем изощреннее ему вредит, мешает себя кормить. То есть дядя Петя собирался укреплять не больного, но болезнь, играть по правилам, которые безумный больной установил для себя и для врачей, а это означало не излечение, но продление голодного сумасшествия. Съедено-то все будет со свистом, да что толку? Дядя Петя думал (если думал), что вступает на дорогу милосердного сельскохозяйственного труда, тогда как в действительности то была дорога продолжения страданий.
Леон перелистывал Философский энциклопедический словарь и как бы ощущал лицом мертвящий, с запашком дерьма ветер, сквозящий сквозь стены от литого стеллажа в кабинете отца к его столу, на котором лежал этот самый Философский энциклопедический словарь. Мертвый ветер каждую страницу припорашивал смесью коричневого, синего, вишневого, что давало в смешении цветов однозначную серость, в смешении же качеств – дерьмо, поскольку дерьмо имеет тенденцию преобладать в соревновании качеств. Только над смертью – нет. Черный полпотовский цвет посильнее серого марксистского.
Леон почему-то читал про Пифагора.
Ему казалось, марксистский ветер не прошьется сквозь тысячелетия до чистой эгейской сини, белого аттического солнца, мраморных колонн, черно-зеленых оливковых рощ и виноградников, горных пастбищ, свободных людей, с удовольствием владевших рабами. Но он был тут как тут, костлявой Хароновой рукой хватающий Пифагора за хитон, ошеломляющим порывом, как птицу в печную трубу, вгоняющий его учение в десять пар онтологических принципов: предел – беспредельное, нечет – чет, одно – множество, право – лево, мужское – женское, покоящееся – движущееся, прямое – кривое, свет – тьма, добро – зло, квадрат – прямоугольник.
Тем самым превращая его в абсурд, так как пары онтологических принципов можно было выстраивать бесконечно: вода – вино, мир – война, любовь – ненависть, трусость – храбрость, правда – ложь и так далее. Пока не надоест. Тем самым выдавая произвольно выбранные внутри вечной бесконечности Пифагором вехи – он сыпал их, как корм птицам, – за конечные пограничные столбы на территории античного познания, за которыми будто бы пустота несовершенства. Как и за всем, что не есть научный коммунизм. Марксистский ветер весьма тяготел к конечности, так называемой эсхатологичности, к пограничным столбам на территориях любого познания, запретным зонам, желательно под шлагбаумами, а еще лучше – под колючей проволокой с пропущенным током.
Но Леон, хоть его родители и были преподавателями научного коммунизма, учеными-марксистами, мать кандидатом, отец доктором философских наук, доподлинно знал, что если что в мире и конечно, так это прежде всего сам научный коммунизм. Конечен именно в силу своих посягательств на бесконечность. Конечно все. Но что посягает на вечность – вдвойне и быстрее. Он бы мог утвердиться в конечном мире: в термитнике, улье, осином гнезде или муравейнике. Но в том-то и беда (для коммунизма) и счастье (для жизни), что мир бесконечен. Вот только что там – за концом коммунизма? Впрямь ли счастье?
С некоторых пор Леон сомневался.
Ведь каждому ясно, что между пределом и беспредельным во всем своем многообразии помещается сущее, между четом и нечетом бесчисленное множество дробей, между право и лево прямо, между мужчиной и женщиной гермафродит, между покоящимся и движущимся трогающееся с места, между прямым и кривым спиральное, между светом и тьмой знаменитое сфумато Леонардо да Винчи, между добром и злом исполнение приказа, между квадратом и прямоугольником параллелограмм. Так же как между водой и вином пиво (применительно к нашей действительности – бражка), между миром и войной прозябание (применительно к нашей действительности – застой, стремительно развивающийся от относительного благополучия к чистой нищете), между правдой и ложью полуправда и полуложь, между трусостью и храбростью ничтожество. Так же как пауза между словом и молчанием. Как одичание, голод, хаос и хамство между научным коммунизмом и естественными формами человеческого существования, между обществом коммунистическим и посткоммунистическим. Как что-то тягостно-тревожное, неизвестное человеку, между жизнью и смертью. Вот этого неподдающегося осмыслению провала и боялся Леон. Ибо в нем, как и в прочих пифагоровых онтологических принципах, заключалась бесконечность. Но не та, которую хотелось приветствовать после необъяснимого (с чего бы?) самоуничтожения коммунизма. Да, Пифагор, если отвлечься от того, что он владел рабами, являлся последовательным античным антикоммунистом. Как подавляющее большинство живущих до и после него здравомыслящих людей. Однако зло, вносимое в мир коммунизмом, было совершенно непропорционально количеству коммунистов в мире. В этом заключалась первая тайна. Вторая – в том, что самоуничтожиться коммунизм мог только… во имя еще большего зла. И третья – что высказать вслух эту самую антикоммунистическую из всех антикоммунистических мыслей – означало навлечь на себя славу… коммуниста.
Так казалось Леону, перелистывающему от скуки Философский энциклопедический словарь.
Иногда его томило это: Леон.
Какими же придурками надо быть, злился он, что при фамилии Леонтьев назвать сына Леонидом! Как ни дергайся, с таким именем, такой фамилией «Леон» неизбежен.
Мать, отец и, естественно, сам Леон были русскими.
Но кроме того, что мать и отец были русскими, они были преподавателями научного коммунизма, коммунистами и, следовательно, интернационалистами. Их не могла смутить такая мелочь, как Леон, равно как: Рафик, Гюнтер, Хасан, Василь или Абдужапар.
Леон задавался вопросом, кто они больше: русские или интернационалисты? Родительский интернационализм представлялся ему в цветах и запахах обложек основоположников.
Это отбивало охоту искать ответ, так как он был очевиден и это был не тот ответ, которого хотелось.
Отец и мать до недавнего времени частенько выступали в печати со статьями, написанными порознь и совместно, в соавторстве. Леон обратил внимание, что когда совместно, то было меньше страха перед абсурдом, больше какого-то победительного презрения к позору. Последним совместным родительским трудом была книга о новой общности людей – советском народе, истинными представителями которого отец и мать, вероятно, себя считали.
Сейчас новая общность предстала никогда не бывшей. В некорыстное существование бывших советских интернационалистов, а ныне самых что ни на есть националистов никто не верил. Лишь русским интернационалистам эта метаморфоза, как, впрочем, и любая другая метаморфоза, не далась. Сделаться одними только русскими родителям было странно, непривычно и… мелковато. Отец и мать остались коммунистами, говорящими на русском языке, до поры помалкивающими об интернационализме, то есть самыми жалкими и ничтожными из всех возможных разновидностей коммунистов.
В новой несуществующей общности – советском народе – с кличкой «Леон» было не затеряться.
Косились незнакомые. Знакомые, те, с кем вместе рос, переходил из класса в класс, тоже начинали коситься.
– Когда в Израиль, Леон? – вдруг громко спросил у него в школьном туалете, разогнав рукой клубы сигаретного дыма, Коля Фомин – здоровый, похожий на белого медведя малый.