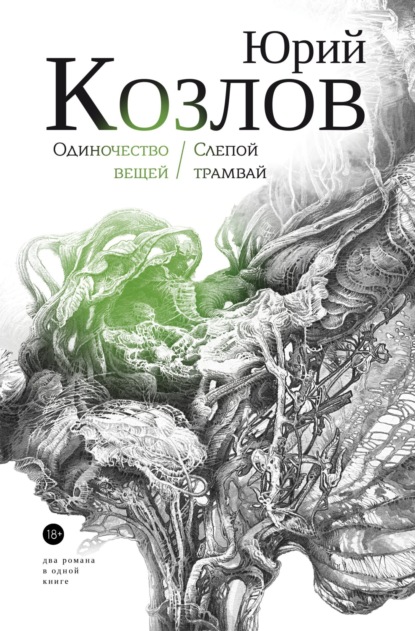По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Одиночество вещей. Слепой трамвай. Том 1.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сдурел, Фома? – опешил Леон. – Зачем мне в Израиль?
Идиотский вопрос был тем более обиден, что Леон и Фомин считались приятелями. Выходило, Фомин полагал пространство их приятельства достаточно разреженным, чтобы помещать туда подобные вопросы. Что могло свидетельствовать о двух вещах: либо он еще больший кретин, чем считал Леон, либо отныне Леону не приятель.
– Так ты ж еврей, – просто объяснил Фомин.
– Я еврей? – Леон почувствовал внезапную слабость, всегда настигающую его, когда требовалось быстро и дерзко (чтобы закрыть тему) оправдаться в непредсказуемом. Скажем, что он парень, а не девчонка, что не шарит вечерами по помойкам, не душит в подвалах кошек, не нюхает, вставив голову в полиэтиленовый мешок, клей «Момент», не ходит в учительскую стучать на одноклассников. – Почему это я еврей? – жалко уточнил он. Попытался уверить себя, что Фомин странненько так пошутил. Ну какой он, в самом деле, еврей, с отцом по имени Иван и с матерью по имени Мария? Но по вдруг установившейся в туалете тишине понял, что шуткой происходящее кажется одному ему.
– Почему? – долго, как белый медведь на ускользающего со льдины тюленя, смотрел на него Фомин. – Потому что Леон – еврейское имя, понял!
– Это вы зовете меня Леоном! – разозлился Леон. – Настоящее мое имя Леонид, а фамилия Леонтьев!
– Да? – недоверчиво переспросил Фомин, и Леон подумал, что человеческие глупость и подлость бесконечны, как Вселенная.
Самое удивительное, что, утверждая очевидное, а именно, что он не еврей, доподлинно зная, что он не еврей, Леон вдруг испытал смутное мимолетное сомнение, непонятный испуг, как если бы его застукали… за чем? За тем, что он мог бы родиться евреем?
Твердый плиточный пол туалета на мгновение обнаружил зыбкость, ушел из-под ног. Леон подумал, что нет ничего проще, чем превратить нормального человека в оправдывающегося (в чем? в собственном существовании?) ублюдка. Можно даже не слушать, как он ответит на вопрос. Достаточно задать сам специфический вопрос, который, как черная дыра во Вселенной, готов проглотить любой возможный ответ, а на самом деле, конечно, не ответ, а ответчика. Жизнь в моменты подобных вопросов и ответов перемещается из привычного – трехмерного – пространства в поначалу непривычное – иррациональное. Внутри него кое-какие русские вполне могут оказаться евреями, а кое-какие евреи, скажем, американцами или испанцами. Внутри него, как в Зазеркалье, возможны самые удивительные и шокирующие превращения и сочетания. Леону сделалось тревожно, так как он знал, что лучше бы людям не задавать такие вопросы и не отвечать на них, не прояснять собственную сущность. Потому что она слишком часто ущербна. Как, впрочем, знал и то, что условия, при которых люди оказываются вынужденными прояснять собственную сущность, возникают помимо воли самих людей. Вопрос Фомина свидетельствовал, что условия на подходе. Или – что у Леона разыгралось воображение.
– Чем занимаются твои родители, Леон? – вдруг поинтересовался десятиклассник по фамилии Плаксидин, известный в школе как Эпоксид.
Леон и не заметил Эпоксида. А тот не только внимательнейшим образом выслушал разговор, но зачем-то полез в яркий глянцевый рюкзак.
Леон знал зачем.
Эпоксид был светловолос, сероглаз, бицепсам его было тесно в узких коротких рукавах модной рубашки. Они были отлиты из отвердевшей эпоксидной смолы, его бицепсы. Сам же он был тянуще гибкий, как еще не успевшая отвердеть смола. Он был похож на спартанского юношу-эфеба.
Эпоксид подрабатывал в спортивном кооперативе «Бородино», вел там по вечерам секцию карате. Проходя мимо, Леон наблюдал сквозь просвет в портьерах, как он орудует руками и ногами. Никому и в голову не могло прийти осведомиться у Эпоксида, еврей ли он.
Случалось Леону видеть, как Эпоксид в обществе привлекательных, однако явно старших по возрасту девушек (дам?) усаживался за руль машины марки «Ауди». Сам факт появления Эпоксида в школьном туалете (хоть он и учился в школе) был странен. Эпоксид был в школе редким гостем. Но даже если ему, что называется, приспичило в туалет, он, небрежно ходящий в кожаной куртке за пять, что ли, тысяч (Леон видел точно такую же в комиссионке), не должен был интересоваться, чем занимаются родители Леона. Какое его собачье дело? Их пути никак не могли пересечься. Родители доживали в старом, устало огрызающемся, сходящем на нет мире. Эпоксид наслаждался жизнью в новом, тоже огрызающемся, но с ликующим предощущением силы, как молодой кобель, мире.
– Насколько мне известно, они преподают философию, – ответил Леон и чуть не оглох, такой хохот раздался в туалете. Казалось, кафель со стены летит острыми осколками.
Эпоксид наконец извлек из рюкзака что хотел – учебник обществоведения.
– Философию? – серьезно уточнил он, раскрыл учебник. – Тут написано: авторы раздела «Научный коммунизм – высшее достижение человеческой мысли» И. и М. Леонтьевы. Это твои родители?
– И. – Иван, – пробормотал Леон. – М. – Мария. Если они евреи, значит, все русские евреи.
– Да бог с ними, с именами, – весело рассмеялся Эпоксид. – Собственно, мне плевать, кто они. Я только знаю, что такую мерзость, – брезгливо, как дохлую крысу за хвост, взял учебник за краешек бежевой с красными буквами обложки, – нормальные люди, не важно, евреи или русские, сочинить не могли! – бросил распахнувшийся на лету учебник в унитаз, расстегнул ширинку, стал на него мочиться.
Леон загипнотизированно следил за этим обыденным и недостойным, в сущности, внимания действием. Ему хотелось возразить, что просто нормальные люди, да, конечно, не могли, нормальные же коммунисты еще как могли, что, конечно, их можно за это ненавидеть, но можно и по-христиански пожалеть, ибо они не ведали, что творили, а если ведали, то все равно не ведали, раз подвели себя под такое. Но промолчал, так как возражать пришлось бы льющейся моче, возражать же льющейся моче словами еще хуже, чем совсем не возражать.
В туалете стояла тишина, нарушаемая единственным звуком – биением струи мочи в твердую обложку учебника обществоведения. Пока еще сухая обложка уверенно отражала струю, Леон подумал: не иначе как после пивного бара явился в школу проклятый Эпоксид. Наконец он закончил, и тут же на его место вскочил другой. Всем вдруг неудержимо захотелось по малой нужде, и непременно на распятый учебник обществоведения.
Леон стоял у окна и не знал, что делать. В бой? Так ведь забьют ногами, обмочат точно так же, как учебник. Именно этого они, крысино посверкивая глазками, и дожидались. Обидеться, уйти? За что? За обществоведение? Плевать он хотел на обществоведение! За родителей? Так ведь сами виноваты. Зачем сочиняли позорную главу? Но и вставать в очередь, чтобы помочиться на учебник, не хотелось. Леон не собирался ставить на себе крест вместе с обществоведением.
Он продолжал стоять у окна, как вбитый гвоздь.
Сквозь шум в ушах расслышал похабный медвежий рев Фомина: «Мужики, что мы все ссым да ссым, а ну-ка я…»
Звонок приостановил мучения Леона.
По дороге в класс он узнал, что выпускные экзамены по истории СССР и обществоведению отменены, равно как отменены сами предметы: история СССР и обществоведение.
Тогда Леон не ведал, каким образом отмена в школе предмета «обществоведение» может быть связана непосредственно с ним (он заканчивал восьмой, обществоведение начинали проходить в десятом), с тем, что дядя Петя сделался фермером-арендатором в деревне Зайцы Куньинского района Псковской области, попросил в письме в долг пятьсот рублей. Учебник обществоведения лежал в унитазе. Дядя Петя был далеко. Леон сидел в школе на уроке. Связь между всем этим мог распознать только провидец или сумасшедший.
Сидеть на уроке после происшедшего в туалете было тревожно. Незримая петля стягивалась вокруг Леона, готовясь захлестнуть. Внутри убывающего пространства петли, где неулетающим голубем бродил Леон, вязко сгущались: измышленное еврейство Леона, отмененное обществоведение, а также бесспорный факт, что родители Леона являлись авторами раздела «Научный коммунизм – высшее достижение человеческой мысли» в школьном учебнике этого самого отмененного обществоведения.
Казалось бы, всего несколько минут прошло после туалетных событий, а класс уже знал, все смотрели на Леона как на живой труп, и не сказать чтобы его радовала такая популярность.
Потому что Леон прекрасно знал, что будет дальше. До мордобоя, может, и не дойдет, но тупейших издевательств будет выше головы. Он будет крайним, пока что-то похожее или совсем непохожее не случится с кем-то другим, кто заступит на его место.
А тут и две записочки приспели. В одной: «Да здравствует коммунизм, Леон!» – и пятиконечная звезда Соломона. В другой: «Привет из Израиля, Леон!» – и шестиконечная звезда Давида.
Впору было волком завыть, броситься головой в унитаз.
В мгновения опасности Леон всегда мыслил ясно, как будто смотрел в прозрачную воду. Так и сейчас, рука сама вырвала из тетради лист, вывела дрожащим, трусливым почерком: «Хабло! Спаси меня!»
Леон знал, что спасти его может только Катя Хабло, сидящая в его ряду за предпоследним столом. Но не знал, захочет ли Катя его спасать. Как и не знал, дойдет ли до нее послание, может, пространство внутри невидимой петли настолько сгустилось, что сквозь него нет ходу Леоновым запискам?
К счастью, еще не сгустилось.
Ход пока был.
Записка попала к Хабло.
Скосив глаза, Леон, как в кривом зеркале, увидел, что Катя прочитала записку, задумчиво посмотрела на из последних сил косящего, почти превратившегося в китайца Леона своими большими золотистыми, наводящими на мысли – если о меде, то несладком, если о солнечном свете, то негреющем, и еще почему-то об осах (хотя при чем тут осы?) – глазами.
Глаза Кати Хабло не выразили ни сочувствия, ни неприязни. Такова была странная особенность ее осиных глаз: светиться, мерцать в себе, ничего при этом не выражая, как ничего, к примеру, не выражает вода в глубоком колодце, пусть даже на нее упал солнечный луч. Леону доводилось подолгу смотреть в ее глаза, и каждый раз у него возникало чувство, что он смотрит во всевидящие и одновременно незрячие (в смысле улучшить его участь, обратить на него внимание) глаза (колодец) судьбы. Если, конечно, глазами (колодцем) судьбы могут быть глаза девчонки, его одноклассницы. Леон не знал наверняка, могут или не могут, но совершенно точно знал, что может быть все что угодно.
Катя Хабло пришла в их класс два года назад.
Среди урока (Леон уже не помнил какого) завуч ввела ее за руку в аудиторию, сказала: «Эту милую девочку зовут Катя. Она будет учиться в вашем классе. Раньше Катя жила… Где ты жила?» – «В Марийской автономной республике, – ответила Катя голосом, как будто ручеек бежал по камням, – в деревне Мари Луговая». – «Мари Луговая? Какое необычное название, – удивилась завуч, преподававшая химию, пожилая, прокуренная, кашляющая. – Там что, луга?» – «Луга, луга, – подтвердила Катя ручейковым голосом, – луга и гуси, гуси и луга…» – «Как бы там ни было, теперь Катя живет в Москве, – вздохнула завуч. – Не обижайте ее. И вообще… никого не обижайте», – вышла из аудитории, оставив Катю у двери.
Учительница хмуро прошлась взглядом по рядам. Они и так были удлинены, ряды столов, упирались в доску. Только в этом году в классе появились: Ануш Ананян и Гаяне Киселян из Баку, Сережа Колесов из Душанбе, Юля Панаиоти из Сухуми, ожидающий визу в Америку Бахыт Жопобаев из захваченного ханом Ахметом Маргилана, Роман Бондарук из Чимкента. Теперь, стало быть, Катя Хабло из Мари Луговой.
Единственное свободное место было рядом с Леоном.
Он увлеченно изучал, замаскировав под учебником приобретенную на пути в школу в независимом киоске «Союзпечать» на Кутузовском проспекте книжечку под названием «Шестьсот позиций. Как извлечь максимальное удовольствие из полового акта». Издал книжечку кооператив «Турпакс» (Леон не знал, что означает это слово), стоила она десять рублей. От фотографий и рисунков рябило в глазах. У Леона закралось страшное подозрение, что начиная с четыреста шестой позиции повторяются. Во всяком случае, он не обнаружил никаких различий в позициях четыреста восемь и сто семнадцать, четыреста девять и двести семьдесят шесть. Налицо был явный обман. Леон так разозлился, что как-то перестал следить за происходящим в классе. Опомнился, когда Катю определили к нему на свободное место и она уже подкатывалась светлым ручейком, подлетала солнечной паутинкой. С перепугу Леону показалось, что она бестелесна, невесома, как порыв ветра, мерцающая радужная водяная пыль вокруг взлетающих фонтанных струй.
Радужный водяной ветер в мгновение очистил голову Леона от похабных (к тому же повторяющихся, теперь он в этом не сомневался) видений. Он вдруг осознал ничтожнейшую мерзость телесного в сравнении с… чем? Не с фонтанно-летящей же походкой направляющейся к столу девчонки? Это было бы смешно.
Но это было не смешно.
Леон не сильно огорчился, пережив очередное революционное изменение в сознании. Его сознание пребывало, как Европа, по мнению большевиков, в восемнадцатом году, в готовности к перманентной революции. Собственное сознание представлялось Леону калейдоскопической страной со смещенными в четвертое измерение очертаниями. Все, что как бы переставало там существовать в результате очистительных революционных изменений или, напротив, привносилось грязевыми революционными же селями, в действительности не исчезало и не утверждалось, а до поры затаивалось в очертаниях, как театральный герой за кулисами, когда время выхода на сцену еще не подошло. Так и шестьсот позиций, определенно начавшие повторяться с четыреста шестой, были тут, и одновременно их не было. Наверное, это и называлось обыденной жизнью сознания. В любом случае обыденная жизнь был далека от совершенства.
– Катя, – раскрыла журнал учительница, – как твоя фамилия?
– Хабло, – ответила Катя. То, как она мелодично пропела это «Хабло», находилось в очевидном противоречии с неблагозвучием самой фамилии «Хабло».