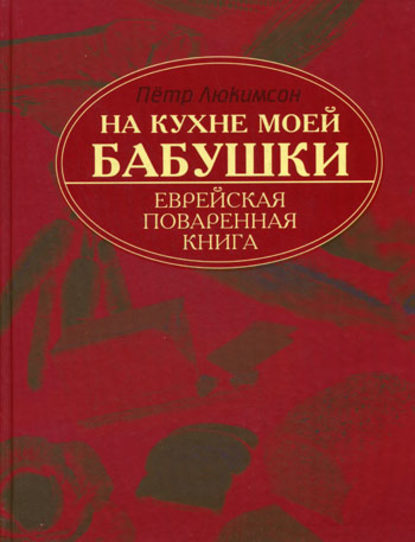По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На кухне моей бабушки. Еврейская поваренная книга
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На кухне моей бабушки. Еврейская поваренная книга
Петр Ефимович Люкимсон
В книге «На кухне моей бабушки. Еврейская поваренная книга» рассказывается о том, как готовить хорошо знакомые, старые как мир блюда еврейской кухни. А заодно – и о тех страницах еврейской истории, традиции и литературы, так или иначе связанных с этими самыми блюдами. Написано все это так свежо, искренне и увлекательно, что книга может стать не только обязательной приметой каждого еврейского дома, но и занимательным чтением для тех, кому интересно научиться готовить самые популярные еврейские блюда, узнать, что собой представляет культура еврейского народа. Словом, «На кухне моей бабушки» – это книга, написанная о евреях, но предназначенная для всех.
Петр Люкимсон
На кухне моей бабушки: еврейская поваренная книга
Автор выражает глубокую признательность своей жене Инне, раввину Ариэлю Левину и поэту Александру Бродскому за помощь в подготовке этой книги
Несколько слов о моих бабушках
(Предисловие, которое вполне можно прочитать в конце книги)
Посвящается всем моим бабушкам – бабе Белле, бабе Гене, бабе Соне, бабе Поле, да будет благословенна их память.
Наверное, не каждому так повезло в этой жизни, как мне: у меня было сразу четыре бабушки, и у трех из них мужья погибли на Великой Отечественной войне! Три из них – баба Белла, баба Соня и баба Поля приходились друг другу родными сестрами. Девичья их фамилия была Магид, и только спустя много лет я узнал, что в переводе с иврита она означает "проповедник". А стало быть, мой прапрадед был, по всей вероятности, великим знатоком Торы, тонким толкователем ее недельных глав и страстным пропагандистом хасидизма. Правда, в обозримом прошлом все прилукские Магиды зарабатывали на жизнь парикмахерским делом. Во всяком случае, и баба Соня, и баба Поля, и многие их ближайшие родственники были отменными парикмахерами.
Яков, отец моей матери, носил фамилию Немковский, и, если верить семейному преданию, мы с ним похожи, как две капли воды. Уже в Израиле я выяснил, что все Немковские были потомственными пекарями, славились даже среди тогдашних евреев своей богобоязненностью и по субботам любили вести молитву в главной городской синагоге. Узнал я все это благодаря чистой случайности: оказалось, что в Израиле живут потомки моего троюродного деда, который в начале прошлого века порвал со своей, как ему казалось, слишком ортодоксальной семьей, уехал в Палестину и стал одним из видных активистов местной компартии. Никуда же не уехавший и ни от чего не сбежавший Яков Немковский всю жизнь, до июня 1941 года, проработал пекарем и пропал без вести в первые месяцы войны. Баба Белла уверяла меня, что он попал в плен, и, если это так, то остальное понятно: у человека с такой внешностью, как у меня, выжить в немецком плену не было никаких шансов…
Второй мой дед умер незадолго до моего рождения, и в его честь я был назван Пинхасом.
Вот так и случилось, что у меня не осталось ни одного родного деда, но зато было сразу четыре бабки.
У сестер Беллы, Поли и Сони война отобрала мужей, всех трех заставила покинуть Прилуки, но когда все кончилось, они вернулись в родной, но уже переставший быть еврейским городок. Поселились они в доме, состоявшем из трех комнат, огромной кухни и длинной-длинной веранды, окна которой выходили в палисадник. В этом доме, среди трех своих бабушек, я рос примерно до трех с половиной лет. И – странное дело – до сих пор до мельчайших подробностей помню многие дни моей жизни в Прилуках и могу рассказывать о них бесконечно. Может, все дело в том, что детство – это, в сущности, и есть жизнь, а все остальное – так, сухое послесловие к ней. А может… Может, мне и в самом деле просто жутко повезло: две мои бабушки были совершенно одиноки, и я был для них центром мироздания и смыслом их жизни.
Не знаю, договорились ли они между собой или все получилось стихийно, но все мои бабушки четко разделили свои обязанности по отношению ко мне, и каждая старалась блеснуть перед другой тем, как она их выполняет, – не исключено, что это было продолжением их старого, начавшегося еще в детстве соперничества. Моя родная баба Белла отвечала за мое питание, баба Поля – за образование, а баба Соня – за одежду и развлечения…
Мой день начинался с того, что распахивались деревянные ставни и в душный полумрак длинной, вытянутой комнаты бабы Беллы врывался солнечный свет. Некоторое время я продолжал, щурясь, лежать в кровати, привыкая к свету и принюхиваясь к доносившимся из кухни запахам. Затем я позволял себя одеть и, будучи весьма откормленным ребенком, вперевалку шел к столу, на котором уже стояли горячие вареники с вишнями, большая банка густой домашней сметаны, головка свежего, плотного, режущегося на куски творога и буханка черного, еще теплого хлеба…
Позавтракав, я заваливался на кровать к бабе Поле и, глядя в потолок, голубой от примешанной к известке синьки, слушал в ее исполнении стихи Маршака и Михалкова, Квитко и Дриза, Барто и Акима, а также сказки про Колобка, Покати-Горошка, Ивана-дурака, Фэт-Фрумоса и прочих героических личностей. Обычно стихи и сказки захватывали меня настолько, что мне хотелось немедленно оказаться внутри них, и тогда на помощь бабе Поле приходили другие мои бабушки.
Если, к примеру, я начинал завидовать Лисе, сумевшей таки слопать Колобка, который и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, то баба Белла немедленно принималась за работу. Своими белыми, толстыми руками она замешивала крутое тесто, щедро приправляла его изюмом, делала из него огромный шар, и на обед мне, в числе прочего, подавали круглый, хорошо пропеченный корж, от которого сладко пахло корицей. Вместо глаз у моего личного колобка были черносливины, из которых предусмотрительно удалили косточки (чтобы дытына, не дай Бог, не подавилась), а его искусно вырезанный, задорно улыбающийся рот был заполнен смородиновым вареньем…
После знакомства со сказкой братьев Гримм о лукавом портном, прихлопнувшем одним ударом семерых мух, мне была сшита такая же, как у него, лента с искусно вышитой надписью "Одним ударом семерых". А когда я заявил, что хочу, когда вырасту, стать офицером, баба Соня немедленно повела меня в военное ателье. Там, после долгих препирательств, она заставила портного снять с меня мерку и сшить по мне форму лейтенанта Советской армии, включая фуражку с кокардой. Вообще-то баба Соня настаивала на том, чтобы погоны у меня были полковничьи, но в этом вопросе портной почему-то уперся и начал говорить, что "мадам Магид, кажется, сошли с ума". Но и без полковничьих погон можете себе представить, как смотрели жители городка на двухлетнего карапуза, дефилирующего по улицам в самой настоящей офицерской форме!
После знакомства с рассказами Ушинского мне всенепременно захотелось прокатиться на настоящей телеге и увидеть, как утки выгуливают на речке своих утят. И вот баба Белла вместе с бабой Соней заставила деда Шломо подать прямо к воротам нашего дома подводу, запряженную парой кобылок, которые и привезли меня на речку…
Кстати, я ведь до сих пор ни словом не обмолвился о деде Шломо! Дед Шломо был вторым мужем бабы Беллы и обожал меня не меньше, чем все остальные обитатели приземистого прилукского домика. В его обязанности входило выгуливать меня по городу, покупать белое переслащенное мороженое в вафельных стаканчиках и водить меня на мультфильмы в единственный в городе кинотеатр, бывший когда-то главной городской синагогой. Эти обязанности дед Шломо исполнял после того, как возвращался с работы, держа в руках огромную метлу…
Да, дед Шломо был дворником и ничего зазорного в этой профессии не видел. Говорили, что дед Шломо потерял все свои документы, включая трудовую книжку, и потому ему не положена пенсия – вот он и вынужден в свои семьдесят с лишним лет махать метлой на улицах.
Говорили также, что дед Шломо, до того как он сошелся с бабой Беллой, почему-то долго жил то ли в Казахстане, то ли в Средней Азии. А еще говорили, что когда-то, давным-давно дед Шломо был большим раввином, и от этого времени у него остались большие деньги, которые он "ховает" в тайном месте, потому что жутко скупой…
В общем, много чего говорили про деда Шломо, пока он сидел за занавеской на отделенной для него части веранды, не обращая никакого внимания на пришедших почесать язык бабкиных подруг.
В эти часы вход за занавеску без приглашения разрешался мне и только мне. Обычно я заставал деда сидящим за какой-то толстой книгой и, стараясь не мешать ему, рассматривал его сапожные инструменты (по всей видимости, дед Шломо знал толк и в этом деле). Или подходил к двум уставленным книгами этажеркам и начинал пристально их разглядывать. Странные это были книги – слишком уж они были непохожи на те новенькие, в глянцевых обложках книжечки, которые покупала для меня баба Поля. И даже на те большие, красивые тома, которые стояли у нее в шкафу, эти книги тоже были непохожи – все они были какие-то старые, потрепанные. Да и буквы, вытисненные на их переплетах, были какие-то другие, совсем не те, которые мы учили с бабой Полей.
Я смотрел на эти книги и думал о том, за что же бабушкины подруги так не любят деда Шломо и все время говорят, что он скупой? И вовсе он не скупой – стоило мне попросить у него на улице мороженого или газированной воды, он тут же доставал из кармана монетку и медленными старческими шагами направлялся к ближайшей будке.
Правда, были и другие люди, совсем не такие, как эти подруги. Они приходили к нам только ради деда, осторожно, с почтением отодвигали занавеску и о чем-то там с ним долго беседовали, о чем-то спорили или вместе читали нараспев непонятные слова из его старых книг.
Потом, подростком, уже после смерти деда Шломо, я понял, что он был единственным в городе раввином. Каждую субботу он собирал миньян в доме какого-нибудь старого еврея, и истово раскачиваясь под слышную ему одному мелодию, вел молитву. После смерти от него остались пара сотен рублей личных сбережений, тфилин и талит[1 - Тфилин (филактерии) – молитвенные кожаные коробочки со вложенными в них кусочками пергамента, на которых записаны четыре заповеди Торы (см.). Снабжены специальными ремешками, позволяющими закрепить их во время молитвы на руке и на лбу.Талит (талес) – молитвенное покрывало, надеваемое на голову и плечи.], проданные моей теткой в Баку за неплохие деньги, а также груда старых фотографий учащихся Московской иешивы[2 - Иешива – высшая религиозная школа. Ее слушателей называют в русской традиции ешиботниками.] и десятки книг, которые были сожжены за ненадобностью. Родственники и соседи потом еще долго рылись в бабкином сарае в поисках зарытого дедом клада. Бедняги, они так и не поняли, что эти книги и фотографии, которые он таскал с собой всю жизнь из ссылки в ссылку, этот талит и тфилин и были его главным и, возможно, единственным богатством!
И, наконец, была у меня еще одна бабка с отцовской стороны – баба Геня. К ней я тоже время от времени приезжал на летние каникулы, и проведенные в ее гродненской квартире дни тоже были не самыми худшими днями в моей жизни, а ванильные сухарики и бабы Генин борщ я помню до сих пор…
Вы спросите, стоило ли писать столь длинное предисловие к "Еврейской поваренной книге", и какое отношение имеют все эти мои, чисто личные воспоминания к кулинарии? Дело в том, что если бы не было всех вышеназванных людей, не было бы и этой поваренной книги и уж, во всяком случае, она не была бы еврейской. Почему? Да по той простой причине, что большинство из нас обязано тем, что мы не забыли и не растеряли свое еврейство, именно своим бабушкам и дедушкам, а не родителям!
И сегодня, заворачиваясь по утрам в талит, я вспоминаю, как дед Шломо ругался с моей матерью, когда она называла меня Петей. "Какой он вам Петя?! Он – Пинхас! Пинхас! Пин-хас!" – сердито выговаривал он ей…
А накладывая тфилин, я невольно думаю о том, что почувствовали бы все четыре мои бабушки и тот же дед Шломо, застав меня за этим занятием.
И мне хочется верить, что они остались бы мною довольны. Еще мне хочется надеяться, чтобы они были бы довольны и этой книгой, собравшей в себя рецепты их самых любимых блюд, а значит – волшебные запахи и ощущения моего детства.
По всему этому не без некоторого трепета я открываю перед вами дверь на кухню моей бабушки – самую заветную дверь в моей жизни…
Часть первая
От субботы до субботы, или Кухня на каждый день
Глава первая
Рыбный день
Форшмак! Еще форшмак!
Когда на меня, как в свое время на Бабеля[3 - Исаак Бабель (1894–1940) – выдающийся советский писатель. В 1915 г. после публикации рассказов "Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна" и "Мама, Римма и Алла" был привлечен к уголовной ответственности "за распространение порнографии". Повесть "Конармия" и циклы "Одесские рассказы" и "История моей голубятни" выдвинули Бабеля в число крупнейших мастеров слова своего времени, Эти его произведения, а также рассказы "Карл-Янкель", пьеса "Закат" и незаконченная повесть "Еврейка" поныне остаются в золотом фонде русской и еврейской литературы. Арестованный весной 1939 г. по ложному обвинению, Бабель был расстрелян в Москве в Лефортовской тюрьме 27 января 1940 г.], накатывает сладкая волна воспоминаний, я всякий раз вижу одну и ту же картину: полутемная кухня в доме бабушки Беллы, кисловатый запах варящегося на плите зеленого борща с мясом, который под самый занавес будет забелен сырым яйцом, рядышком готовится фаршированная рыба, одновременно в печке поспевает кугель из лапши…
И пока все это томится, жарится, парится, бабка разделывает на доске селедку, чтобы приготовить из нее форшмак. Готовит она не спеша, потому что до субботы времени еще вполне достаточно, и можно успеть рассказать о моей прабабушке Эстер, у которой было восемнадцать детей, о дяде Науме, потерявшем в войну жену и семерых ребятишек, о старом Лейзере, которому, кажется, довелось встретиться с самим пророком Элиягу.
"Тук-тук-тук!" – стучит в такт этим рассказам топорик, и я чувствую, что у меня начинают течь слюнки, потому что я люблю форшмак даже больше, чем фаршированную рыбу и пирожки с маком.
Да и какой еврей не любит селедки?! Селедка сопровождала наш народ на протяжении всей его галутной истории, и сам запах селедки нередко называли еврейским запахом. А сколько анекдотов, сколько хасидских притч связано с селедкой. Помните?!
"Еврейский купец как-то решил заночевать на русском постоялом дворе. Войдя в трактир этого двора, он огляделся и попросил подать ему селедку с хлебом.
Сидевший за соседним столом русский купчик, решив, что еврей поскупился на нормальный обед, крикнул половому:
– Человек, подай ему за мой счет воды – селедка воду любит!
– А ему, – подхватил еврей, – подай за мой счет водки – свинья водку любит!"
Как вы уже догадались, еврей заказал селедку вовсе не от скупости – просто это была зачастую единственная кошерная[4 - Кошерный – разрешенный в пищу согласно еврейскому диетарному кодексу – кашруту.] пища, которую можно было заказать на постоялых дворах. Кто знает – может быть, отчасти отсюда и идет наша национальная привязанность к селедке, которая считается едва ли не обязательным "предисловием" к обеду. Простая селедочка, нарезанная аппетитными ломтиками, пересыпанная кружочками лука в уксусе и подсолнечном масле, "селедка под шубой" и, конечно, форшмак…
Тот самый форшмак, который дивно готовила моя баба Белла. И вроде бы я внимательно следил в то время за каждым ее движением, вроде бы знаю рецепт этого блюда наизусть, а вот так же вкусно, как у нее, у меня никогда не получалось.
Повар одного из тель-авивских ресторанов Айзик Штерн уверял меня, что евреи заимствовали форшмак у немцев, убрав из рецепта мясо, так как еврейская традиция запрещает смешивать мясо с рыбой. Но самое интересное, что рецепт Айзика Штерна отличался от знакомого мне с детства рецепта. Когда же я сказал, что мой форшмак вкуснее, Айзик встал в позу и заставил меня съесть полтарелки этого блюда в его собственном исполнении. Что вам сказать?! На всякий случай я записал этот рецепт, но, если честно, ни разу им не воспользовался. И тем не менее привожу здесь оба рецепта форшмака – а вы уж сами выбирайте, какой вам больше подходит.
Форшмак бабы Беллы
Петр Ефимович Люкимсон
В книге «На кухне моей бабушки. Еврейская поваренная книга» рассказывается о том, как готовить хорошо знакомые, старые как мир блюда еврейской кухни. А заодно – и о тех страницах еврейской истории, традиции и литературы, так или иначе связанных с этими самыми блюдами. Написано все это так свежо, искренне и увлекательно, что книга может стать не только обязательной приметой каждого еврейского дома, но и занимательным чтением для тех, кому интересно научиться готовить самые популярные еврейские блюда, узнать, что собой представляет культура еврейского народа. Словом, «На кухне моей бабушки» – это книга, написанная о евреях, но предназначенная для всех.
Петр Люкимсон
На кухне моей бабушки: еврейская поваренная книга
Автор выражает глубокую признательность своей жене Инне, раввину Ариэлю Левину и поэту Александру Бродскому за помощь в подготовке этой книги
Несколько слов о моих бабушках
(Предисловие, которое вполне можно прочитать в конце книги)
Посвящается всем моим бабушкам – бабе Белле, бабе Гене, бабе Соне, бабе Поле, да будет благословенна их память.
Наверное, не каждому так повезло в этой жизни, как мне: у меня было сразу четыре бабушки, и у трех из них мужья погибли на Великой Отечественной войне! Три из них – баба Белла, баба Соня и баба Поля приходились друг другу родными сестрами. Девичья их фамилия была Магид, и только спустя много лет я узнал, что в переводе с иврита она означает "проповедник". А стало быть, мой прапрадед был, по всей вероятности, великим знатоком Торы, тонким толкователем ее недельных глав и страстным пропагандистом хасидизма. Правда, в обозримом прошлом все прилукские Магиды зарабатывали на жизнь парикмахерским делом. Во всяком случае, и баба Соня, и баба Поля, и многие их ближайшие родственники были отменными парикмахерами.
Яков, отец моей матери, носил фамилию Немковский, и, если верить семейному преданию, мы с ним похожи, как две капли воды. Уже в Израиле я выяснил, что все Немковские были потомственными пекарями, славились даже среди тогдашних евреев своей богобоязненностью и по субботам любили вести молитву в главной городской синагоге. Узнал я все это благодаря чистой случайности: оказалось, что в Израиле живут потомки моего троюродного деда, который в начале прошлого века порвал со своей, как ему казалось, слишком ортодоксальной семьей, уехал в Палестину и стал одним из видных активистов местной компартии. Никуда же не уехавший и ни от чего не сбежавший Яков Немковский всю жизнь, до июня 1941 года, проработал пекарем и пропал без вести в первые месяцы войны. Баба Белла уверяла меня, что он попал в плен, и, если это так, то остальное понятно: у человека с такой внешностью, как у меня, выжить в немецком плену не было никаких шансов…
Второй мой дед умер незадолго до моего рождения, и в его честь я был назван Пинхасом.
Вот так и случилось, что у меня не осталось ни одного родного деда, но зато было сразу четыре бабки.
У сестер Беллы, Поли и Сони война отобрала мужей, всех трех заставила покинуть Прилуки, но когда все кончилось, они вернулись в родной, но уже переставший быть еврейским городок. Поселились они в доме, состоявшем из трех комнат, огромной кухни и длинной-длинной веранды, окна которой выходили в палисадник. В этом доме, среди трех своих бабушек, я рос примерно до трех с половиной лет. И – странное дело – до сих пор до мельчайших подробностей помню многие дни моей жизни в Прилуках и могу рассказывать о них бесконечно. Может, все дело в том, что детство – это, в сущности, и есть жизнь, а все остальное – так, сухое послесловие к ней. А может… Может, мне и в самом деле просто жутко повезло: две мои бабушки были совершенно одиноки, и я был для них центром мироздания и смыслом их жизни.
Не знаю, договорились ли они между собой или все получилось стихийно, но все мои бабушки четко разделили свои обязанности по отношению ко мне, и каждая старалась блеснуть перед другой тем, как она их выполняет, – не исключено, что это было продолжением их старого, начавшегося еще в детстве соперничества. Моя родная баба Белла отвечала за мое питание, баба Поля – за образование, а баба Соня – за одежду и развлечения…
Мой день начинался с того, что распахивались деревянные ставни и в душный полумрак длинной, вытянутой комнаты бабы Беллы врывался солнечный свет. Некоторое время я продолжал, щурясь, лежать в кровати, привыкая к свету и принюхиваясь к доносившимся из кухни запахам. Затем я позволял себя одеть и, будучи весьма откормленным ребенком, вперевалку шел к столу, на котором уже стояли горячие вареники с вишнями, большая банка густой домашней сметаны, головка свежего, плотного, режущегося на куски творога и буханка черного, еще теплого хлеба…
Позавтракав, я заваливался на кровать к бабе Поле и, глядя в потолок, голубой от примешанной к известке синьки, слушал в ее исполнении стихи Маршака и Михалкова, Квитко и Дриза, Барто и Акима, а также сказки про Колобка, Покати-Горошка, Ивана-дурака, Фэт-Фрумоса и прочих героических личностей. Обычно стихи и сказки захватывали меня настолько, что мне хотелось немедленно оказаться внутри них, и тогда на помощь бабе Поле приходили другие мои бабушки.
Если, к примеру, я начинал завидовать Лисе, сумевшей таки слопать Колобка, который и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, то баба Белла немедленно принималась за работу. Своими белыми, толстыми руками она замешивала крутое тесто, щедро приправляла его изюмом, делала из него огромный шар, и на обед мне, в числе прочего, подавали круглый, хорошо пропеченный корж, от которого сладко пахло корицей. Вместо глаз у моего личного колобка были черносливины, из которых предусмотрительно удалили косточки (чтобы дытына, не дай Бог, не подавилась), а его искусно вырезанный, задорно улыбающийся рот был заполнен смородиновым вареньем…
После знакомства со сказкой братьев Гримм о лукавом портном, прихлопнувшем одним ударом семерых мух, мне была сшита такая же, как у него, лента с искусно вышитой надписью "Одним ударом семерых". А когда я заявил, что хочу, когда вырасту, стать офицером, баба Соня немедленно повела меня в военное ателье. Там, после долгих препирательств, она заставила портного снять с меня мерку и сшить по мне форму лейтенанта Советской армии, включая фуражку с кокардой. Вообще-то баба Соня настаивала на том, чтобы погоны у меня были полковничьи, но в этом вопросе портной почему-то уперся и начал говорить, что "мадам Магид, кажется, сошли с ума". Но и без полковничьих погон можете себе представить, как смотрели жители городка на двухлетнего карапуза, дефилирующего по улицам в самой настоящей офицерской форме!
После знакомства с рассказами Ушинского мне всенепременно захотелось прокатиться на настоящей телеге и увидеть, как утки выгуливают на речке своих утят. И вот баба Белла вместе с бабой Соней заставила деда Шломо подать прямо к воротам нашего дома подводу, запряженную парой кобылок, которые и привезли меня на речку…
Кстати, я ведь до сих пор ни словом не обмолвился о деде Шломо! Дед Шломо был вторым мужем бабы Беллы и обожал меня не меньше, чем все остальные обитатели приземистого прилукского домика. В его обязанности входило выгуливать меня по городу, покупать белое переслащенное мороженое в вафельных стаканчиках и водить меня на мультфильмы в единственный в городе кинотеатр, бывший когда-то главной городской синагогой. Эти обязанности дед Шломо исполнял после того, как возвращался с работы, держа в руках огромную метлу…
Да, дед Шломо был дворником и ничего зазорного в этой профессии не видел. Говорили, что дед Шломо потерял все свои документы, включая трудовую книжку, и потому ему не положена пенсия – вот он и вынужден в свои семьдесят с лишним лет махать метлой на улицах.
Говорили также, что дед Шломо, до того как он сошелся с бабой Беллой, почему-то долго жил то ли в Казахстане, то ли в Средней Азии. А еще говорили, что когда-то, давным-давно дед Шломо был большим раввином, и от этого времени у него остались большие деньги, которые он "ховает" в тайном месте, потому что жутко скупой…
В общем, много чего говорили про деда Шломо, пока он сидел за занавеской на отделенной для него части веранды, не обращая никакого внимания на пришедших почесать язык бабкиных подруг.
В эти часы вход за занавеску без приглашения разрешался мне и только мне. Обычно я заставал деда сидящим за какой-то толстой книгой и, стараясь не мешать ему, рассматривал его сапожные инструменты (по всей видимости, дед Шломо знал толк и в этом деле). Или подходил к двум уставленным книгами этажеркам и начинал пристально их разглядывать. Странные это были книги – слишком уж они были непохожи на те новенькие, в глянцевых обложках книжечки, которые покупала для меня баба Поля. И даже на те большие, красивые тома, которые стояли у нее в шкафу, эти книги тоже были непохожи – все они были какие-то старые, потрепанные. Да и буквы, вытисненные на их переплетах, были какие-то другие, совсем не те, которые мы учили с бабой Полей.
Я смотрел на эти книги и думал о том, за что же бабушкины подруги так не любят деда Шломо и все время говорят, что он скупой? И вовсе он не скупой – стоило мне попросить у него на улице мороженого или газированной воды, он тут же доставал из кармана монетку и медленными старческими шагами направлялся к ближайшей будке.
Правда, были и другие люди, совсем не такие, как эти подруги. Они приходили к нам только ради деда, осторожно, с почтением отодвигали занавеску и о чем-то там с ним долго беседовали, о чем-то спорили или вместе читали нараспев непонятные слова из его старых книг.
Потом, подростком, уже после смерти деда Шломо, я понял, что он был единственным в городе раввином. Каждую субботу он собирал миньян в доме какого-нибудь старого еврея, и истово раскачиваясь под слышную ему одному мелодию, вел молитву. После смерти от него остались пара сотен рублей личных сбережений, тфилин и талит[1 - Тфилин (филактерии) – молитвенные кожаные коробочки со вложенными в них кусочками пергамента, на которых записаны четыре заповеди Торы (см.). Снабжены специальными ремешками, позволяющими закрепить их во время молитвы на руке и на лбу.Талит (талес) – молитвенное покрывало, надеваемое на голову и плечи.], проданные моей теткой в Баку за неплохие деньги, а также груда старых фотографий учащихся Московской иешивы[2 - Иешива – высшая религиозная школа. Ее слушателей называют в русской традиции ешиботниками.] и десятки книг, которые были сожжены за ненадобностью. Родственники и соседи потом еще долго рылись в бабкином сарае в поисках зарытого дедом клада. Бедняги, они так и не поняли, что эти книги и фотографии, которые он таскал с собой всю жизнь из ссылки в ссылку, этот талит и тфилин и были его главным и, возможно, единственным богатством!
И, наконец, была у меня еще одна бабка с отцовской стороны – баба Геня. К ней я тоже время от времени приезжал на летние каникулы, и проведенные в ее гродненской квартире дни тоже были не самыми худшими днями в моей жизни, а ванильные сухарики и бабы Генин борщ я помню до сих пор…
Вы спросите, стоило ли писать столь длинное предисловие к "Еврейской поваренной книге", и какое отношение имеют все эти мои, чисто личные воспоминания к кулинарии? Дело в том, что если бы не было всех вышеназванных людей, не было бы и этой поваренной книги и уж, во всяком случае, она не была бы еврейской. Почему? Да по той простой причине, что большинство из нас обязано тем, что мы не забыли и не растеряли свое еврейство, именно своим бабушкам и дедушкам, а не родителям!
И сегодня, заворачиваясь по утрам в талит, я вспоминаю, как дед Шломо ругался с моей матерью, когда она называла меня Петей. "Какой он вам Петя?! Он – Пинхас! Пинхас! Пин-хас!" – сердито выговаривал он ей…
А накладывая тфилин, я невольно думаю о том, что почувствовали бы все четыре мои бабушки и тот же дед Шломо, застав меня за этим занятием.
И мне хочется верить, что они остались бы мною довольны. Еще мне хочется надеяться, чтобы они были бы довольны и этой книгой, собравшей в себя рецепты их самых любимых блюд, а значит – волшебные запахи и ощущения моего детства.
По всему этому не без некоторого трепета я открываю перед вами дверь на кухню моей бабушки – самую заветную дверь в моей жизни…
Часть первая
От субботы до субботы, или Кухня на каждый день
Глава первая
Рыбный день
Форшмак! Еще форшмак!
Когда на меня, как в свое время на Бабеля[3 - Исаак Бабель (1894–1940) – выдающийся советский писатель. В 1915 г. после публикации рассказов "Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна" и "Мама, Римма и Алла" был привлечен к уголовной ответственности "за распространение порнографии". Повесть "Конармия" и циклы "Одесские рассказы" и "История моей голубятни" выдвинули Бабеля в число крупнейших мастеров слова своего времени, Эти его произведения, а также рассказы "Карл-Янкель", пьеса "Закат" и незаконченная повесть "Еврейка" поныне остаются в золотом фонде русской и еврейской литературы. Арестованный весной 1939 г. по ложному обвинению, Бабель был расстрелян в Москве в Лефортовской тюрьме 27 января 1940 г.], накатывает сладкая волна воспоминаний, я всякий раз вижу одну и ту же картину: полутемная кухня в доме бабушки Беллы, кисловатый запах варящегося на плите зеленого борща с мясом, который под самый занавес будет забелен сырым яйцом, рядышком готовится фаршированная рыба, одновременно в печке поспевает кугель из лапши…
И пока все это томится, жарится, парится, бабка разделывает на доске селедку, чтобы приготовить из нее форшмак. Готовит она не спеша, потому что до субботы времени еще вполне достаточно, и можно успеть рассказать о моей прабабушке Эстер, у которой было восемнадцать детей, о дяде Науме, потерявшем в войну жену и семерых ребятишек, о старом Лейзере, которому, кажется, довелось встретиться с самим пророком Элиягу.
"Тук-тук-тук!" – стучит в такт этим рассказам топорик, и я чувствую, что у меня начинают течь слюнки, потому что я люблю форшмак даже больше, чем фаршированную рыбу и пирожки с маком.
Да и какой еврей не любит селедки?! Селедка сопровождала наш народ на протяжении всей его галутной истории, и сам запах селедки нередко называли еврейским запахом. А сколько анекдотов, сколько хасидских притч связано с селедкой. Помните?!
"Еврейский купец как-то решил заночевать на русском постоялом дворе. Войдя в трактир этого двора, он огляделся и попросил подать ему селедку с хлебом.
Сидевший за соседним столом русский купчик, решив, что еврей поскупился на нормальный обед, крикнул половому:
– Человек, подай ему за мой счет воды – селедка воду любит!
– А ему, – подхватил еврей, – подай за мой счет водки – свинья водку любит!"
Как вы уже догадались, еврей заказал селедку вовсе не от скупости – просто это была зачастую единственная кошерная[4 - Кошерный – разрешенный в пищу согласно еврейскому диетарному кодексу – кашруту.] пища, которую можно было заказать на постоялых дворах. Кто знает – может быть, отчасти отсюда и идет наша национальная привязанность к селедке, которая считается едва ли не обязательным "предисловием" к обеду. Простая селедочка, нарезанная аппетитными ломтиками, пересыпанная кружочками лука в уксусе и подсолнечном масле, "селедка под шубой" и, конечно, форшмак…
Тот самый форшмак, который дивно готовила моя баба Белла. И вроде бы я внимательно следил в то время за каждым ее движением, вроде бы знаю рецепт этого блюда наизусть, а вот так же вкусно, как у нее, у меня никогда не получалось.
Повар одного из тель-авивских ресторанов Айзик Штерн уверял меня, что евреи заимствовали форшмак у немцев, убрав из рецепта мясо, так как еврейская традиция запрещает смешивать мясо с рыбой. Но самое интересное, что рецепт Айзика Штерна отличался от знакомого мне с детства рецепта. Когда же я сказал, что мой форшмак вкуснее, Айзик встал в позу и заставил меня съесть полтарелки этого блюда в его собственном исполнении. Что вам сказать?! На всякий случай я записал этот рецепт, но, если честно, ни разу им не воспользовался. И тем не менее привожу здесь оба рецепта форшмака – а вы уж сами выбирайте, какой вам больше подходит.
Форшмак бабы Беллы