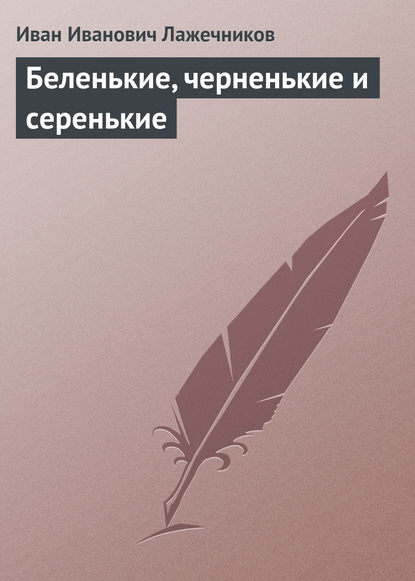По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Беленькие, черненькие и серенькие
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Характеристику лиц, современных Пшеницыным, Максиму Ильичу и его сыну, начнем с генерации городничих. Не знаю почему, их типы скорее схватываются.
Ее открывает Язон, или, как его называли в городе, Насон Моисеевич Моисеенко, поручик в отставке. Ему близ шестидесяти. Маленький, худенький, с лицом наподобие высушенного яблока, с острым носиком, в рыжем паричке, завитом, как руно крымского барашка. Букли и коса, все это маленькое, дорисовывают его портрет. Голос тоненький, пискливый. С характером уступчивым, робким, он боялся граждан, а не граждане его боялись. Принесут ему сахару полголовки, чайку четвертку, нанки на исподнее, полотенчико с крестьянскими кружевами, сапожную щетку – ничем не гнушается, все принимает с благодарностью. Сам ни на что не напрашивается. Разве придет в лавку, да полюбуется иной вещицей, повертит ее не раз в руках своих и скажет: «Хорошая вещица!.. Чай, дорога?..» (А вещь стоит всего два гривенника.) – «Для вас, Насон Моисеич (его уж и не величали благородием), для вас плевое дело. Позвольте завернуть и уложить на ваши дрожки» (так граждане для приличия называли войлочки, род роспусков, с войлоком на них)[4 - Такие войлочки были в употреблении у московских извозчиков, если не ошибаюсь, до 12-го года. Их заменили калиберные дрожки.]. И принимает он эти приношения и подобные, рассыпаясь в благодарениях и оговорках: «Да зачем это? да к чему это?.. я и на грош вам не заслужил. Неравно узнает начальство… лишусь места… отдадут под суд».
Иногда, в крайности, очертя голову, отважится на сильнейший куш. Была не была! А после и трусит. Ночь не спит, мучительно ворочается на постели, отмахивается от ужасной мысли, как будто от неотвязчивых мух, да не раз спрашивает кухарку, не слыхать ли ревизорского колокольчика, словно у ревизора колокольчик с особенным звоном. Готов с передачей отдать, что получил. Не дождется утреннего солнышка. Вот и солнце заглянуло к нему в окно. Посылает рассыльного за таким-то, дескать крайняя нужда. Приходит такой-то, и умоляет он его взять назад. «Батюшка, будь благодетель, ради Бога, развяжи душу. Всю ночь не спал». И возьмет приноситель, посмеется да плюнет в сенях и отнесет куш письмоводителю. А потом, видит Насон Моисеич, ревизор не едет, и жалко ему станет приношения. Чего бы, думает, не сделал на него! Куш был экстренный – не дождешься скоро такого.
И крепко призадумается Насон Моисеич, и грустно ему станет, что не взял хорошего куша.
По части порядка и чистоты в городе не требует, не грозит, а умоляет. Посреди улицы валяется по нескольку дней лошадиная падаль и заражает целый квартал, пока воронья плотоядные не истребят ее и ветры буйные не иссушат. Грязь на торгу по колена, дети-нищие тонут в ней (говорят, были две жертвы). Придут благодатные летние деньки с припеком солнечным, когда изжаренная трава хрустит под ногами и на торгу сухохонько. «Вот видите, – умиленно говорит он лавочникам, – сам Бог высушил, инда пыль глаза ест!» – «Простой, богобоязливый человек!» – отзывались об нем граждане, и, верно, соорудили бы ему памятник, если б на памятник не потребовалось денег, а можно было бы соорудить его из грязи и костей лошадиных.
Суд творил он коротко и ясно. «Ты, братенько, прав, – говорил он одному, – потому что тебя обидели, а ты прав, – говорил он другому, – потому что он тебя выбранил. Следовательно, вы оба неправы. Помиритесь-ка лучше, да поцелуйтесь». Помирятся, поцелуются тяжущиеся, да выйдут за ворота на широту поднебесную, выбранят городничего на чем свет стоит, затеют опять ссору, вцепятся друг другу в волоса, клочка два-три полетят у каждого; кто кого сможет, тот и прав останется. А иногда и в самом деле помирятся, да и запьют мир добрым крючком пенного под веткой оливы, в виде ельника, прославляя городничего.
Случалось иногда, что Насон Моисеич не на шутку расходится, только не сам собой: на подвиги раскачивал его письмоводитель. Раз как-то ссора двух граждан оканчивалась подобною мировою сделкой. Но вот письмоводитель по секрету зовет Насона Моисеича в ближнюю комнату. «Что это вы, ваше благородие, настоящая мокрая курица? И так вами в городе, словно тряпицей, потирают. Этак с вами и служить нельзя». И вот Насон Моисеич, пришпоренный такой речью, встает на дыбы, входит в азарт и, сдернув на одно ухо свой рыжий паричок в завитках, бросает гром и молнию в камере судилища. Прикажет ответчика наказать за то, что виноват, а правого, чтобы вперед не ходил жаловаться. «У меня в городе все тихо, и муха не смеет ворчать. Ни гу-гу! Настоящее благословение Божие! – говорил он, гневно ходя вокруг стола. – А тут какой-нибудь вольнодумец, беспардонный, вздумает мутить да ябедничать, да в доносы ходить! Пожалуй себе, и прав, и очень прав, да зачем нарушать спокойствие граждан? Не тобой город начало имеет, не тобою и стоит. Пускай стоит, как стоял!» Почтальон, с упоением сердечным подслушивая у дверей, ждет своего сыра. Позовет к себе тяжущихся и накажет только того, который не смог заплатить выкупные. Вследствие такого премудрого суда и дел за нумерами в полиции очень мало оказывалось: все делалось больше на словах и на палках. К чести Насона Моисеича надо оговорить, что последнее делопроизводство он употреблял очень редко, и то когда письмоводитель раскачает желчь со дна этого чистого сосуда.
Наконец приехал в город, десять лет с таким страхом ожидаемый, начальник-ревизор. Ужасные дни! они отняли у городничего несколько лет жизни. Ревизор был человек добрый, приятный; в бумагах много не рылся, за очисткой нумеров не гонялся. Узнал, что городничий человек непритязательный, с живого и мертвого не драл, жалоб на него не имелось, и остался всем доволен и благодарил. А все-таки, пока его особа пребывала в городе, Насон Моисеич чувствовал себя неловко, как будто и чужой мундир надел, и рыжий паричок скоблит его череп. То словно его крапивой посекут, то в ледяную ванну опустят. Надо было видеть, с какой дипломатической тонкостью ехал он с начальником на дрожках, которые выпросил у предводителя! Балансер, да и только!.. Угораздило его сидеть на корточках, в таком виде, как громовая стрела изображается на картинках, зигзагом, одной рукой держится за ободок козел, другой, как заяц подстреленную лапку, покачивает в воздухе, а носками сапогов упирается в подножки, не смея ни одной частью своей персоны прикоснуться к подушке. Еще бы! на этой подушке восседит важная особа, которой одно мание бровей, как у громовержца Юпитера, может смять его в прах и оставить без куска хлеба. «Видно, Господь умудрил его сидеть на дрожках не сидя за его добрую душу!» – говорил голова, ехавший за ними в своей линеечке.
Все, казалось, шло хорошо. Но ревизор пожелал видеть временную арестантскую при полиции. Вот ведет Насон Моисеич, немного окураженный, великую персону к сенцам и останавливается у дверей. «Извольте головку наклонить, – говорит он, – не стукнуться бы лобиком о косяк». – Преддверие тюрьмы не представляет ничего страшного. Вместо орудий казни в глаза бросаются одни любезные идиллические предметы: ненакрытое ведро с водой и плавающий на ней ковшик с изумрудными букашками, стопочки две-три дров, небрежно развалившиеся, онучки сторожа, растянутые для просушки против сквозного ветра, жиденькая метла, которую, как видно, очень обижали, вытаскивая из нее прутья для чистки платья или на другое употребление. Ключ к месту заключения у самого Насона Моисеича; он держит его в мундире, у сердца своего, как и подобает. Вот прикладывается ключом к огромному замку, но еще раз умильно оборачивается на своего начальника и предостерегает его, чтоб он был невзыскателен, арестанты-де грубый и невоспитанный народ. «Сколько у вас здесь арестантов?» – спрашивает ревизор. «Только три человека, ваше (и прочее), – отвечает градоначальник, – здесь не только злодеяния, и моральные проступки очень редки. Мораль между жителями примерная!» Надо заметить, что на французских словечках он очень упирал: дескать, знай наших.
Входят в арестантскую. Это большая изба; половину ее занимает русская печь, сколоченная из глины. Ревизора обдает атмосфера, от которой он напрасно старается освободиться, то отдуваясь, то отплевываясь, то зажимая нос. В избе никого не видно. Насон Моисеич со страхом осматривает все кругом и тоненьким, пискливым голосом окликает арестантов: «Арестанты! арестанты! где вы?» – Нет ответа. Он ищет глазами, носом, всем своим существом, заглядывает во все углы, под нарами, на печке, в подпечьи, в печурках; взывает опять жалобным, отчаянным голосом, как будто зовет свою Эвридику: «Арестанты! где вы?» – Нет арестантов. Ревизор помирает со смеху. В это время появляется письмоводитель, чтобы развязать узел этой ужасной драмы. На носу его, толстом и красном, торчат нахально два стеклышка в медной заржавленной оправе; голова его, прилично наклоненная, дрожит, руки также трясутся, но не от страха… Нет, это чувство еще никогда не колебало такой души, привыкшей к ежедневным подвигам. С приходом его вносится густая струя воздуха, напитанного вином и луком. Отрывистым, но твердым голосом, как человек самостоятельный, знающий свое дело, он объявляет, что еще рано поутру выпустил арестантов, потому что на деле они оказывались невинными. Как сделал этот фокус ловкий письмоводитель, когда ключи были у городничего, это осталось покрыто густой завесой тайны. Снисходительный к слабостям человеческим, ревизор и не взял на себя труда ее исследовать. Кончилась вся история одним смехом главной персоны. Но на городничего она так подействовала, что он, по отъезде ревизора, слег в постель и не вставал с нее боле.
Во время болезни все бредил арестантами и взывал жалобным голосом: «Арестанты! где вы?» Перед смертью пришел в рассудок, исполнил свои христианские обязанности, попросил у всех прощения, в чем кого обидел, не намекнул даже письмоводителю, что умирает от его руки, и завещал похоронить себя в рыжем парике, чтобы в гробу ему не было стыдно.
За гробом шло много народу. За ним следовал письмоводитель, держа шпагу в руках, печальный понуря голову, как бывало в рыцарские времена верный конь, носивший своего господина в боях и на турнирах, следовал за носилками его, чтобы положить свои кости в одной с ним могиле. Купечество сделало богатые поминки, стоившие больших денег; ели и пили много в память своего бывшего благодетеля. Но когда (по приглашению Максима Ильича) приступили было к подписке на уплату его долгов, которых оказалось рублей на шестьдесят по счетам (может, и с некоторой добросовестной приписочкой на умершего), все отозвались, что и так много потратились на вина и прочее угощение для покойника. Вследствие чего Пшеницын один взял уплатить долги и содержать старушку кухарку, крепостную его женщину, оставшуюся без крова и куска хлеба. Кухарка, как увидим, наделала много хлопот своему благодетелю.
Сделали верную опись оказавшемуся после покойника имению; присяжные ценовщики оценили его в 36 рублей 27 и ? копеек. Но как наследников налицо не оказалось, то и приступили к вызову посредством публикации, не означая цены имению. Между тем нанята каморка для хранения вещей и отдана лошадь в полицию, чтобы содержать ее. Войлочки взял себе на память письмоводитель. Через год наследники отыскались. Но когда они потребовали имение или деньги по выручке за него с аукционного торга, то оказалось, что с них следует довзыскать, сверх вырученной суммы, еще рублей двадцать пять и столько-то копеек с дробями за наем комнаты для хранения вещей и за содержание лошади. Дело об этом тянулось лет десять и на него изведено бумаги на сумму, которая превышала самое взыскание. Кухарку, попавшую тоже в опись, за старостью лет никто не согласился взять.
На безыменной земляной насыпи, под которой насегда почил Насон Моисеич, поставлен деревянный крест усердием кухарки, и ею же творились по нем поминки. Но и те скоро замолкли. Только неизменные с веками солнышко и месяц попеременно, да звезды рассыпные приходят и поныне голубить своими лучами могилку его, как и прочих братьев, почиющих на общей усыпальне; только ветры непогодные прилетают на нее с своими заунывными песнями и гулят покойников в их смертной колыбели. Еще чадолюбивая церковь не перестает ежегодно поминать всех их в общей своей молитве. Бог знает, и могилка-то Насона Моисеича его ли нынче?.. Может быть, два-три новые вечные жильца пришли занять ее и потеснить в ней кости бывшего начальника целого города.
Не знаю, какой дурной человек выучил Ваню разыгрывать роль городничего, отыскивающего своих арестантов. Все помирали со смеху, когда мальчик, щуря глаза и ныряя по сторонам, взывал тоненьким, пискливым голосом: «Арестанты! арестанты! где вы?» Но Ларивон скоро прекратил эту комедию, сказав Ване, что стыдно и грешно передразнивать покойника.
После Насона Моисеича принял бразды правления какой-то коллежский секретарь. Он был из числа тех господ, которые носят романическое имя и половину фамилии своего отца. Назовем его просто Модестом Эразмовичем. Это был человек порядочно образованный по-тогдашнему, писал отличным почерком по-французски и даже сочинял русские стихи. Презентабельная наружность говорила в его пользу. Он всегда был одет щегольски. Так и сияло от него перстнями, золотом массивных цепей с разными побрякушками и дорогими булавками в виде пылающего сердца, колчана со стрелами и голубя, несущего во рту письмо. Особенно имел он искусство, даруемое только некоторым избранникам, поражать взоры ослепительным блеском солитера на указательном пальце.
Разница в управлении городом между начальниками была неизмеримая. Предшественник никогда ни на шаг не отлучался из города под опасением, что его расстреляют, если он нарушит это правило; а преемник почти никогда не бывал в городе. Первый трясся на войлочках, окутав ноги тряпицей, а второй спокойно езжал на дрожках, ничем не покрывая глянцевитых своих сапог. Один имел письмоводителем низенького старичка, с носом в виде кровяной колбасы, на котором нахально торчали два стеклышка вроде очков, а другой привез своего письмоводителя, высокого, средних лет, с орлиным носом, у которого кончик был очень бел, как бы отмороженный, но заметьте – с носом, не терпящим никакого ига. У одного письмоводитель пил горькую и закусывал луком, у другого пил сладкую и замаривал водочный запах гвоздикой и амбре. Секретарь Насона Моисеевиича делал только свои дела, а секретарь Модеста Эразмовича – домашние и служебные дела свои и своего начальника с неутомимым рвением и преданностью, отчего расходы просителей и вообще граждан получили быстрое развитие и преуспеяние. Сначала жители ощутили эту разницу, немного втайне пороптали, но, едва прошло несколько недель, попривыкли к новому ходу дел, как привыкает ко всему человек, сумевший ужиться и между льдами полярными, и под зноем тропиков. Впрочем, как скоро новый письмоводитель ознакомился с жителями, а еще более вник глубоко в статистику их состояний, он очень уравнительно, по правилу товарищества, обложил каждого, не обходя и сумы нищего, а купцы наложили маленькие проценты на товары и съестные припасы. Вскоре граждане обучились считать городничего и его штат какой-то законной повинностью. Нового письмоводителя начали также провозглашать благодетелем человечества и говорили при этом: «Вот и Насон Моисеич, дай Бог ему царствие небесное! уж не добрая ли была душа… а все-таки, бывало, гнет на закон. Все упрашивал, чтобы купцы не скупали ничего за заставами. Это, говорит, какое-то манноболе! Видно, по-малороссийски или по-чухонски, прости Господи! Не равно, говорит, приедет ревизор, меня и вас всех упечет под суд. Толку что в нем, что честный, – ни себе, ни людям! А этот – молодец, никого не боится, любит взять, да и нашему брату любит дать поживу».
Новый благовоспитанный городничий был очень далек от всех этих проделок. Попробуй принести, турнет, что и своих не узнаешь. Он сердито на словах гнал взяточничество и даже написал оду на лихоимство, где представил его во образе какого-то ужасного чудовища, пожирающего собственных детей. А вздумай кто жаловаться на письмоводителя, погнет так, что ступеньки все на лестнице его пересчитаешь. Не пожалеет и солитера!
Так жители забыли добрейшего Насона Моисеича и обращались к Модесту Эразмовичу только с высокоторжественными поздравлениями, в том числе и в день его ангела.
Как выше сказано, новый городничий большую часть дня, иногда и ночи, проводил вне города. Почти каждый день езжал он к какой-то графине, жившей врознь с мужем, в богатом поместье, за несколько верст от Холодни. Ее протекции обязан он был своим новым местом, и зато в благодарность исполнял при ней должность домашнего секретаря. А так как графиня занималась сочинением французских романов, довольно многотомных, которых рукописи любила иметь в нескольких экземплярах, то и записывался он до изнеможения сил. В нынешнее время графиня взяла бы в секретари француза, но тогда в России иностранцы были редки, особенно трудно было их найти для должности домашнего секретаря. Все были старые роялисты!.. Собираясь к графине, чтобы явиться к ней в приятном виде, он часа два тщательно занимался туалетом своим: чистил себе ногти, артистически обделывал свои букли, помадил губы, пудрил лицо, надев свой солитер, долго любовался им и т. п.
Сверх того, Модест Эразмович страстно любил охоту с ружьем. Стрелял он так метко, что попадал в серебряный пятачок. Письмоводитель, которого он определил в эту должность за то, что несколько лет таскался с ним по болотам и носил застреленную дичь, хотя и славился своей мастерской стрельбой, попадал только в медный пятак. Может быть, как политичное лицо, он немного кривил ружьем и душой, чтобы не помрачить славы своего начальника. Новый городничий посвящал также несколько часов сочинению стихов. Эти стихи, большей частью эротические или любовные, как их называли, ходили между властями по городу и даже губернии. Немудрено, что многие из песен дошли до нас в песенниках того времени и те, которые считаются лучшими в этих сборниках, принадлежат, конечно, тогдашнему городничему. С дамами мог бы, но боялся быть очень любезным, потому что люди, при нем в услужении находившиеся, принадлежали графине.
Так как он обретался более в уезде, чем в городе, то и прозвали его уездным городничим. В этом названии, как и во многих других, довольно метких, был виновен добрейший Максим Ильич Пшеницын, который, несмотря на свой кроткий, миротворный характер, любил почесать язычок на счет других. Это была врожденная слабость, за которую он не раз дорого платился и однажды едва не подпал большой беде.
Уездный городничий ласкал Ваню и имел отчасти влияние на его воспитание. Модест Эразмович научил его первым правилам стихотворства и декламации. Ваня с одушевлением и верно читал его стихи перед многочисленной публикой и даже раз произнес русский акростих, заранее переведенный на французский язык, перед поэтической графиней, которой городничий представил его как ранний Талант. Ваня декламировал стихи «с толком, с чувством, с расстановкой», и графиня наградила ранний талант поцелуем и французским молитвенником в роскошном переплете. «Будь добродетел, имей нрав чист и благочест»[5 - В десятых годах знавал я одну русскую графиню, которая так худо по-русски говорила, что даже и другие аристократки над ней смеялись.], – сказала Ване русская графиня и дала городничему поцеловать свою ручку в знак благодарности, что привез такого милого цитатора стихов. Надо сказать, что эта высоконравственная женщина, покинувшая своего мужа за его беспутную жизнь, когда ей было гораздо за сорок лет, одевалась иногда в подражание островитянкам Тихого океана – в каком-то легком, полувоздушном пеньюаре, обрисовывавшем очень хорошо ее роскошные формы.
Раз зашла откуда-то в Холодню цыганка-гадальщица и предсказала, что городничие тамошние не будут долго сидеть на месте. Как сказала, так и сделалось. Через два, три года Модест Эразмович очень захирел, вышел в отставку и отправился с графиней поправлять свое здоровье на какие-то воды, изумительно восстановлявшие силы.
Преемником его был титулярный советник Герасим Сазоныч Поскребкин, собою молодец, и ростом и дородством взял. Грудь широкая, выя хоть сейчас под ярмо, глаза как у рыси, спокойствие и твердость невозмутимые во всех трудных обстоятельствах жизни. Он был женат на приемыше какой-то знатной особы, под покровительством которой и состоял. О! этот далеко обогнал своих предшественников. Надо сказать, что он, сколько известно было, служил прежде каким-то полицейским чиновником по пожарной части и потерял это место за неблаговидные дела, потом проходил служение в каком-то месте вроде экзекуторского.
Здесь обнаружил он широкие способности к экономии. Так, отпуская на канцелярию свечи, сберегал из них некоторое количество не только для своего домашнего обихода, на что начальство посмотрело бы сквозь пальцы, но и для дешевого распространения сального света по городу. Это бы еще ничего. Слабость к сальным свечам!.. Вот, например, что может быть гаже зеленого фонарного масла? Что ж делать, я имею слабость к зеленому фонарному маслу. Зеленое масло, особенно когда оно горит ? petit jour, производит на меня какое-то магическое действие. Вы не поверите? Право, не шучу. Впрочем, не я один с таким странным вкусом: в каждом порядочном городе вы найдете мне товарища гебра, поклонника фонарного огня, горящего от зеленого масла. Затем Поскребкин имел слабость к бумаге. Отпуская бумагу канцелярским служителям, удерживал он утонченным хозяйственным образом из каждой дести по нескольку листов, а из каждой стопы по нескольку дестей. Таким образом, в известный период времени накапливалось достаточное количество стоп, которые, заведомо краденые, покупали у него мелкие торговцы. Для избежания чего начальство вынуждено было накладывать на бумагу штемпель того места, которому принадлежала бумага. С дровами опять экономия! Из каждых двух покупаемых саженей выводил он три, а когда недоставало дров, рубил на отопление и заборы.
Поскребкин был человек ловкий, умел угодить. То на паперти выхватит коверчик из рук выездного за женой своего начальника: она к церкви, а уж под ноги ее Герасим Сазоныч стелет коверчик, и награжден улыбкой; то при выходе ее из театра он первый прокричит: карета ваша подана! Тут приветливое кивание, а он успеет хоть подол салопа ее посадить в карету, да еще дружески раскланяться с выездным, которого когда-то употчивал в трактире. «Какой прекрасный, услужливый человек этот Поскребкин!» – говорила жена начальника своему мужу. И швейцар первой особы в городе жмет «со своим почтением» щедрую руку ловкого человека. Случится ли пожар, он тут, хотя и не его дело, и первый в глазах начальника зажмет мощной рукой то место пожарной кишки, которое прорвалось. На другой день начальник видит его с обожженным ухом или с подвязанной рукой. Он хвастался, что, когда был на службе в какой-то глухой губернии, никто лучше его не умел управлять кишкой пожарной трубы. Особенно мастер был на это дело, в угождение какого-то главного начальника, который, катаясь с ледяных гор, приказывал опрыскивать из трубы каждого, кто осмеливался смотреть на его забавы.
Но, увы! несмотря на все эти угождения, начальник, увидав, что хозяйственные таланты Поскребкина все более и более совершенствуются и принимают ужасающие размеры, сначала говорил, что постыдно так воровать. Потом, видя, что эти учтивые намеки не помогают, сказал ему наедине, в кабинете, что он плут, вор, мошенник и что нельзя с ним служить. Поскребкин, с благородным достоинством ударяя себя в грудь, отвечал: «Ваше!.. (и прочее: надо заметить, что он своих начальников величал всегда одной степенью выше, нежели какую они имели) изволите обижать меня понапрасну. Ей-богу, понапрасну! Я вором и мошенником никогда не был. И на что мне? Я сам имею состояние – деревушку в Расторгуевой губернии; довольствуюсь малым». Начальник, высчитав все хозяйственные его проделки, очень вежливо опять повторял прежние деликатные имена и просил сделать ему одолжение избавить его от служения с ним. Тут Поскребкин, показывая на угол комнаты, восклицал ярким, басистым голосом, вылетавшим из широкой груди его: «Чтоб мне сальным огарком подавиться! Утроба моя разорвалась бы от одного листа бумаги! Детей моих перебило бы поленом дров! Вы изволили видеть, жена моя беременна… чтоб она родила бревно вместо живого ребенка, если я посягнул на разорение хоть одного столба в заборе!.. А я еще уповал (тут он говорил более жалостным голосом, фистулой), что ваше (и прочее), как всегдашний мой благодетель и отец, удостоите быть у меня крестным отцом! Помилуйте! Каким-нибудь куском сала или ветошным отребьем захочу ли марать свою честь!» Потом начинал кулаком утирать слезы, упрекал в клевете своих недоброжелателей, которые будто требовали от него акциденции, да он, помня присягу и долг благородного человека и верного сына отечества, не посягнул на такие гнусные дела. «Чтоб им так сладко было, как мне теперь, перед лицом великодушнейшего, благороднейшего из начальников! Ежеденно молю Господа за здравие ваше и вашей супруги… Божественная женщина!.. Чтоб Господь даровал вам хоть одно детище на порадование ваше! Помилосердуйте, ваше (и пр.). Жена, куча детей, мал-малым меньше… пить, есть надо…» Говоря это, Поскребкин думал, как искусный оратор, какую мимику употребить в пособие своему красноречию. Поцеловать у начальника ручку? – неравно ткнет его в глаз огнем сигары. Броситься в ноги? – оттолкнет, как гадину, концом своего сапога. И не решился ни на то, ни на другое. А начальник думал: настоящий разбойник! как бы еще не задушил!.. Однако ж порешил это дело тем, на чем его начал: Поскребкин должен был выйти в отставку.
Не долго, только полгодика, томился он в ней. Жена бросилась к своей покровительнице, расплакалась, жаловалась на несправедливость начальства, на коварство и недоброжелательство клеветников и наушников и успела до того разжалобить сильную особу, что та обещала ей свою протекцию и даже назвала бывшего главного начальника Поскребкина человеком без сердца, злодеем. Un homme sans foi, ni loi – прибавила она, обратись к сидевшему у нее генералу. Даже, говорят, попрекнула гонителя бездетностью.
И вот Поскребкин городничим в Холодне. Здесь представился широкий кругозор его наклонностям; начальства для него в городе не было. «Гуляй, мой меч!» – сказал бы он, если б знал стихи из новейших трагедий. Тут начались у него – ведь голодал шесть месяцев – ненасытные припадки каких-то аппетитов. То появятся аппетиты на сахар, осетрину, стерлядь, лиссабонские и прочие съестные и питейные припасы, то на сукно или материю для жены. Давай то и другое, пятое и десятое. Беда, коль не заморить этих прихотей. Берегись тогда первый купец, попавшийся ему на глаза: сейчас оборвет, да еще хуже чтоб не наделал. «Пожалуй, чего доброго, подлец и впрямь обесчестит, наплюет в глаза!» – говорит торговец, который успел ему подвернуться. И несет с низким поклоном от усердия своего. Наконец вкусы Поскребкина до того стали разнообразиться, что слюнки у него потекли на все, что жадным глазам его только полюбится, даже на коров, на лошадей. Может быть, со временем пришел бы аппетит и на домик; но, как увидим далее, Максим Ильич умел разом пересечь припадки его бешеного обжорства.
Ездил Поскребкин, развалясь в крытых дрожках, на чубаром иноходце с такой же пристяжной, которая завивалась кольцом и ела землю. Вот увидал он у Максима Ильича кровного серого рысака; спит и видит – достать рысака. Вихрем прокатит на нем хозяин: кажется, так и топчет им городничего.
– Воля твоя, – говорит Поскребкин Максиму Ильичу, – уступи, брат, серого коня. И во сне меня мордой пихает. Аппетит на него такой припал… слышь (тут он взял руку своего собеседника и приложил ладонь к желудку), так и ворчит: по-дай ры-са-ка! Не дашь, свалюсь в постель, будешь Богу отвечать. Я ли тебе не слуга?
– Поворчит, – отвечал Пшеницын, – да и перестанет, а я тебе по этой части не лекарь. Серого коня любит жена, не отдам ни за какие деньги.
– Ой ли?
– Сказал.
– Последнее слово?
– Решительное.
– Ну, смотри, брат Максим, доеду.
– Доезжай, а я покуда поеду на рысаке. Еще будь раз навсегда сказано: бесчестных и беззаконных дел не делаю и не только тебя, никого не боюсь.
– Помни ты у меня эти слова! – сказал Поскребкин и погрозил своим пальцем, как жезлом.
– Никогда не забываю, готов повторить и повыше кому.
С того времени городничий и рвет и мечет и кипит гневом на Пшеницыных. Еще более разожгли его следующие случаи. На другой день в церкви у обедни Прасковья Михайловна стала впереди городничихи, а после обеда проехала мимо окон ее на лихом сером рысаке, в новых щегольских дрожках. Мелькнула молнией, и сердита и блистательна; да еще обдала городничиху, будто в насмешку, облаком пыли.
– Купчиха лезет вперед! Я все-таки начальница города, – говорила жена городничего. – Воля твоя, это афронт. Я этого не потерплю, я напишу к моей благодетельнице. Как хочешь, Герасим Сазоныч, ты у меня упеки ее в тюрьму, чтобы не хвалилась; не то разведусь с тобой.
Выжидая случая подкосить Максима Ильича, как говорил Поскребкин, он продолжал безбоязненно свои подвиги. Так забывают этого рода люди свои прежние невзгоды, иногда нужду, холод, голод, страдания целого семейства, лишь только на новом месте удаются им новые беззаконные приобретения. Так-то бывает… Придет беда – люди охают, стонут, обещают исправиться, обновиться и просветиться добром; пройдет невзгода – забывают все, и опять принимаются за старое, и опять погрязают в тине невежества, в неге взяточничества.
Приведут в полицию краденую лошадь с вором – конокрада выпустят, а похищение рано или поздно делается достоянием Поскребкина, словно он всеобщий наследник. Является за лошадью хозяин крестьянин. Он обегал более ста верст по разным уездам, упустив дома важные полевые работы, от которых живет целый год, растряс на мошенников и колдунов последние свои деньжонки, чтобы указали ему только на след живота его. Услужливо ему выводят лошадь из полицейской конюшни. Скотина его, по всем приметам, описанным в явочном объявлении! И масть та же, и конец уха также обрублен, и грива лежит на ту же сторону, как у пропавшей лошади. Его, да не его. Жена притащилась с ним и дочерью выручать своего доброго воронка. И они также признают ее. «Вот, – говорит старушка, – и сама признала нас: заржала, кормилица, и мордочку к нам протянула, только нас завидела. В какой стороне была ты, моя голубушка? По каким мытарствам не водили тебя! Чай, не вовремя попоили, не всласть накормили, а, может, и вовсе целый денек была не евши. Легче б нам самим без хлебушка оставаться». И начнет старушка причитать разные нежности своему животу и выть над ним. Дочь подставляет руку свою под морду лошади, и та лижет руку, которая привыкла ее лакомить краюхами хлеба, посыпанного солью. «Наша, да и только, матушка», – говорит девка и от радости целует воронка. Действительно, их лошадь, а выходит не их. У их лошади на одной ноге белое пятнышко, а у этой вся нога словно в черный чулок обута. Опытный глаз увидел бы, что пятно закрашено черной краской. В явочном объявлении стоит белое пятнышко на ноге. «Так ли, мужик?» – спрашивает беспристрастный письмоводитель. «Так, батюшка, грешить нече», – отвечает горюн. Где ж мужику признать косметическую подделку?.. Приходится отступиться. Почешет старик голову, почешет грудь, горько вздохнет да поохает с старушкой, а делать нечего – знать, лукавый подшутил над ними. Но девке не так легко расстаться с воронком; видно, натура молодая и неопытная! Обвила шею его своими мощными, загорелыми руками и замерла на ней, несмотря на брань полицейских служителей! Рыдая, говорит она: «Наш, свято слово, наш! Не расстанусь с тобой, родной мой, кормилец ты наш!» – И пуще прежнего сжимает шею коня в своих объятиях. Позвали городничего. Мигнул он двум бравым молодцам… Разом оторвались от лошади две девичьи руки, как две гибкие ветви молодой березы, дружно сплетшиеся: хотели было молодцы куда-то потащить девку, да… взглянули на городничего. Тот махнул рукой, плюнул и скрылся, чтоб, неравно, не случилось при нем какого несчастья. Девка лежала полумертвая на земле, пена клубом била у ней изо рта…
Таким образом и другими фокусами краденые забеглые лошади поступали в собственность Поскребкина. Также и краденые самовары, кастрюли, оловянная посуда, якори, рогожи, бечевки – все ценное поглощалось ненасытной утробой его. В известный, благоприятный период времени, под укрывательством волчьей ночи, все эти вещи укладывались в краденую телегу, в которую запрягали лошадь неотысканного хозяина, и отправлялись с верным служителем в деревушку Герасима Сазоновича, род закутки, укрытой лесами и охраняемой болотами. Так понемногу из песчинок невидимо слепливаются дома и большие состояния!
Случилось однажды богатому купцу, по неведению ли законов, по намеренности ли, сделать какой-то проступок. Виноват, да и только. Приходило ему худо, и добрые люди присоветовали ему отнести сотнягу рублей Герасиму Сазонычу. Так и сделал купец. Главный советник его по этому делу дал знать Поскребкину о куше, который ему готовится, и о часе, в который сделано будет приношение. В это время остановилось в городе, по болезни или по домашнему делу, значительное лицо. Вот приходит по секрету к городничему виновный купец. Ласково принимают его. Он осторожно затворяет за собой дверь и, объяснив, что у него есть такое и такое-то дельце, просит пощады; вместе с этим осторожно, с низкими поклонами, кладет на стол куверт, немного отдувшийся. Для вящего эффекта положены в него все синенькие. Надо было видеть, как гневно привстал Поскребкин во всю громадную высоту свою, как он вскипел гневом, швырнул на пол куверт так, что бумажки разлетелись, и закричал громовым голосом, потрясшим стены: «Что это?.. Подкупать?.. Меня?.. Разве я взяточник?.. Поклянешься ли, что я брал от тебя когда-нибудь?.. Под колоколами спросят. Разве я не присягал служить, как подобает верным подданным? Господа, прошу засвидетельствовать». А тут как тут выросли из земли три свидетеля. Впереди сам страж законов, богобоязненный старичок, с постным лицом, выплывает мерно и, ныряя головой, точно утка со своими утенятами скользит по зеркалу пруда, где рыболовы закинули невод. Он смиренно делает какие-то знаки рукой на груди, словно готовится на какое-нибудь благочестивое дело. За ним невозмутимо выступает своим брюшком купец, тоже должностное лицо. Он держит пальцы правой руки, налитые брагой, между петлями сюртука. Сзади, господствуя над всеми взъерошенной головой, выказывает свой острый, бекасиный носик надзиратель, испитой, длинный и прямой как верстовой столб. В его глазах видны одно холодное бесстрастие и строгое исполнение своего долга. Он знает, что от сладкого пирога ему достанутся только корки.
Улика налицо. Купец помертвел и бросается в ноги городничему. «Не погубите, ваше благородие, – вопиет он отчаянным голосом. – Не сам собой, помутили худые люди». Нет пощады! Записать в журнал, да и только; отослать деньги в пользу богоугодного заведения!
В ту же минуту, с быстротой электрического телеграфа, сказал бы я, если б электричество было тогда изобретено, и потому скажу – с быстротой стоустой молвы, честный, благородный, примерный поступок Герасима Сазоныча разносится по городу и доходит до ушей значительного человека, который, по болезни или по домашним обстоятельствам, остановился в городе Значительный человек в неописанном восторге от этого неслыханного подвига, желает видеть в лицо городничего, чтобы удержать благородные черты его в своей памяти, рассыпается в похвалах ему, говорит, что расскажет об этом по всему пути своему, в Петербурге, когда туда приедет, везде, где живут люди. Мало – надо непременно в газетах напечатать об этом во всеобщее сведение, на поучение всем городничим и прочим правителям. С такими высокими мнениями о Поскребкине и чувствами удивления к его душевным качествам значительный человек уезжает из Холодни. Чем же все это оканчивается? Чтобы замять и потушить дело, купец вносит уже, по секрету, не сто, а пятьсот рублей, да еще задает на славу обед. Никакое богоугодное заведение не записывало у себя на приход ни одной копейки из этих денег. Надо прибавить к чести Герасима Сазоныча, он на этот обед не явился, но уговаривал всех ехать, говоря, что купец человек прекрасный, только опростоволосился по наущению недобрых людей, желавших его погубить.
Раз как-то на двор к Максиму Ильичу въехала лихая тройка одной масти. Под дугой гудел заливным звоном валдайский колокол; бубенчики лепетали разными звуками, мастерски подобранными от самого тоненького до самого густого. В звуках этих был какой-то музыкальный строй. Покромка красного сукна обвивала сбрую на лошадях; медь в бляхах, звездах и полумесяцах, казалось, должна была сдавить коней. Пестрый, с азиатскими узорами ярких цветов, ковер упадал с кресел пошевень почти до земли. Всю ширину пошевень занимала огромная медвежья шуба и поверх ее торчала, похожая фигурой на башню с куполом, высокая шапка из серых мерлушек с бархатным верхом зеленого цвета. Кучер был в нагольном тулупе, видавшем разные виды и непогоды на своем веку, и потому носившем какой-то неопределенный цвет, не то желтый, не то красный, не то буро-пегий. Рядом, свесив с кучерского места ноги в холодных сапожках, которыми изредка постукивал один об другой, сидел мальчик лет тринадцати, остриженный в кружок. Он также был в овчинном тулупчике, только совершенно новеньком, что можно было не только видеть по мучистой белизне его, но и слышать по запаху. Нарядом своим он очень занимался; это заметно было из движений его рукавов, которые поднимал попеременно, смотря на них с особенным удовольствием. Казалось, он любовался в них сам собой, как в зеркале. На голове у него нахлобучена была высокая шапка из порыжелых мерлушек, беспрестанно наезжавшая ему на лоб. Вероятно, ее сняли с большой головы, взявши, однако ж, предосторожность удержать ее по возможности на мальчике, о чем можно было также догадаться по нескольким веткам сена, упорно выползавшим из-под шапки. Тройка лихо завернула к крыльцу. Ваня играл в это время на дворе в снежки.
Ее открывает Язон, или, как его называли в городе, Насон Моисеевич Моисеенко, поручик в отставке. Ему близ шестидесяти. Маленький, худенький, с лицом наподобие высушенного яблока, с острым носиком, в рыжем паричке, завитом, как руно крымского барашка. Букли и коса, все это маленькое, дорисовывают его портрет. Голос тоненький, пискливый. С характером уступчивым, робким, он боялся граждан, а не граждане его боялись. Принесут ему сахару полголовки, чайку четвертку, нанки на исподнее, полотенчико с крестьянскими кружевами, сапожную щетку – ничем не гнушается, все принимает с благодарностью. Сам ни на что не напрашивается. Разве придет в лавку, да полюбуется иной вещицей, повертит ее не раз в руках своих и скажет: «Хорошая вещица!.. Чай, дорога?..» (А вещь стоит всего два гривенника.) – «Для вас, Насон Моисеич (его уж и не величали благородием), для вас плевое дело. Позвольте завернуть и уложить на ваши дрожки» (так граждане для приличия называли войлочки, род роспусков, с войлоком на них)[4 - Такие войлочки были в употреблении у московских извозчиков, если не ошибаюсь, до 12-го года. Их заменили калиберные дрожки.]. И принимает он эти приношения и подобные, рассыпаясь в благодарениях и оговорках: «Да зачем это? да к чему это?.. я и на грош вам не заслужил. Неравно узнает начальство… лишусь места… отдадут под суд».
Иногда, в крайности, очертя голову, отважится на сильнейший куш. Была не была! А после и трусит. Ночь не спит, мучительно ворочается на постели, отмахивается от ужасной мысли, как будто от неотвязчивых мух, да не раз спрашивает кухарку, не слыхать ли ревизорского колокольчика, словно у ревизора колокольчик с особенным звоном. Готов с передачей отдать, что получил. Не дождется утреннего солнышка. Вот и солнце заглянуло к нему в окно. Посылает рассыльного за таким-то, дескать крайняя нужда. Приходит такой-то, и умоляет он его взять назад. «Батюшка, будь благодетель, ради Бога, развяжи душу. Всю ночь не спал». И возьмет приноситель, посмеется да плюнет в сенях и отнесет куш письмоводителю. А потом, видит Насон Моисеич, ревизор не едет, и жалко ему станет приношения. Чего бы, думает, не сделал на него! Куш был экстренный – не дождешься скоро такого.
И крепко призадумается Насон Моисеич, и грустно ему станет, что не взял хорошего куша.
По части порядка и чистоты в городе не требует, не грозит, а умоляет. Посреди улицы валяется по нескольку дней лошадиная падаль и заражает целый квартал, пока воронья плотоядные не истребят ее и ветры буйные не иссушат. Грязь на торгу по колена, дети-нищие тонут в ней (говорят, были две жертвы). Придут благодатные летние деньки с припеком солнечным, когда изжаренная трава хрустит под ногами и на торгу сухохонько. «Вот видите, – умиленно говорит он лавочникам, – сам Бог высушил, инда пыль глаза ест!» – «Простой, богобоязливый человек!» – отзывались об нем граждане, и, верно, соорудили бы ему памятник, если б на памятник не потребовалось денег, а можно было бы соорудить его из грязи и костей лошадиных.
Суд творил он коротко и ясно. «Ты, братенько, прав, – говорил он одному, – потому что тебя обидели, а ты прав, – говорил он другому, – потому что он тебя выбранил. Следовательно, вы оба неправы. Помиритесь-ка лучше, да поцелуйтесь». Помирятся, поцелуются тяжущиеся, да выйдут за ворота на широту поднебесную, выбранят городничего на чем свет стоит, затеют опять ссору, вцепятся друг другу в волоса, клочка два-три полетят у каждого; кто кого сможет, тот и прав останется. А иногда и в самом деле помирятся, да и запьют мир добрым крючком пенного под веткой оливы, в виде ельника, прославляя городничего.
Случалось иногда, что Насон Моисеич не на шутку расходится, только не сам собой: на подвиги раскачивал его письмоводитель. Раз как-то ссора двух граждан оканчивалась подобною мировою сделкой. Но вот письмоводитель по секрету зовет Насона Моисеича в ближнюю комнату. «Что это вы, ваше благородие, настоящая мокрая курица? И так вами в городе, словно тряпицей, потирают. Этак с вами и служить нельзя». И вот Насон Моисеич, пришпоренный такой речью, встает на дыбы, входит в азарт и, сдернув на одно ухо свой рыжий паричок в завитках, бросает гром и молнию в камере судилища. Прикажет ответчика наказать за то, что виноват, а правого, чтобы вперед не ходил жаловаться. «У меня в городе все тихо, и муха не смеет ворчать. Ни гу-гу! Настоящее благословение Божие! – говорил он, гневно ходя вокруг стола. – А тут какой-нибудь вольнодумец, беспардонный, вздумает мутить да ябедничать, да в доносы ходить! Пожалуй себе, и прав, и очень прав, да зачем нарушать спокойствие граждан? Не тобой город начало имеет, не тобою и стоит. Пускай стоит, как стоял!» Почтальон, с упоением сердечным подслушивая у дверей, ждет своего сыра. Позовет к себе тяжущихся и накажет только того, который не смог заплатить выкупные. Вследствие такого премудрого суда и дел за нумерами в полиции очень мало оказывалось: все делалось больше на словах и на палках. К чести Насона Моисеича надо оговорить, что последнее делопроизводство он употреблял очень редко, и то когда письмоводитель раскачает желчь со дна этого чистого сосуда.
Наконец приехал в город, десять лет с таким страхом ожидаемый, начальник-ревизор. Ужасные дни! они отняли у городничего несколько лет жизни. Ревизор был человек добрый, приятный; в бумагах много не рылся, за очисткой нумеров не гонялся. Узнал, что городничий человек непритязательный, с живого и мертвого не драл, жалоб на него не имелось, и остался всем доволен и благодарил. А все-таки, пока его особа пребывала в городе, Насон Моисеич чувствовал себя неловко, как будто и чужой мундир надел, и рыжий паричок скоблит его череп. То словно его крапивой посекут, то в ледяную ванну опустят. Надо было видеть, с какой дипломатической тонкостью ехал он с начальником на дрожках, которые выпросил у предводителя! Балансер, да и только!.. Угораздило его сидеть на корточках, в таком виде, как громовая стрела изображается на картинках, зигзагом, одной рукой держится за ободок козел, другой, как заяц подстреленную лапку, покачивает в воздухе, а носками сапогов упирается в подножки, не смея ни одной частью своей персоны прикоснуться к подушке. Еще бы! на этой подушке восседит важная особа, которой одно мание бровей, как у громовержца Юпитера, может смять его в прах и оставить без куска хлеба. «Видно, Господь умудрил его сидеть на дрожках не сидя за его добрую душу!» – говорил голова, ехавший за ними в своей линеечке.
Все, казалось, шло хорошо. Но ревизор пожелал видеть временную арестантскую при полиции. Вот ведет Насон Моисеич, немного окураженный, великую персону к сенцам и останавливается у дверей. «Извольте головку наклонить, – говорит он, – не стукнуться бы лобиком о косяк». – Преддверие тюрьмы не представляет ничего страшного. Вместо орудий казни в глаза бросаются одни любезные идиллические предметы: ненакрытое ведро с водой и плавающий на ней ковшик с изумрудными букашками, стопочки две-три дров, небрежно развалившиеся, онучки сторожа, растянутые для просушки против сквозного ветра, жиденькая метла, которую, как видно, очень обижали, вытаскивая из нее прутья для чистки платья или на другое употребление. Ключ к месту заключения у самого Насона Моисеича; он держит его в мундире, у сердца своего, как и подобает. Вот прикладывается ключом к огромному замку, но еще раз умильно оборачивается на своего начальника и предостерегает его, чтоб он был невзыскателен, арестанты-де грубый и невоспитанный народ. «Сколько у вас здесь арестантов?» – спрашивает ревизор. «Только три человека, ваше (и прочее), – отвечает градоначальник, – здесь не только злодеяния, и моральные проступки очень редки. Мораль между жителями примерная!» Надо заметить, что на французских словечках он очень упирал: дескать, знай наших.
Входят в арестантскую. Это большая изба; половину ее занимает русская печь, сколоченная из глины. Ревизора обдает атмосфера, от которой он напрасно старается освободиться, то отдуваясь, то отплевываясь, то зажимая нос. В избе никого не видно. Насон Моисеич со страхом осматривает все кругом и тоненьким, пискливым голосом окликает арестантов: «Арестанты! арестанты! где вы?» – Нет ответа. Он ищет глазами, носом, всем своим существом, заглядывает во все углы, под нарами, на печке, в подпечьи, в печурках; взывает опять жалобным, отчаянным голосом, как будто зовет свою Эвридику: «Арестанты! где вы?» – Нет арестантов. Ревизор помирает со смеху. В это время появляется письмоводитель, чтобы развязать узел этой ужасной драмы. На носу его, толстом и красном, торчат нахально два стеклышка в медной заржавленной оправе; голова его, прилично наклоненная, дрожит, руки также трясутся, но не от страха… Нет, это чувство еще никогда не колебало такой души, привыкшей к ежедневным подвигам. С приходом его вносится густая струя воздуха, напитанного вином и луком. Отрывистым, но твердым голосом, как человек самостоятельный, знающий свое дело, он объявляет, что еще рано поутру выпустил арестантов, потому что на деле они оказывались невинными. Как сделал этот фокус ловкий письмоводитель, когда ключи были у городничего, это осталось покрыто густой завесой тайны. Снисходительный к слабостям человеческим, ревизор и не взял на себя труда ее исследовать. Кончилась вся история одним смехом главной персоны. Но на городничего она так подействовала, что он, по отъезде ревизора, слег в постель и не вставал с нее боле.
Во время болезни все бредил арестантами и взывал жалобным голосом: «Арестанты! где вы?» Перед смертью пришел в рассудок, исполнил свои христианские обязанности, попросил у всех прощения, в чем кого обидел, не намекнул даже письмоводителю, что умирает от его руки, и завещал похоронить себя в рыжем парике, чтобы в гробу ему не было стыдно.
За гробом шло много народу. За ним следовал письмоводитель, держа шпагу в руках, печальный понуря голову, как бывало в рыцарские времена верный конь, носивший своего господина в боях и на турнирах, следовал за носилками его, чтобы положить свои кости в одной с ним могиле. Купечество сделало богатые поминки, стоившие больших денег; ели и пили много в память своего бывшего благодетеля. Но когда (по приглашению Максима Ильича) приступили было к подписке на уплату его долгов, которых оказалось рублей на шестьдесят по счетам (может, и с некоторой добросовестной приписочкой на умершего), все отозвались, что и так много потратились на вина и прочее угощение для покойника. Вследствие чего Пшеницын один взял уплатить долги и содержать старушку кухарку, крепостную его женщину, оставшуюся без крова и куска хлеба. Кухарка, как увидим, наделала много хлопот своему благодетелю.
Сделали верную опись оказавшемуся после покойника имению; присяжные ценовщики оценили его в 36 рублей 27 и ? копеек. Но как наследников налицо не оказалось, то и приступили к вызову посредством публикации, не означая цены имению. Между тем нанята каморка для хранения вещей и отдана лошадь в полицию, чтобы содержать ее. Войлочки взял себе на память письмоводитель. Через год наследники отыскались. Но когда они потребовали имение или деньги по выручке за него с аукционного торга, то оказалось, что с них следует довзыскать, сверх вырученной суммы, еще рублей двадцать пять и столько-то копеек с дробями за наем комнаты для хранения вещей и за содержание лошади. Дело об этом тянулось лет десять и на него изведено бумаги на сумму, которая превышала самое взыскание. Кухарку, попавшую тоже в опись, за старостью лет никто не согласился взять.
На безыменной земляной насыпи, под которой насегда почил Насон Моисеич, поставлен деревянный крест усердием кухарки, и ею же творились по нем поминки. Но и те скоро замолкли. Только неизменные с веками солнышко и месяц попеременно, да звезды рассыпные приходят и поныне голубить своими лучами могилку его, как и прочих братьев, почиющих на общей усыпальне; только ветры непогодные прилетают на нее с своими заунывными песнями и гулят покойников в их смертной колыбели. Еще чадолюбивая церковь не перестает ежегодно поминать всех их в общей своей молитве. Бог знает, и могилка-то Насона Моисеича его ли нынче?.. Может быть, два-три новые вечные жильца пришли занять ее и потеснить в ней кости бывшего начальника целого города.
Не знаю, какой дурной человек выучил Ваню разыгрывать роль городничего, отыскивающего своих арестантов. Все помирали со смеху, когда мальчик, щуря глаза и ныряя по сторонам, взывал тоненьким, пискливым голосом: «Арестанты! арестанты! где вы?» Но Ларивон скоро прекратил эту комедию, сказав Ване, что стыдно и грешно передразнивать покойника.
После Насона Моисеича принял бразды правления какой-то коллежский секретарь. Он был из числа тех господ, которые носят романическое имя и половину фамилии своего отца. Назовем его просто Модестом Эразмовичем. Это был человек порядочно образованный по-тогдашнему, писал отличным почерком по-французски и даже сочинял русские стихи. Презентабельная наружность говорила в его пользу. Он всегда был одет щегольски. Так и сияло от него перстнями, золотом массивных цепей с разными побрякушками и дорогими булавками в виде пылающего сердца, колчана со стрелами и голубя, несущего во рту письмо. Особенно имел он искусство, даруемое только некоторым избранникам, поражать взоры ослепительным блеском солитера на указательном пальце.
Разница в управлении городом между начальниками была неизмеримая. Предшественник никогда ни на шаг не отлучался из города под опасением, что его расстреляют, если он нарушит это правило; а преемник почти никогда не бывал в городе. Первый трясся на войлочках, окутав ноги тряпицей, а второй спокойно езжал на дрожках, ничем не покрывая глянцевитых своих сапог. Один имел письмоводителем низенького старичка, с носом в виде кровяной колбасы, на котором нахально торчали два стеклышка вроде очков, а другой привез своего письмоводителя, высокого, средних лет, с орлиным носом, у которого кончик был очень бел, как бы отмороженный, но заметьте – с носом, не терпящим никакого ига. У одного письмоводитель пил горькую и закусывал луком, у другого пил сладкую и замаривал водочный запах гвоздикой и амбре. Секретарь Насона Моисеевиича делал только свои дела, а секретарь Модеста Эразмовича – домашние и служебные дела свои и своего начальника с неутомимым рвением и преданностью, отчего расходы просителей и вообще граждан получили быстрое развитие и преуспеяние. Сначала жители ощутили эту разницу, немного втайне пороптали, но, едва прошло несколько недель, попривыкли к новому ходу дел, как привыкает ко всему человек, сумевший ужиться и между льдами полярными, и под зноем тропиков. Впрочем, как скоро новый письмоводитель ознакомился с жителями, а еще более вник глубоко в статистику их состояний, он очень уравнительно, по правилу товарищества, обложил каждого, не обходя и сумы нищего, а купцы наложили маленькие проценты на товары и съестные припасы. Вскоре граждане обучились считать городничего и его штат какой-то законной повинностью. Нового письмоводителя начали также провозглашать благодетелем человечества и говорили при этом: «Вот и Насон Моисеич, дай Бог ему царствие небесное! уж не добрая ли была душа… а все-таки, бывало, гнет на закон. Все упрашивал, чтобы купцы не скупали ничего за заставами. Это, говорит, какое-то манноболе! Видно, по-малороссийски или по-чухонски, прости Господи! Не равно, говорит, приедет ревизор, меня и вас всех упечет под суд. Толку что в нем, что честный, – ни себе, ни людям! А этот – молодец, никого не боится, любит взять, да и нашему брату любит дать поживу».
Новый благовоспитанный городничий был очень далек от всех этих проделок. Попробуй принести, турнет, что и своих не узнаешь. Он сердито на словах гнал взяточничество и даже написал оду на лихоимство, где представил его во образе какого-то ужасного чудовища, пожирающего собственных детей. А вздумай кто жаловаться на письмоводителя, погнет так, что ступеньки все на лестнице его пересчитаешь. Не пожалеет и солитера!
Так жители забыли добрейшего Насона Моисеича и обращались к Модесту Эразмовичу только с высокоторжественными поздравлениями, в том числе и в день его ангела.
Как выше сказано, новый городничий большую часть дня, иногда и ночи, проводил вне города. Почти каждый день езжал он к какой-то графине, жившей врознь с мужем, в богатом поместье, за несколько верст от Холодни. Ее протекции обязан он был своим новым местом, и зато в благодарность исполнял при ней должность домашнего секретаря. А так как графиня занималась сочинением французских романов, довольно многотомных, которых рукописи любила иметь в нескольких экземплярах, то и записывался он до изнеможения сил. В нынешнее время графиня взяла бы в секретари француза, но тогда в России иностранцы были редки, особенно трудно было их найти для должности домашнего секретаря. Все были старые роялисты!.. Собираясь к графине, чтобы явиться к ней в приятном виде, он часа два тщательно занимался туалетом своим: чистил себе ногти, артистически обделывал свои букли, помадил губы, пудрил лицо, надев свой солитер, долго любовался им и т. п.
Сверх того, Модест Эразмович страстно любил охоту с ружьем. Стрелял он так метко, что попадал в серебряный пятачок. Письмоводитель, которого он определил в эту должность за то, что несколько лет таскался с ним по болотам и носил застреленную дичь, хотя и славился своей мастерской стрельбой, попадал только в медный пятак. Может быть, как политичное лицо, он немного кривил ружьем и душой, чтобы не помрачить славы своего начальника. Новый городничий посвящал также несколько часов сочинению стихов. Эти стихи, большей частью эротические или любовные, как их называли, ходили между властями по городу и даже губернии. Немудрено, что многие из песен дошли до нас в песенниках того времени и те, которые считаются лучшими в этих сборниках, принадлежат, конечно, тогдашнему городничему. С дамами мог бы, но боялся быть очень любезным, потому что люди, при нем в услужении находившиеся, принадлежали графине.
Так как он обретался более в уезде, чем в городе, то и прозвали его уездным городничим. В этом названии, как и во многих других, довольно метких, был виновен добрейший Максим Ильич Пшеницын, который, несмотря на свой кроткий, миротворный характер, любил почесать язычок на счет других. Это была врожденная слабость, за которую он не раз дорого платился и однажды едва не подпал большой беде.
Уездный городничий ласкал Ваню и имел отчасти влияние на его воспитание. Модест Эразмович научил его первым правилам стихотворства и декламации. Ваня с одушевлением и верно читал его стихи перед многочисленной публикой и даже раз произнес русский акростих, заранее переведенный на французский язык, перед поэтической графиней, которой городничий представил его как ранний Талант. Ваня декламировал стихи «с толком, с чувством, с расстановкой», и графиня наградила ранний талант поцелуем и французским молитвенником в роскошном переплете. «Будь добродетел, имей нрав чист и благочест»[5 - В десятых годах знавал я одну русскую графиню, которая так худо по-русски говорила, что даже и другие аристократки над ней смеялись.], – сказала Ване русская графиня и дала городничему поцеловать свою ручку в знак благодарности, что привез такого милого цитатора стихов. Надо сказать, что эта высоконравственная женщина, покинувшая своего мужа за его беспутную жизнь, когда ей было гораздо за сорок лет, одевалась иногда в подражание островитянкам Тихого океана – в каком-то легком, полувоздушном пеньюаре, обрисовывавшем очень хорошо ее роскошные формы.
Раз зашла откуда-то в Холодню цыганка-гадальщица и предсказала, что городничие тамошние не будут долго сидеть на месте. Как сказала, так и сделалось. Через два, три года Модест Эразмович очень захирел, вышел в отставку и отправился с графиней поправлять свое здоровье на какие-то воды, изумительно восстановлявшие силы.
Преемником его был титулярный советник Герасим Сазоныч Поскребкин, собою молодец, и ростом и дородством взял. Грудь широкая, выя хоть сейчас под ярмо, глаза как у рыси, спокойствие и твердость невозмутимые во всех трудных обстоятельствах жизни. Он был женат на приемыше какой-то знатной особы, под покровительством которой и состоял. О! этот далеко обогнал своих предшественников. Надо сказать, что он, сколько известно было, служил прежде каким-то полицейским чиновником по пожарной части и потерял это место за неблаговидные дела, потом проходил служение в каком-то месте вроде экзекуторского.
Здесь обнаружил он широкие способности к экономии. Так, отпуская на канцелярию свечи, сберегал из них некоторое количество не только для своего домашнего обихода, на что начальство посмотрело бы сквозь пальцы, но и для дешевого распространения сального света по городу. Это бы еще ничего. Слабость к сальным свечам!.. Вот, например, что может быть гаже зеленого фонарного масла? Что ж делать, я имею слабость к зеленому фонарному маслу. Зеленое масло, особенно когда оно горит ? petit jour, производит на меня какое-то магическое действие. Вы не поверите? Право, не шучу. Впрочем, не я один с таким странным вкусом: в каждом порядочном городе вы найдете мне товарища гебра, поклонника фонарного огня, горящего от зеленого масла. Затем Поскребкин имел слабость к бумаге. Отпуская бумагу канцелярским служителям, удерживал он утонченным хозяйственным образом из каждой дести по нескольку листов, а из каждой стопы по нескольку дестей. Таким образом, в известный период времени накапливалось достаточное количество стоп, которые, заведомо краденые, покупали у него мелкие торговцы. Для избежания чего начальство вынуждено было накладывать на бумагу штемпель того места, которому принадлежала бумага. С дровами опять экономия! Из каждых двух покупаемых саженей выводил он три, а когда недоставало дров, рубил на отопление и заборы.
Поскребкин был человек ловкий, умел угодить. То на паперти выхватит коверчик из рук выездного за женой своего начальника: она к церкви, а уж под ноги ее Герасим Сазоныч стелет коверчик, и награжден улыбкой; то при выходе ее из театра он первый прокричит: карета ваша подана! Тут приветливое кивание, а он успеет хоть подол салопа ее посадить в карету, да еще дружески раскланяться с выездным, которого когда-то употчивал в трактире. «Какой прекрасный, услужливый человек этот Поскребкин!» – говорила жена начальника своему мужу. И швейцар первой особы в городе жмет «со своим почтением» щедрую руку ловкого человека. Случится ли пожар, он тут, хотя и не его дело, и первый в глазах начальника зажмет мощной рукой то место пожарной кишки, которое прорвалось. На другой день начальник видит его с обожженным ухом или с подвязанной рукой. Он хвастался, что, когда был на службе в какой-то глухой губернии, никто лучше его не умел управлять кишкой пожарной трубы. Особенно мастер был на это дело, в угождение какого-то главного начальника, который, катаясь с ледяных гор, приказывал опрыскивать из трубы каждого, кто осмеливался смотреть на его забавы.
Но, увы! несмотря на все эти угождения, начальник, увидав, что хозяйственные таланты Поскребкина все более и более совершенствуются и принимают ужасающие размеры, сначала говорил, что постыдно так воровать. Потом, видя, что эти учтивые намеки не помогают, сказал ему наедине, в кабинете, что он плут, вор, мошенник и что нельзя с ним служить. Поскребкин, с благородным достоинством ударяя себя в грудь, отвечал: «Ваше!.. (и прочее: надо заметить, что он своих начальников величал всегда одной степенью выше, нежели какую они имели) изволите обижать меня понапрасну. Ей-богу, понапрасну! Я вором и мошенником никогда не был. И на что мне? Я сам имею состояние – деревушку в Расторгуевой губернии; довольствуюсь малым». Начальник, высчитав все хозяйственные его проделки, очень вежливо опять повторял прежние деликатные имена и просил сделать ему одолжение избавить его от служения с ним. Тут Поскребкин, показывая на угол комнаты, восклицал ярким, басистым голосом, вылетавшим из широкой груди его: «Чтоб мне сальным огарком подавиться! Утроба моя разорвалась бы от одного листа бумаги! Детей моих перебило бы поленом дров! Вы изволили видеть, жена моя беременна… чтоб она родила бревно вместо живого ребенка, если я посягнул на разорение хоть одного столба в заборе!.. А я еще уповал (тут он говорил более жалостным голосом, фистулой), что ваше (и прочее), как всегдашний мой благодетель и отец, удостоите быть у меня крестным отцом! Помилуйте! Каким-нибудь куском сала или ветошным отребьем захочу ли марать свою честь!» Потом начинал кулаком утирать слезы, упрекал в клевете своих недоброжелателей, которые будто требовали от него акциденции, да он, помня присягу и долг благородного человека и верного сына отечества, не посягнул на такие гнусные дела. «Чтоб им так сладко было, как мне теперь, перед лицом великодушнейшего, благороднейшего из начальников! Ежеденно молю Господа за здравие ваше и вашей супруги… Божественная женщина!.. Чтоб Господь даровал вам хоть одно детище на порадование ваше! Помилосердуйте, ваше (и пр.). Жена, куча детей, мал-малым меньше… пить, есть надо…» Говоря это, Поскребкин думал, как искусный оратор, какую мимику употребить в пособие своему красноречию. Поцеловать у начальника ручку? – неравно ткнет его в глаз огнем сигары. Броситься в ноги? – оттолкнет, как гадину, концом своего сапога. И не решился ни на то, ни на другое. А начальник думал: настоящий разбойник! как бы еще не задушил!.. Однако ж порешил это дело тем, на чем его начал: Поскребкин должен был выйти в отставку.
Не долго, только полгодика, томился он в ней. Жена бросилась к своей покровительнице, расплакалась, жаловалась на несправедливость начальства, на коварство и недоброжелательство клеветников и наушников и успела до того разжалобить сильную особу, что та обещала ей свою протекцию и даже назвала бывшего главного начальника Поскребкина человеком без сердца, злодеем. Un homme sans foi, ni loi – прибавила она, обратись к сидевшему у нее генералу. Даже, говорят, попрекнула гонителя бездетностью.
И вот Поскребкин городничим в Холодне. Здесь представился широкий кругозор его наклонностям; начальства для него в городе не было. «Гуляй, мой меч!» – сказал бы он, если б знал стихи из новейших трагедий. Тут начались у него – ведь голодал шесть месяцев – ненасытные припадки каких-то аппетитов. То появятся аппетиты на сахар, осетрину, стерлядь, лиссабонские и прочие съестные и питейные припасы, то на сукно или материю для жены. Давай то и другое, пятое и десятое. Беда, коль не заморить этих прихотей. Берегись тогда первый купец, попавшийся ему на глаза: сейчас оборвет, да еще хуже чтоб не наделал. «Пожалуй, чего доброго, подлец и впрямь обесчестит, наплюет в глаза!» – говорит торговец, который успел ему подвернуться. И несет с низким поклоном от усердия своего. Наконец вкусы Поскребкина до того стали разнообразиться, что слюнки у него потекли на все, что жадным глазам его только полюбится, даже на коров, на лошадей. Может быть, со временем пришел бы аппетит и на домик; но, как увидим далее, Максим Ильич умел разом пересечь припадки его бешеного обжорства.
Ездил Поскребкин, развалясь в крытых дрожках, на чубаром иноходце с такой же пристяжной, которая завивалась кольцом и ела землю. Вот увидал он у Максима Ильича кровного серого рысака; спит и видит – достать рысака. Вихрем прокатит на нем хозяин: кажется, так и топчет им городничего.
– Воля твоя, – говорит Поскребкин Максиму Ильичу, – уступи, брат, серого коня. И во сне меня мордой пихает. Аппетит на него такой припал… слышь (тут он взял руку своего собеседника и приложил ладонь к желудку), так и ворчит: по-дай ры-са-ка! Не дашь, свалюсь в постель, будешь Богу отвечать. Я ли тебе не слуга?
– Поворчит, – отвечал Пшеницын, – да и перестанет, а я тебе по этой части не лекарь. Серого коня любит жена, не отдам ни за какие деньги.
– Ой ли?
– Сказал.
– Последнее слово?
– Решительное.
– Ну, смотри, брат Максим, доеду.
– Доезжай, а я покуда поеду на рысаке. Еще будь раз навсегда сказано: бесчестных и беззаконных дел не делаю и не только тебя, никого не боюсь.
– Помни ты у меня эти слова! – сказал Поскребкин и погрозил своим пальцем, как жезлом.
– Никогда не забываю, готов повторить и повыше кому.
С того времени городничий и рвет и мечет и кипит гневом на Пшеницыных. Еще более разожгли его следующие случаи. На другой день в церкви у обедни Прасковья Михайловна стала впереди городничихи, а после обеда проехала мимо окон ее на лихом сером рысаке, в новых щегольских дрожках. Мелькнула молнией, и сердита и блистательна; да еще обдала городничиху, будто в насмешку, облаком пыли.
– Купчиха лезет вперед! Я все-таки начальница города, – говорила жена городничего. – Воля твоя, это афронт. Я этого не потерплю, я напишу к моей благодетельнице. Как хочешь, Герасим Сазоныч, ты у меня упеки ее в тюрьму, чтобы не хвалилась; не то разведусь с тобой.
Выжидая случая подкосить Максима Ильича, как говорил Поскребкин, он продолжал безбоязненно свои подвиги. Так забывают этого рода люди свои прежние невзгоды, иногда нужду, холод, голод, страдания целого семейства, лишь только на новом месте удаются им новые беззаконные приобретения. Так-то бывает… Придет беда – люди охают, стонут, обещают исправиться, обновиться и просветиться добром; пройдет невзгода – забывают все, и опять принимаются за старое, и опять погрязают в тине невежества, в неге взяточничества.
Приведут в полицию краденую лошадь с вором – конокрада выпустят, а похищение рано или поздно делается достоянием Поскребкина, словно он всеобщий наследник. Является за лошадью хозяин крестьянин. Он обегал более ста верст по разным уездам, упустив дома важные полевые работы, от которых живет целый год, растряс на мошенников и колдунов последние свои деньжонки, чтобы указали ему только на след живота его. Услужливо ему выводят лошадь из полицейской конюшни. Скотина его, по всем приметам, описанным в явочном объявлении! И масть та же, и конец уха также обрублен, и грива лежит на ту же сторону, как у пропавшей лошади. Его, да не его. Жена притащилась с ним и дочерью выручать своего доброго воронка. И они также признают ее. «Вот, – говорит старушка, – и сама признала нас: заржала, кормилица, и мордочку к нам протянула, только нас завидела. В какой стороне была ты, моя голубушка? По каким мытарствам не водили тебя! Чай, не вовремя попоили, не всласть накормили, а, может, и вовсе целый денек была не евши. Легче б нам самим без хлебушка оставаться». И начнет старушка причитать разные нежности своему животу и выть над ним. Дочь подставляет руку свою под морду лошади, и та лижет руку, которая привыкла ее лакомить краюхами хлеба, посыпанного солью. «Наша, да и только, матушка», – говорит девка и от радости целует воронка. Действительно, их лошадь, а выходит не их. У их лошади на одной ноге белое пятнышко, а у этой вся нога словно в черный чулок обута. Опытный глаз увидел бы, что пятно закрашено черной краской. В явочном объявлении стоит белое пятнышко на ноге. «Так ли, мужик?» – спрашивает беспристрастный письмоводитель. «Так, батюшка, грешить нече», – отвечает горюн. Где ж мужику признать косметическую подделку?.. Приходится отступиться. Почешет старик голову, почешет грудь, горько вздохнет да поохает с старушкой, а делать нечего – знать, лукавый подшутил над ними. Но девке не так легко расстаться с воронком; видно, натура молодая и неопытная! Обвила шею его своими мощными, загорелыми руками и замерла на ней, несмотря на брань полицейских служителей! Рыдая, говорит она: «Наш, свято слово, наш! Не расстанусь с тобой, родной мой, кормилец ты наш!» – И пуще прежнего сжимает шею коня в своих объятиях. Позвали городничего. Мигнул он двум бравым молодцам… Разом оторвались от лошади две девичьи руки, как две гибкие ветви молодой березы, дружно сплетшиеся: хотели было молодцы куда-то потащить девку, да… взглянули на городничего. Тот махнул рукой, плюнул и скрылся, чтоб, неравно, не случилось при нем какого несчастья. Девка лежала полумертвая на земле, пена клубом била у ней изо рта…
Таким образом и другими фокусами краденые забеглые лошади поступали в собственность Поскребкина. Также и краденые самовары, кастрюли, оловянная посуда, якори, рогожи, бечевки – все ценное поглощалось ненасытной утробой его. В известный, благоприятный период времени, под укрывательством волчьей ночи, все эти вещи укладывались в краденую телегу, в которую запрягали лошадь неотысканного хозяина, и отправлялись с верным служителем в деревушку Герасима Сазоновича, род закутки, укрытой лесами и охраняемой болотами. Так понемногу из песчинок невидимо слепливаются дома и большие состояния!
Случилось однажды богатому купцу, по неведению ли законов, по намеренности ли, сделать какой-то проступок. Виноват, да и только. Приходило ему худо, и добрые люди присоветовали ему отнести сотнягу рублей Герасиму Сазонычу. Так и сделал купец. Главный советник его по этому делу дал знать Поскребкину о куше, который ему готовится, и о часе, в который сделано будет приношение. В это время остановилось в городе, по болезни или по домашнему делу, значительное лицо. Вот приходит по секрету к городничему виновный купец. Ласково принимают его. Он осторожно затворяет за собой дверь и, объяснив, что у него есть такое и такое-то дельце, просит пощады; вместе с этим осторожно, с низкими поклонами, кладет на стол куверт, немного отдувшийся. Для вящего эффекта положены в него все синенькие. Надо было видеть, как гневно привстал Поскребкин во всю громадную высоту свою, как он вскипел гневом, швырнул на пол куверт так, что бумажки разлетелись, и закричал громовым голосом, потрясшим стены: «Что это?.. Подкупать?.. Меня?.. Разве я взяточник?.. Поклянешься ли, что я брал от тебя когда-нибудь?.. Под колоколами спросят. Разве я не присягал служить, как подобает верным подданным? Господа, прошу засвидетельствовать». А тут как тут выросли из земли три свидетеля. Впереди сам страж законов, богобоязненный старичок, с постным лицом, выплывает мерно и, ныряя головой, точно утка со своими утенятами скользит по зеркалу пруда, где рыболовы закинули невод. Он смиренно делает какие-то знаки рукой на груди, словно готовится на какое-нибудь благочестивое дело. За ним невозмутимо выступает своим брюшком купец, тоже должностное лицо. Он держит пальцы правой руки, налитые брагой, между петлями сюртука. Сзади, господствуя над всеми взъерошенной головой, выказывает свой острый, бекасиный носик надзиратель, испитой, длинный и прямой как верстовой столб. В его глазах видны одно холодное бесстрастие и строгое исполнение своего долга. Он знает, что от сладкого пирога ему достанутся только корки.
Улика налицо. Купец помертвел и бросается в ноги городничему. «Не погубите, ваше благородие, – вопиет он отчаянным голосом. – Не сам собой, помутили худые люди». Нет пощады! Записать в журнал, да и только; отослать деньги в пользу богоугодного заведения!
В ту же минуту, с быстротой электрического телеграфа, сказал бы я, если б электричество было тогда изобретено, и потому скажу – с быстротой стоустой молвы, честный, благородный, примерный поступок Герасима Сазоныча разносится по городу и доходит до ушей значительного человека, который, по болезни или по домашним обстоятельствам, остановился в городе Значительный человек в неописанном восторге от этого неслыханного подвига, желает видеть в лицо городничего, чтобы удержать благородные черты его в своей памяти, рассыпается в похвалах ему, говорит, что расскажет об этом по всему пути своему, в Петербурге, когда туда приедет, везде, где живут люди. Мало – надо непременно в газетах напечатать об этом во всеобщее сведение, на поучение всем городничим и прочим правителям. С такими высокими мнениями о Поскребкине и чувствами удивления к его душевным качествам значительный человек уезжает из Холодни. Чем же все это оканчивается? Чтобы замять и потушить дело, купец вносит уже, по секрету, не сто, а пятьсот рублей, да еще задает на славу обед. Никакое богоугодное заведение не записывало у себя на приход ни одной копейки из этих денег. Надо прибавить к чести Герасима Сазоныча, он на этот обед не явился, но уговаривал всех ехать, говоря, что купец человек прекрасный, только опростоволосился по наущению недобрых людей, желавших его погубить.
Раз как-то на двор к Максиму Ильичу въехала лихая тройка одной масти. Под дугой гудел заливным звоном валдайский колокол; бубенчики лепетали разными звуками, мастерски подобранными от самого тоненького до самого густого. В звуках этих был какой-то музыкальный строй. Покромка красного сукна обвивала сбрую на лошадях; медь в бляхах, звездах и полумесяцах, казалось, должна была сдавить коней. Пестрый, с азиатскими узорами ярких цветов, ковер упадал с кресел пошевень почти до земли. Всю ширину пошевень занимала огромная медвежья шуба и поверх ее торчала, похожая фигурой на башню с куполом, высокая шапка из серых мерлушек с бархатным верхом зеленого цвета. Кучер был в нагольном тулупе, видавшем разные виды и непогоды на своем веку, и потому носившем какой-то неопределенный цвет, не то желтый, не то красный, не то буро-пегий. Рядом, свесив с кучерского места ноги в холодных сапожках, которыми изредка постукивал один об другой, сидел мальчик лет тринадцати, остриженный в кружок. Он также был в овчинном тулупчике, только совершенно новеньком, что можно было не только видеть по мучистой белизне его, но и слышать по запаху. Нарядом своим он очень занимался; это заметно было из движений его рукавов, которые поднимал попеременно, смотря на них с особенным удовольствием. Казалось, он любовался в них сам собой, как в зеркале. На голове у него нахлобучена была высокая шапка из порыжелых мерлушек, беспрестанно наезжавшая ему на лоб. Вероятно, ее сняли с большой головы, взявши, однако ж, предосторожность удержать ее по возможности на мальчике, о чем можно было также догадаться по нескольким веткам сена, упорно выползавшим из-под шапки. Тройка лихо завернула к крыльцу. Ваня играл в это время на дворе в снежки.
Другие электронные книги автора Иван Иванович Лажечников
Басурман




 0
0
Окопировался




 4.67
4.67