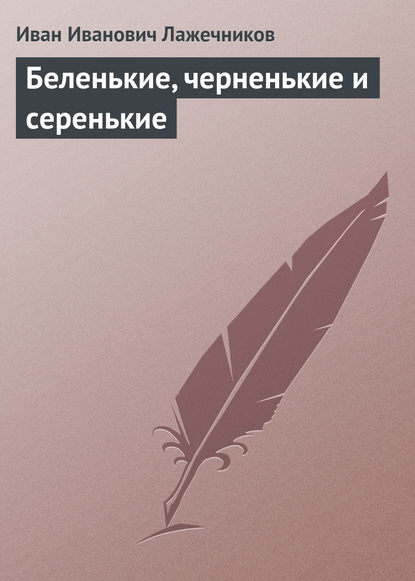По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Беленькие, черненькие и серенькие
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это сделал Бог.
– Но вы были орудием Его.
– Благодарю за это Бога и буду вечно в молитвах своих благодарить.
– Поэтому вы будете помнить и спасенного вами? – Уж конечно.
– Забудете.
– Никогда!
Это слово было так энергически сказано, как будто бы Катя давала священный обет в роковую минуту жизни. Кажется, более с обеих сторон нельзя сказать: так скоро увлеклись они чувством, которое старались оправдывать предопределением судьбы.
В одно из первых затем посещений Волгина, Катя, заметив, что сосед был очень грустен, сказала ему:
– Знаете ли, я желала бы видеть в своем штате людей веселых, счастливых. А вы… – Катя не докончила.
– Говорите.
– Я только что со школьной скамейки и потому скажу вам с простодушием институтки и участием доброй соседки: на лице вашем вижу часто грусть, которая как будто вас преследует. Вот теперь… признайтесь.
– Следы меланхолического характера… Еще прибавлю – и я буду с вами откровенен, как преданный вам человек – может быть оттого, что я в жизни моей не знал счастья, именно сердечного, душевного счастья. Лучше скажу, я был очень, очень несчастлив. Но как же вы… заметили?
– Видно, у женщин есть для этого особенный инстинкт. Как, отчего, – я вам теперь не растолкую. Когда-нибудь после… с летами, с опытом, хотела я сказать… я до этого дойду.
– А ваш инстинкт отгадает ли, что у меня теперь на сердце, кроме печальных мыслей о прошедшем?
– Теперь?.. Нет, моя премудрость отказывается от этой разгадки.
– Жаль, вы прочли бы в этом сердце надежды на лучшие дни. Может быть, безрассудные надежды! Но все-таки они обольстительны. Не знаю, что сталось бы со мной без них.
Подошел к собеседникам Александр Иваныч, который до этого обрезывал сухие сучья на деревьях, и разговор сделался общим.
С этого времени Волгин и Катя виделись чаще. Видеться, говорить друг с другом сделалось для них потребностью жизни. Уже и отец ее полюбил своего доброго, умного соседа, который умел так хорошо рассказывать о морских сражениях под начальством Чесменского и Ушакова, о Греции, родине предков Горлицыной, где природа так хороша, женщины так похожи на портрет, висевший в спальне Кати. Случалось, Волгин не придет день, другой, и шлют к нему посла: «Приказали-де сказать, соскучились по вам соседи». А иной раз Катя прибавит: «Адмирал велит своему капитану немедленно явиться к нему по делам службы». Иной раз Горлицын увидит, что сосед сидит пригорюнясь у своего окна, и махнет ему рукой, а дочка из-за него покажет свое хорошенькое личико: этого было довольно, чтобы сосед сейчас явился. Ужение подле мельницы, прогулки по реке и в роще, путешествие на богомолье в ближайшие монастыри, по обетам, которые каждый держал при себе – всегда с отцом, иногда с семействами предводителя и Пшеницыных, с которыми приезжий успел познакомиться, сблизили еще более Катю и Волгина. Вместе наслаждались красотами природы, веселились одними удовольствиями, вместе в храме молились и, может быть, об одном и том же. Улицы как будто между ними не существовало: казалось, они жили и засыпали под одной кровлей. Хотя между ними не было произнесено слово любви, оно было уже неоднократно высказано в их глазах, в движениях, в прерванной речи, даже в пожатии руки. Катя любила первой и последней своей любовью; порывы ее страстной души были сдерживаемы только чувством стыдливости и приличия, и правилами, данными ей в институте. Не укрылись от отца взаимные чувства дочери и Волгина; партия для нее была блестящая, какой и во сне ему не снилось. Сначала смотрел Горлицын на любовь их с удовольствием, потом она стала пугать его. Прошло три месяца с того времени, как Волгин жил в Холодне и между тем не делал предложения. Дело его по вводу во владение имением было кончено, однако ж, он не выезжал из города. Раз как-то дал он Горлицыну понять темными, таинственными намеками, что у него есть какие-то обстоятельства, которые еще мешают ему яснее открыться… Чтобы такое было? Отец ломал себе голову над догадками, сердце дочери разрывалось от неизвестности. Родителей у Волгина нет, следственно, он волен располагать своей судьбой. Горлицын подумал, нет ли у него тайной связи, которую он желает разорвать, может быть детей, которых обязан обеспечить. Эта мысль очень тревожила старика, слыхавшего нередко, как человеку, особенно честному и благородному, трудно бывает выпутаться из подобных связей, в которые люди вступают часто без участия сердечного. Еще более встревожился Горлицын, когда стали доходить до него слухи, что в городе кумушки, завистницы и сплетницы начали чесать язычок насчет короткого знакомства соседа и соседки. Бог знает, чего тут не прибрали! Все эти обстоятельства заставили Александра Иваныча держать себя с соседом в отношениях более размеренных. Волгин уже не был приглашаем так дружески; Катю не оставляли с ним одну и даже заметили ей, чтобы она была осторожнее. Катя любила сильно, но вынуждена была признать основательность этих замечаний и с глубокой грустью, с тайными слезами исполнила волю отца.
Волгин не мог не заметить этой перемены. Он разрывался от досады, проклинал свою судьбу и – молчал. Зато погрузился в какую-то ожесточенную деловую переписку, точно заразился страстью майорской дочери Чечеткиной. Знали, что он никому не поручал тайн этой переписки и сам занимался ею; знали, что он не отдавал своих писем и посылок на местную почту, а посылал ее с доверенным человеком в другой ближайший городок и оттуда получал всю корреспонденцию. Таинственность эта возбудила в Холодне еще более толков насчет его и нанесла новое огорчение Горлицыну, который с каждым днем видел, что Катя его делается все грустнее и грустнее. Осень обнажила ее садик, успехи ученика ее Вани не утешали ее более, – все кругом ее приняло мрачный вид.
Что ж могло останавливать влюбленного Волгина просить руки той, в чувствах которой он сам был уверен?
Вот что: все, что о несчастной жизни Волгина сказали его люди старому слуге Горлицына, было справедливо. Об одном они только умолчали, что сумасшедшая жена еще была жива.
II
Лет за десять, с небольшим, до происшествия на описанной нами переправе через Москву-реку, в одном из подмосковных губернских городов, именно на святках, появился блестящий метеор. Это был морской офицер Волгин. Двадцати трех лет, свободный обладатель богатого имения, оставленного ему отцом и матерью, привлекательной наружности, умен, ловок, он в несколько дней сосредоточил на себе все внимание избранного городского общества. Ныне прозвали бы его львом. В то время почли бы такое прозвание слишком низким; мода, а за нею художники, писатели и весь хотя несколько образованный люд, лезли во что бы ни стало на высоты недосягаемые. Зато сами обитатели Олимпа, по велению этой моды, сходили на землю, даже в губернские города России, куда только проникал свет из очагов столиц, роднились с простыми смертными и давали им свои имена и качества. И потому богини-девицы губернского города N с душевным замиранием ждали, не поднесет ли счастливейший из них Парис-Волгин золотого яблока; не одна неутешная Калипсо молила небеса о сердцекрушении юного мореходца у берегов ее очаровательных владений. Не одна маменька, скажу низким слогом, старалась, как можно лучше, скрасить свой живой товар, чтобы сбыть его в такие дорогие руки. У всех у них был один напев мужьям, чтобы употребили все возможные и невозможные средства привлечь в свой дом такого завидного женишка для их единственной дщери или одной из бесчисленных дочек. Во что бы ни стало подай Волгина! За удовольствие иметь его у себя на обеде, вечере, фантах и других святочных увеселениях тогдашнего времени, спорили, как ныне спорят за честь и удовольствие иметь у себя в доме севастопольских героев.
Закружился было Волгин в этих увеселениях. В танцах ему не давали отдыха. В менуэте ? la reine это был настоящий Аполлон по отзыву прекрасного пола. Никто так грациозно не вел своей дамы в польках, не делал в контрадансах таких мудреных антраша и шассе battu. А казачек? Хотя Волгин, по тогдашнему обычаю, исполнял его в башмаках с стразовыми пряжками и шелковых чулках, старики отзывались, что родовитый казак лучше его не пропляшет своего национального танца. То пригласит его мать сделать честь пройтись с ее дочерью, не имевшей еще случая танцевать с таким ловким кавалером и выказать свои таланты, развитые в столице. То очаровательная девица мимоходом бросит на него молнию своих глаз, которая могла бы поднять и мертвого – а в Волгине, казалось, было две жизни – и понесется он в следующем танце с своей очаровательницей. Никого так часто не поднимали со стула в игру сосед и не требовал к себе оракул; ни на кого так горячо не пал жгут в доказательство, что чем сильнее бьешь, тем сильнее любишь. Зато ничьих фантов столько не было, как Волгина, а фанты в то время, большей частью, выкупались бесчисленным счетом поцелуев.
Приезжая к себе с рассветом дня, утомленный, разбитый, Волгин не чувствовал, как слуга раздевал его и укладывал в постель. Только во сне все еще мерещились ему огненные и томные глазки, тоненькие и толстенькие губки, и отдавался в ушах его звук сладких речей. На другой день встанет свеж, здоров, весел, и опять за те же упражнения. Мудрено ль? Он был так молод, не знал за собой горя и не видал его перед собой.
Чаще других посещал молодой моряк дом Сизокрылова, очень значительного лица в губернском городе, и потому чаще, что у этого лица был сын, приятель Волгина. Молодые люди вместе поступили на службу, вместе делали одну морскую кампанию, вместе кутили. Приняв наследство, Волгин поехал в губернский город познакомиться с властями, с которыми имел дела по своим имениям, повеселиться и повидаться с своим бывшим товарищем, вышедшим уже в отставку. Не испытав еще ни измены любви, ни измены дружбы, мало знакомый со светом, он видел во всех людях одни добрые, благородные качества. За молодого же Сизокрылова, умевшего доказать ему свою дружбу многими послугами, готов был, как говорят, на ножи. Напротив того, этот друг, хотя и немного постарше Волгина, но ловкий, пронырливый, перегоревший уже в опытах жизни, с первого раза, как увидал его в своем семействе, схватился за счастливую мысль загнать эту дорогую птичку в расставленные сети. И вот на какую приманку.
У него были три сестры. Старшая, Гликерия, по календарю, и Лукерия, по народному произношению, была красивее и бойчее других. Она танцевала менуэт, как королева французская, пела русские песни, как малиновка. Если б заглянуть в акт ее крещения, можно бы по нем счесть ей двадцать пять лет. Но кто ж пойдет справляться с актами? Наружность и родители давали ей только двадцать лет. В свете это была самая привлекательная из девиц губернского города N. Увы! местные женихи знали, чем она была дома, и потому не посягали на счастье назвать ее своей супругой. По этой-то причине и засиживалась она в девическом состоянии. Младшим сестрам, хотя и не с такими блистательными наружными качествами, но добрым и любезным, представлялись достойные партии, и напрасно. Мать их, женщина неразумная и бестолковая, страстно любившая старшую дочь, баловавшая ее с малолетства, и слышать не хотела, чтобы, помимо ее идола, шли меньшие ее дочери к брачному алтарю. Старшую дочь величала она Лукерьей Павловной, а меньших не иначе называла, как девчонками. Вы думаете, что баловень-дочка платила ей такой же любовью? Нимало. Часто Лукерья Павловна хохотала над своей маменькой, когда та, за неимением бровей, разрисовывала себе неправильно брови так, что одна уходила концом вверх, а другая утлом загибалась на веки; часто прикрикивала на нее, говорила ей в глаза, что она необразованная, степная барыня, а за глаза, при сестрах и домашней прислуге, честила ее даже и дурой. Мать приказывала, а дочка отменяла приказание, не для того, что считала свое распоряжение лучшим, а для того, чтобы поставить на своем. Чего не терпели от нее две Сандрильоны, ее меньшие сестры! Покупка и выбор для них материй на платья, покрой этих платьев, прическа, выезды, даже рукоделья, все что могло радовать и утешать этих бедных жертв, зависело от домашнего властелина, все получалось от каприза или великодушия его. Сестры не могли любить Лукерью Павловну, но боялись ее и льстили ей из надежды щедрых ее милостей. Зато мало уважали мать, которой несправедливое предпочтение любимой дочки возмущало их душу. Властолюбивая, нетерпеливая и вспыльчивая, Лукерья Павловна жестоко обращалась и с своей прислугой. Сколько раз ее ручка оставляла красное пятно на щеке ее горничной! Даже раз удостоилась эта несчастная кровавого возмездия булавкой за то, что, одевая свою барышню, слегка нечаянно уколола ее. Вот какое сокровище готовил молодой Сизокрылов своему другу! Виды были не глупые. Он хотел, во-первых, избавиться от домашнего тирана, под зависимостью которого и сам находился, хотя и в меньшей степени, нежели другие члены семейства; во-вторых – занять место этого властелина и через то свободнее удовлетворять свои страстишки, до сих пор стесняемые контролем сестры. Надо сказать, что и сынок был маменькин баловень, но занимал только второе место в сердце ее и в доме. Пожалуй, удовлетворение этих видов могло принесть пользу меньшим сестрам, которым, вслед за старшей, открывался выход из нерадостного дома родительского. Тогда-то молодой Сизокрылов мог бы распоряжаться своей маменькой, как хотел.
Отец, не мешавшийся ни в какие домашние распоряжения, озабоченный только делами и через них приобретением денег, и ежедневно искавший развлечения от служебных занятий в карточной игре, довольно сильной и счастливой, не знал и не хотел знать, что происходит в его семействе. Он дал, какое мог, воспитание детям; безоговорочно, по требованию жены, выдавал ей деньги на расходы, протягивал каждое утро и каждый вечер свою руку сыну и дочерям для обычного лобызания и уверен был, что выполнением этих обязанностей делает все, что повелевает ему долг отца и главы дома.
Волгину нравилась Лукерья Павловна, пожалуй, немного более других девиц. Ни с кем он так охотно не рисовался в менуэте, как с ней; с удовольствием заслушивался ее соловьиного голоска, наслаждался ее живой, умной болтовней, говорил ей комплименты. Но особенной любви к ней не чувствовал, тем менее думал искать руки ее, несмотря на все старания братца выставить ее в самом привлекательном виде. Со своей стороны, Лукерья Павловна искренно, без расчетов на богатство Волгина, всеми силами души пылкой, необузданной полюбила друга своего брата. Не знав до двадцати пяти лет, что такое любовь к кому-нибудь, лишь только изведала ее, она предалась ей безгранично, с тем увлечением, с каким предавалась своим худым наклонностям. Казалось, любовь преобразовала ее. Ласкаясь к матери, угождая сестрам, особенно внимательная к брату, добрая с прислугой, она как бы хотела вознаградить всех их за прошедшие несправедливости и оскорбления. Все в доме были веселы, счастливы, прислуга крестилась.
Был званый вечер у Сизокрыловых. В этот день любовь придала голосу, речи, всей наружности Лукерий Павловны какое-то особенное очарование. Она действительно была хороша. Моряк ею одной только и занимался.
В одном из антрактов между танцами он стал отыскивать ее в зале и, не найдя, прошел анфиладу комнат, наконец пробрался в какой-то отдаленный уголок дома. Здесь царица этого вечера сидела на диване одна, в глубоком раздумье, опустив голову на грудь, скрестив руки. Восковой огарок слабо освещал комнату. Услышав чьи-то шаги, Лукерия Павловна вздрогнула и подняла голову. Печальный и вместе знойный взгляд ее упал прямо в сердце молодого человека. Волгин не мог ему противиться и сел возле нее. Несколько слов было им сказано с восторгом о том впечатлении, которое она сделала в этот вечер и особенно на него. Отвечала с глубоким вздохом, что если она желала нравиться, так это одному только. Затем дрожащая ручка попала как-то в его руку; он горячо поцеловал ее, еще раз и еще. Как-то нечаянно набрел брат на эти поцелуи. Он показал вид, что ничего не заметил, отворил дверь в соседнюю комнату и закричал: «Чаю мне!» – потом присел к смущенной парочке, будто для того, чтобы помешать повторению слишком нежных сердечных изъяснений. Разговор упал на очень обыкновенные предметы. Но вскоре смычок подал свой призывный голос, и все трое отправились в зал, чтобы снова пуститься в выделывание разных затейливых фигур и па, строго предписываемых в тогдашнее время законами моды.
Когда разъехались гости, молодой Сизокрылов зазвал к себе в свое холостое отделение Волгина вместе с близким своим родственником, тоже молодым человеком. Надо было ковать железо, пока оно было горячо. Подали вина; хозяин не жалел его. Пошли горячие изъяснения дружбы. Волгин, отуманенный напитками и еще свежими сладкими воспоминаниями, провозгласил тост: «Нынешнего вечера царице и хорошенькой сестрице!»
– Послушай, брат, – сказал Сизокрылов, – мы с тобой друзья; я это, кажется, доказывал тебе не раз на деле. Но есть шутки, которых и дружба не терпит равнодушно.
– Я не шучу, – отвечал с горячностью Волгин.
– Надеюсь, и поцелуями, на которых я давича застал тебя. Зашел, брат, далеконько!.. Добро б еще к случаю, при многих, а то наедине, в дальней комнате… ты не знал, что это спальня Луши (он лгал); ты не знал, что подле чайная комната и люди видели все из нее… Теперь при постороннем, хотя и моем родственнике, ты вздумал хвастаться тостом за здоровье хорошенькой!.. Ваня, я этого не ожидал от тебя…
И Сизокрылов закрыл себе глаза руками.
– О! когда так, зови сейчас сюда свою сестру. Я никогда не делал неблагородных дел и это докажу. Говорю тебе, проси сюда с отцом и матерью… Я повторю при них.
– Сюда?
– Воля твоя, у меня ноги подкашиваются, и я не в силах взойти наверх.
– Послушай, опомнись, не вино ли говорит в тебе?
– Вино?.. Смотри, брат, есть границы и для дружбы, ты сам сказал.
– Когда так, видно на то воля Божья! Иду, но прежде, друг и брат, сюда к сердцу, которое предаю тебе на жизнь и смерть.
Приятели горячо обнялись, и Сизокрылов, боясь, чтобы слово, в чаду опьянения, не выдохлось скоро, отправился радостным вестником на половину своих родителей. Третье лицо, пировавшее с ними, заключило также в свои объятия будущего своего родственника.
Упавшая с неба манна или груда золота не могла бы так изумить и обрадовать стариков Сизокрыловых и любимую дочку, как неожиданная весть, принесенная им дипломатом-сынком. Несмотря на странность вызова по такому важному случаю, в пять часов утра, в отделение молодого Сизокрылова, отец, мать и Лукерья Павловна, в чем их застала эта весть, один без парика и галстука, другая с остатком брови, третья в интересном беспорядке, поспешили исполнить волю дорогого жениха. При появлении их в комнату, где недавно оргия была в разгаре, где не успели еще прибрать бутылок и бокалов, предложение Волгина было повторено и запечатлено поцелуем жениха и невесты. Нашли еще нужным, чтобы до настоящего обручения они поменялись кольцами, которые случились у них на руках. Это делалось будто в силу какого-то древнего поверья, а скорее для того, чтобы Волгин не забыл, проснувшись, что он жених. При пожелании счастья будущей чете, вспрыснули их шампанским. Требовалось подсластить вино, и Волгин в восторге целовал без счета свою нареченную, упоенную также своим неожиданным счастьем. Расстались все довольны. Молодой Сизокрылов отвез своего приятеля на его квартиру, уложил сам в постель и щедро одарил людей его, не забыв прибавить, что это делается от имени невесты, Лукерии Павловны.
В полдень проснулся Волгин, разбитый, с отяжелевшей головой, сердитый, смутно помня роковое событие утра, как будто виденное во сне. Но удостоверили его в этом событии поздравления слуг и незнакомое кольцо, сиявшее на его руке.
Воротить прошедшего было уж невозможно, и через две недели состоялась свадьба.
Хотя Волгин о приданом и не спрашивал, молодая принесла ему в свадебной корзине слишком сто душ, много серебра и все другие предметы роскоши, которые в подобных случаях отпускаются с дочкой богатыми и нежными родителями. Замечено однако ж было, что в числе женской прислуги, вошедшей в роспись приданого, по собственному выбору Лукерии Павловны, отпущены такие личности, которые не награждены были от природы очень хорошеньким личиком.
Казалось, ангел-хранитель молодой четы уберег медовый месяц их от всяких неприятностей. Счастливой, влюбленной парочке завидовали. Волгину не было причин раскаиваться в браке, так нечаянно, экспромптом состряпанном, и он не каялся. Он полюбил жену искренно. Но вскоре начали обнаруживаться в ней вспышки ревности. В первые месяцы несколько сдержанные новостью положения и приличием, он в последующие стали развиваться. Иногда, без всякого повода, Лукерья Павловна умоляла мужа, чтобы он клялся ей в вечной любви и верности. Это сначала смешило его. Видя в этих просьбах только порывы сильной к нему привязанности, он исполнял ее желания, но замечал притом жене, что если благородный, с твердыми правилами, человек раз дал клятву при алтаре Божьем верно любить свою жену, так новые обеты совершенно лишни; ветреного же мужчину и клятвы не удержат. Повторение этих просьб стало надоедать Волгину. Иногда супруга надуется на него, не говорит с ним по нескольку часов. За что? за то, что он вел несколько живой разговор с хорошенькой дамой или девицей. Случалось даже, что Лукерья Павловна наговорит колкостей этой даме или девице. Терпеть эти оскорбления никто не находил нужным. Замужние женщины платили ей той же монетой, за девиц заступались матери, и от этих ссор выходили неблаговидные истории, падавшие всем бременем своим на голову бедного Волгина. Дом молодых супругов стал понемногу пустеть; вследствие того и выезды их сделались реже. Волгин любил танцевать. Ему посоветовали, а потом потребовали, чтобы он не танцевал более, потому что мужчина, посвятив себя раз избранной им женщине, не должен находить удовольствие ни в чем с другой. И это требование вынужден был исполнить, не по слабости характера, а для того только, чтобы избегнуть домашних ссор или гласного оскорбления, на которое жена, забыв всякий стыд, не раз покушалась. Даже сестры получали от нее обидные выговоры за то, что осмелились слишком любезно говорить с ее мужем. И сестры ограждали себя холодными отношениями к человеку, которого любили, как достойного всякого уважения родственника, и ограничивали беседу с ним одними лаконическими ответами: да-с, нет-с.
– Помилуй, сестра, – говорил Лукерий Павловне братец-дипломат, – я устроил твое счастье, а ты, как безумная, ставишь его вверх дном. Муж тебя любит, но есть мера и терпению. Ну, если бив самом деле маленькая неверность… эка беда!
– О! тогда я убью его, – возражала Лукерия Павловна, – или сама убьюсь.
– Но вы были орудием Его.
– Благодарю за это Бога и буду вечно в молитвах своих благодарить.
– Поэтому вы будете помнить и спасенного вами? – Уж конечно.
– Забудете.
– Никогда!
Это слово было так энергически сказано, как будто бы Катя давала священный обет в роковую минуту жизни. Кажется, более с обеих сторон нельзя сказать: так скоро увлеклись они чувством, которое старались оправдывать предопределением судьбы.
В одно из первых затем посещений Волгина, Катя, заметив, что сосед был очень грустен, сказала ему:
– Знаете ли, я желала бы видеть в своем штате людей веселых, счастливых. А вы… – Катя не докончила.
– Говорите.
– Я только что со школьной скамейки и потому скажу вам с простодушием институтки и участием доброй соседки: на лице вашем вижу часто грусть, которая как будто вас преследует. Вот теперь… признайтесь.
– Следы меланхолического характера… Еще прибавлю – и я буду с вами откровенен, как преданный вам человек – может быть оттого, что я в жизни моей не знал счастья, именно сердечного, душевного счастья. Лучше скажу, я был очень, очень несчастлив. Но как же вы… заметили?
– Видно, у женщин есть для этого особенный инстинкт. Как, отчего, – я вам теперь не растолкую. Когда-нибудь после… с летами, с опытом, хотела я сказать… я до этого дойду.
– А ваш инстинкт отгадает ли, что у меня теперь на сердце, кроме печальных мыслей о прошедшем?
– Теперь?.. Нет, моя премудрость отказывается от этой разгадки.
– Жаль, вы прочли бы в этом сердце надежды на лучшие дни. Может быть, безрассудные надежды! Но все-таки они обольстительны. Не знаю, что сталось бы со мной без них.
Подошел к собеседникам Александр Иваныч, который до этого обрезывал сухие сучья на деревьях, и разговор сделался общим.
С этого времени Волгин и Катя виделись чаще. Видеться, говорить друг с другом сделалось для них потребностью жизни. Уже и отец ее полюбил своего доброго, умного соседа, который умел так хорошо рассказывать о морских сражениях под начальством Чесменского и Ушакова, о Греции, родине предков Горлицыной, где природа так хороша, женщины так похожи на портрет, висевший в спальне Кати. Случалось, Волгин не придет день, другой, и шлют к нему посла: «Приказали-де сказать, соскучились по вам соседи». А иной раз Катя прибавит: «Адмирал велит своему капитану немедленно явиться к нему по делам службы». Иной раз Горлицын увидит, что сосед сидит пригорюнясь у своего окна, и махнет ему рукой, а дочка из-за него покажет свое хорошенькое личико: этого было довольно, чтобы сосед сейчас явился. Ужение подле мельницы, прогулки по реке и в роще, путешествие на богомолье в ближайшие монастыри, по обетам, которые каждый держал при себе – всегда с отцом, иногда с семействами предводителя и Пшеницыных, с которыми приезжий успел познакомиться, сблизили еще более Катю и Волгина. Вместе наслаждались красотами природы, веселились одними удовольствиями, вместе в храме молились и, может быть, об одном и том же. Улицы как будто между ними не существовало: казалось, они жили и засыпали под одной кровлей. Хотя между ними не было произнесено слово любви, оно было уже неоднократно высказано в их глазах, в движениях, в прерванной речи, даже в пожатии руки. Катя любила первой и последней своей любовью; порывы ее страстной души были сдерживаемы только чувством стыдливости и приличия, и правилами, данными ей в институте. Не укрылись от отца взаимные чувства дочери и Волгина; партия для нее была блестящая, какой и во сне ему не снилось. Сначала смотрел Горлицын на любовь их с удовольствием, потом она стала пугать его. Прошло три месяца с того времени, как Волгин жил в Холодне и между тем не делал предложения. Дело его по вводу во владение имением было кончено, однако ж, он не выезжал из города. Раз как-то дал он Горлицыну понять темными, таинственными намеками, что у него есть какие-то обстоятельства, которые еще мешают ему яснее открыться… Чтобы такое было? Отец ломал себе голову над догадками, сердце дочери разрывалось от неизвестности. Родителей у Волгина нет, следственно, он волен располагать своей судьбой. Горлицын подумал, нет ли у него тайной связи, которую он желает разорвать, может быть детей, которых обязан обеспечить. Эта мысль очень тревожила старика, слыхавшего нередко, как человеку, особенно честному и благородному, трудно бывает выпутаться из подобных связей, в которые люди вступают часто без участия сердечного. Еще более встревожился Горлицын, когда стали доходить до него слухи, что в городе кумушки, завистницы и сплетницы начали чесать язычок насчет короткого знакомства соседа и соседки. Бог знает, чего тут не прибрали! Все эти обстоятельства заставили Александра Иваныча держать себя с соседом в отношениях более размеренных. Волгин уже не был приглашаем так дружески; Катю не оставляли с ним одну и даже заметили ей, чтобы она была осторожнее. Катя любила сильно, но вынуждена была признать основательность этих замечаний и с глубокой грустью, с тайными слезами исполнила волю отца.
Волгин не мог не заметить этой перемены. Он разрывался от досады, проклинал свою судьбу и – молчал. Зато погрузился в какую-то ожесточенную деловую переписку, точно заразился страстью майорской дочери Чечеткиной. Знали, что он никому не поручал тайн этой переписки и сам занимался ею; знали, что он не отдавал своих писем и посылок на местную почту, а посылал ее с доверенным человеком в другой ближайший городок и оттуда получал всю корреспонденцию. Таинственность эта возбудила в Холодне еще более толков насчет его и нанесла новое огорчение Горлицыну, который с каждым днем видел, что Катя его делается все грустнее и грустнее. Осень обнажила ее садик, успехи ученика ее Вани не утешали ее более, – все кругом ее приняло мрачный вид.
Что ж могло останавливать влюбленного Волгина просить руки той, в чувствах которой он сам был уверен?
Вот что: все, что о несчастной жизни Волгина сказали его люди старому слуге Горлицына, было справедливо. Об одном они только умолчали, что сумасшедшая жена еще была жива.
II
Лет за десять, с небольшим, до происшествия на описанной нами переправе через Москву-реку, в одном из подмосковных губернских городов, именно на святках, появился блестящий метеор. Это был морской офицер Волгин. Двадцати трех лет, свободный обладатель богатого имения, оставленного ему отцом и матерью, привлекательной наружности, умен, ловок, он в несколько дней сосредоточил на себе все внимание избранного городского общества. Ныне прозвали бы его львом. В то время почли бы такое прозвание слишком низким; мода, а за нею художники, писатели и весь хотя несколько образованный люд, лезли во что бы ни стало на высоты недосягаемые. Зато сами обитатели Олимпа, по велению этой моды, сходили на землю, даже в губернские города России, куда только проникал свет из очагов столиц, роднились с простыми смертными и давали им свои имена и качества. И потому богини-девицы губернского города N с душевным замиранием ждали, не поднесет ли счастливейший из них Парис-Волгин золотого яблока; не одна неутешная Калипсо молила небеса о сердцекрушении юного мореходца у берегов ее очаровательных владений. Не одна маменька, скажу низким слогом, старалась, как можно лучше, скрасить свой живой товар, чтобы сбыть его в такие дорогие руки. У всех у них был один напев мужьям, чтобы употребили все возможные и невозможные средства привлечь в свой дом такого завидного женишка для их единственной дщери или одной из бесчисленных дочек. Во что бы ни стало подай Волгина! За удовольствие иметь его у себя на обеде, вечере, фантах и других святочных увеселениях тогдашнего времени, спорили, как ныне спорят за честь и удовольствие иметь у себя в доме севастопольских героев.
Закружился было Волгин в этих увеселениях. В танцах ему не давали отдыха. В менуэте ? la reine это был настоящий Аполлон по отзыву прекрасного пола. Никто так грациозно не вел своей дамы в польках, не делал в контрадансах таких мудреных антраша и шассе battu. А казачек? Хотя Волгин, по тогдашнему обычаю, исполнял его в башмаках с стразовыми пряжками и шелковых чулках, старики отзывались, что родовитый казак лучше его не пропляшет своего национального танца. То пригласит его мать сделать честь пройтись с ее дочерью, не имевшей еще случая танцевать с таким ловким кавалером и выказать свои таланты, развитые в столице. То очаровательная девица мимоходом бросит на него молнию своих глаз, которая могла бы поднять и мертвого – а в Волгине, казалось, было две жизни – и понесется он в следующем танце с своей очаровательницей. Никого так часто не поднимали со стула в игру сосед и не требовал к себе оракул; ни на кого так горячо не пал жгут в доказательство, что чем сильнее бьешь, тем сильнее любишь. Зато ничьих фантов столько не было, как Волгина, а фанты в то время, большей частью, выкупались бесчисленным счетом поцелуев.
Приезжая к себе с рассветом дня, утомленный, разбитый, Волгин не чувствовал, как слуга раздевал его и укладывал в постель. Только во сне все еще мерещились ему огненные и томные глазки, тоненькие и толстенькие губки, и отдавался в ушах его звук сладких речей. На другой день встанет свеж, здоров, весел, и опять за те же упражнения. Мудрено ль? Он был так молод, не знал за собой горя и не видал его перед собой.
Чаще других посещал молодой моряк дом Сизокрылова, очень значительного лица в губернском городе, и потому чаще, что у этого лица был сын, приятель Волгина. Молодые люди вместе поступили на службу, вместе делали одну морскую кампанию, вместе кутили. Приняв наследство, Волгин поехал в губернский город познакомиться с властями, с которыми имел дела по своим имениям, повеселиться и повидаться с своим бывшим товарищем, вышедшим уже в отставку. Не испытав еще ни измены любви, ни измены дружбы, мало знакомый со светом, он видел во всех людях одни добрые, благородные качества. За молодого же Сизокрылова, умевшего доказать ему свою дружбу многими послугами, готов был, как говорят, на ножи. Напротив того, этот друг, хотя и немного постарше Волгина, но ловкий, пронырливый, перегоревший уже в опытах жизни, с первого раза, как увидал его в своем семействе, схватился за счастливую мысль загнать эту дорогую птичку в расставленные сети. И вот на какую приманку.
У него были три сестры. Старшая, Гликерия, по календарю, и Лукерия, по народному произношению, была красивее и бойчее других. Она танцевала менуэт, как королева французская, пела русские песни, как малиновка. Если б заглянуть в акт ее крещения, можно бы по нем счесть ей двадцать пять лет. Но кто ж пойдет справляться с актами? Наружность и родители давали ей только двадцать лет. В свете это была самая привлекательная из девиц губернского города N. Увы! местные женихи знали, чем она была дома, и потому не посягали на счастье назвать ее своей супругой. По этой-то причине и засиживалась она в девическом состоянии. Младшим сестрам, хотя и не с такими блистательными наружными качествами, но добрым и любезным, представлялись достойные партии, и напрасно. Мать их, женщина неразумная и бестолковая, страстно любившая старшую дочь, баловавшая ее с малолетства, и слышать не хотела, чтобы, помимо ее идола, шли меньшие ее дочери к брачному алтарю. Старшую дочь величала она Лукерьей Павловной, а меньших не иначе называла, как девчонками. Вы думаете, что баловень-дочка платила ей такой же любовью? Нимало. Часто Лукерья Павловна хохотала над своей маменькой, когда та, за неимением бровей, разрисовывала себе неправильно брови так, что одна уходила концом вверх, а другая утлом загибалась на веки; часто прикрикивала на нее, говорила ей в глаза, что она необразованная, степная барыня, а за глаза, при сестрах и домашней прислуге, честила ее даже и дурой. Мать приказывала, а дочка отменяла приказание, не для того, что считала свое распоряжение лучшим, а для того, чтобы поставить на своем. Чего не терпели от нее две Сандрильоны, ее меньшие сестры! Покупка и выбор для них материй на платья, покрой этих платьев, прическа, выезды, даже рукоделья, все что могло радовать и утешать этих бедных жертв, зависело от домашнего властелина, все получалось от каприза или великодушия его. Сестры не могли любить Лукерью Павловну, но боялись ее и льстили ей из надежды щедрых ее милостей. Зато мало уважали мать, которой несправедливое предпочтение любимой дочки возмущало их душу. Властолюбивая, нетерпеливая и вспыльчивая, Лукерья Павловна жестоко обращалась и с своей прислугой. Сколько раз ее ручка оставляла красное пятно на щеке ее горничной! Даже раз удостоилась эта несчастная кровавого возмездия булавкой за то, что, одевая свою барышню, слегка нечаянно уколола ее. Вот какое сокровище готовил молодой Сизокрылов своему другу! Виды были не глупые. Он хотел, во-первых, избавиться от домашнего тирана, под зависимостью которого и сам находился, хотя и в меньшей степени, нежели другие члены семейства; во-вторых – занять место этого властелина и через то свободнее удовлетворять свои страстишки, до сих пор стесняемые контролем сестры. Надо сказать, что и сынок был маменькин баловень, но занимал только второе место в сердце ее и в доме. Пожалуй, удовлетворение этих видов могло принесть пользу меньшим сестрам, которым, вслед за старшей, открывался выход из нерадостного дома родительского. Тогда-то молодой Сизокрылов мог бы распоряжаться своей маменькой, как хотел.
Отец, не мешавшийся ни в какие домашние распоряжения, озабоченный только делами и через них приобретением денег, и ежедневно искавший развлечения от служебных занятий в карточной игре, довольно сильной и счастливой, не знал и не хотел знать, что происходит в его семействе. Он дал, какое мог, воспитание детям; безоговорочно, по требованию жены, выдавал ей деньги на расходы, протягивал каждое утро и каждый вечер свою руку сыну и дочерям для обычного лобызания и уверен был, что выполнением этих обязанностей делает все, что повелевает ему долг отца и главы дома.
Волгину нравилась Лукерья Павловна, пожалуй, немного более других девиц. Ни с кем он так охотно не рисовался в менуэте, как с ней; с удовольствием заслушивался ее соловьиного голоска, наслаждался ее живой, умной болтовней, говорил ей комплименты. Но особенной любви к ней не чувствовал, тем менее думал искать руки ее, несмотря на все старания братца выставить ее в самом привлекательном виде. Со своей стороны, Лукерья Павловна искренно, без расчетов на богатство Волгина, всеми силами души пылкой, необузданной полюбила друга своего брата. Не знав до двадцати пяти лет, что такое любовь к кому-нибудь, лишь только изведала ее, она предалась ей безгранично, с тем увлечением, с каким предавалась своим худым наклонностям. Казалось, любовь преобразовала ее. Ласкаясь к матери, угождая сестрам, особенно внимательная к брату, добрая с прислугой, она как бы хотела вознаградить всех их за прошедшие несправедливости и оскорбления. Все в доме были веселы, счастливы, прислуга крестилась.
Был званый вечер у Сизокрыловых. В этот день любовь придала голосу, речи, всей наружности Лукерий Павловны какое-то особенное очарование. Она действительно была хороша. Моряк ею одной только и занимался.
В одном из антрактов между танцами он стал отыскивать ее в зале и, не найдя, прошел анфиладу комнат, наконец пробрался в какой-то отдаленный уголок дома. Здесь царица этого вечера сидела на диване одна, в глубоком раздумье, опустив голову на грудь, скрестив руки. Восковой огарок слабо освещал комнату. Услышав чьи-то шаги, Лукерия Павловна вздрогнула и подняла голову. Печальный и вместе знойный взгляд ее упал прямо в сердце молодого человека. Волгин не мог ему противиться и сел возле нее. Несколько слов было им сказано с восторгом о том впечатлении, которое она сделала в этот вечер и особенно на него. Отвечала с глубоким вздохом, что если она желала нравиться, так это одному только. Затем дрожащая ручка попала как-то в его руку; он горячо поцеловал ее, еще раз и еще. Как-то нечаянно набрел брат на эти поцелуи. Он показал вид, что ничего не заметил, отворил дверь в соседнюю комнату и закричал: «Чаю мне!» – потом присел к смущенной парочке, будто для того, чтобы помешать повторению слишком нежных сердечных изъяснений. Разговор упал на очень обыкновенные предметы. Но вскоре смычок подал свой призывный голос, и все трое отправились в зал, чтобы снова пуститься в выделывание разных затейливых фигур и па, строго предписываемых в тогдашнее время законами моды.
Когда разъехались гости, молодой Сизокрылов зазвал к себе в свое холостое отделение Волгина вместе с близким своим родственником, тоже молодым человеком. Надо было ковать железо, пока оно было горячо. Подали вина; хозяин не жалел его. Пошли горячие изъяснения дружбы. Волгин, отуманенный напитками и еще свежими сладкими воспоминаниями, провозгласил тост: «Нынешнего вечера царице и хорошенькой сестрице!»
– Послушай, брат, – сказал Сизокрылов, – мы с тобой друзья; я это, кажется, доказывал тебе не раз на деле. Но есть шутки, которых и дружба не терпит равнодушно.
– Я не шучу, – отвечал с горячностью Волгин.
– Надеюсь, и поцелуями, на которых я давича застал тебя. Зашел, брат, далеконько!.. Добро б еще к случаю, при многих, а то наедине, в дальней комнате… ты не знал, что это спальня Луши (он лгал); ты не знал, что подле чайная комната и люди видели все из нее… Теперь при постороннем, хотя и моем родственнике, ты вздумал хвастаться тостом за здоровье хорошенькой!.. Ваня, я этого не ожидал от тебя…
И Сизокрылов закрыл себе глаза руками.
– О! когда так, зови сейчас сюда свою сестру. Я никогда не делал неблагородных дел и это докажу. Говорю тебе, проси сюда с отцом и матерью… Я повторю при них.
– Сюда?
– Воля твоя, у меня ноги подкашиваются, и я не в силах взойти наверх.
– Послушай, опомнись, не вино ли говорит в тебе?
– Вино?.. Смотри, брат, есть границы и для дружбы, ты сам сказал.
– Когда так, видно на то воля Божья! Иду, но прежде, друг и брат, сюда к сердцу, которое предаю тебе на жизнь и смерть.
Приятели горячо обнялись, и Сизокрылов, боясь, чтобы слово, в чаду опьянения, не выдохлось скоро, отправился радостным вестником на половину своих родителей. Третье лицо, пировавшее с ними, заключило также в свои объятия будущего своего родственника.
Упавшая с неба манна или груда золота не могла бы так изумить и обрадовать стариков Сизокрыловых и любимую дочку, как неожиданная весть, принесенная им дипломатом-сынком. Несмотря на странность вызова по такому важному случаю, в пять часов утра, в отделение молодого Сизокрылова, отец, мать и Лукерья Павловна, в чем их застала эта весть, один без парика и галстука, другая с остатком брови, третья в интересном беспорядке, поспешили исполнить волю дорогого жениха. При появлении их в комнату, где недавно оргия была в разгаре, где не успели еще прибрать бутылок и бокалов, предложение Волгина было повторено и запечатлено поцелуем жениха и невесты. Нашли еще нужным, чтобы до настоящего обручения они поменялись кольцами, которые случились у них на руках. Это делалось будто в силу какого-то древнего поверья, а скорее для того, чтобы Волгин не забыл, проснувшись, что он жених. При пожелании счастья будущей чете, вспрыснули их шампанским. Требовалось подсластить вино, и Волгин в восторге целовал без счета свою нареченную, упоенную также своим неожиданным счастьем. Расстались все довольны. Молодой Сизокрылов отвез своего приятеля на его квартиру, уложил сам в постель и щедро одарил людей его, не забыв прибавить, что это делается от имени невесты, Лукерии Павловны.
В полдень проснулся Волгин, разбитый, с отяжелевшей головой, сердитый, смутно помня роковое событие утра, как будто виденное во сне. Но удостоверили его в этом событии поздравления слуг и незнакомое кольцо, сиявшее на его руке.
Воротить прошедшего было уж невозможно, и через две недели состоялась свадьба.
Хотя Волгин о приданом и не спрашивал, молодая принесла ему в свадебной корзине слишком сто душ, много серебра и все другие предметы роскоши, которые в подобных случаях отпускаются с дочкой богатыми и нежными родителями. Замечено однако ж было, что в числе женской прислуги, вошедшей в роспись приданого, по собственному выбору Лукерии Павловны, отпущены такие личности, которые не награждены были от природы очень хорошеньким личиком.
Казалось, ангел-хранитель молодой четы уберег медовый месяц их от всяких неприятностей. Счастливой, влюбленной парочке завидовали. Волгину не было причин раскаиваться в браке, так нечаянно, экспромптом состряпанном, и он не каялся. Он полюбил жену искренно. Но вскоре начали обнаруживаться в ней вспышки ревности. В первые месяцы несколько сдержанные новостью положения и приличием, он в последующие стали развиваться. Иногда, без всякого повода, Лукерья Павловна умоляла мужа, чтобы он клялся ей в вечной любви и верности. Это сначала смешило его. Видя в этих просьбах только порывы сильной к нему привязанности, он исполнял ее желания, но замечал притом жене, что если благородный, с твердыми правилами, человек раз дал клятву при алтаре Божьем верно любить свою жену, так новые обеты совершенно лишни; ветреного же мужчину и клятвы не удержат. Повторение этих просьб стало надоедать Волгину. Иногда супруга надуется на него, не говорит с ним по нескольку часов. За что? за то, что он вел несколько живой разговор с хорошенькой дамой или девицей. Случалось даже, что Лукерья Павловна наговорит колкостей этой даме или девице. Терпеть эти оскорбления никто не находил нужным. Замужние женщины платили ей той же монетой, за девиц заступались матери, и от этих ссор выходили неблаговидные истории, падавшие всем бременем своим на голову бедного Волгина. Дом молодых супругов стал понемногу пустеть; вследствие того и выезды их сделались реже. Волгин любил танцевать. Ему посоветовали, а потом потребовали, чтобы он не танцевал более, потому что мужчина, посвятив себя раз избранной им женщине, не должен находить удовольствие ни в чем с другой. И это требование вынужден был исполнить, не по слабости характера, а для того только, чтобы избегнуть домашних ссор или гласного оскорбления, на которое жена, забыв всякий стыд, не раз покушалась. Даже сестры получали от нее обидные выговоры за то, что осмелились слишком любезно говорить с ее мужем. И сестры ограждали себя холодными отношениями к человеку, которого любили, как достойного всякого уважения родственника, и ограничивали беседу с ним одними лаконическими ответами: да-с, нет-с.
– Помилуй, сестра, – говорил Лукерий Павловне братец-дипломат, – я устроил твое счастье, а ты, как безумная, ставишь его вверх дном. Муж тебя любит, но есть мера и терпению. Ну, если бив самом деле маленькая неверность… эка беда!
– О! тогда я убью его, – возражала Лукерия Павловна, – или сама убьюсь.
Другие электронные книги автора Иван Иванович Лажечников
Басурман




 0
0
Окопировался




 4.67
4.67