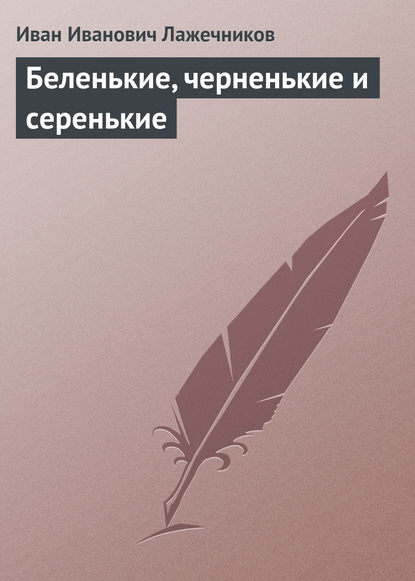По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Беленькие, черненькие и серенькие
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда с сосной поравнялась кибитка, в которой ехала Прасковья Михайловна с двумя сокровищами – сыном и богатым подарком свекра, уж начинало темнеть. Предметы стали сливаться; только одинокое дерево в своей черной, мохнатой шапке господствовало над снежною равниной. Ветер наигрывал в его сучьях какую-то заунывную мелодию и взметал около него снежный круг. Показалась деревня Теряевка. Вся она из четырех, пяти дворов, без улицы. Избы наподобие свиных клетухов, солома на крышах взъерошенная, как волосы у пьяного мужика, кругом поваленные и прорванные плетни, дворы без покрышки – все это худо говорило о довольстве и нравственности жителей. Сквозь маленькие окна, заткнутые кое-где грязными тряпицами, заморгали подслеповатые огоньки. Ветер колотил по крышам не утвержденные на них жерди. Одно имя Теряевки звучит недобрым смыслом, и недаром: сюда переселены были из каких-то дальних поместий избранные негодяи; ввиду – деревня Волчьи Ворота, где не один прохожий и проезжий потерял свое добро и свою голову. Сделалась темь, только что чертям за волосы драться. У крайней избы, вросшей в землю, послышался какой-то зловещий свист. Этому свисту отвечали далеко впереди. Сердце дрогнуло и сильнее забилось у ямщика, Ларивона и молодой купчихи. Ямщик толкнул слугу и стал с ним перешептываться, слуга взглянул на госпожу свою. Ваня спал крепким сном возле матери. Тут вспомнила Прасковья Михайловна слова свекра и поздно раскаялась, что не послушалась его совета ночевать в Люберцах. Лишиться такой важной суммы, какую она везла, может быть, видеть, как зарежут сына ее, и умереть самой во цвете лет, с такими блестящими надеждами, под ножом разбойника… – подумала она, и вся кровь ее прилила к сердцу.
– Голубчик, Ларивон, худо? – спросила она, – не воротиться ли назад?
– Что назад! – перехватил ямщик. – До Островцов рукой подать, а назад до первой деревни добрых пять верст. Не ночевать же в разбойничьей Теряевке!
– Сотворите крестное знамение, барыня, – сказал Ларивон, – Бог милостив. У меня мушкетон, а в случае нужды на подмогу топор.
– Дай мне топор, – сказала она.
– Пожалуй, да что вы с ним сделаете?
– Что смогу.
Она приняла тяжелое орудие, но не могла сдержать его и положила возле себя. Ларивон, осмотрев мушкетон, посыпал пороху на полку из патрона, который вынул из-за пазухи.
Ямщик поехал шагом… Как будто в лад общему настроению, и колокольчик робко зазвенел.
– Пошел! – закричала молодая женщина, – ты уж с ними не заодно ль? Первому тебе этот топор.
– Не мешай, барыня, – отвечал сердито ямщик, выхватил из кибитки топор и положил его в свое сиденье, – не твое дело. Разбуди-ка лучше дитя, чтобы не испугался.
Потом снял шапку, перекрестился и промолвил:
– С крестом худых дел не делают.
Мать, невольно повинуясь ямщику, разбудила ребенка.
– А что, приехали? – спросил Ваня, встрепенувшись и протирая глаза.
– Нет еще, а близко… услышишь, может, крик… не пугайся… это ямщик хочет вперегонку с знакомым ямщиком.
– Где ж, мама?
– Впереди, голубчик, тебе не видать за лошадьми.
Продолжали ехать шагом… колокольчик нет-нет звякнет, да и застонет… Уж чернел мост в овраге; на конце его что-то шевелилось… За мостом – горка, далее мрачный лес; в него надо было въезжать через какие-то ворота: их образовали встретившиеся с двух сторон ветви нескольких вековых сосен. Мать левою рукою прижала к себе сына, правою сотворила опять крестное знамение.
– Теперь держитесь крепко, – сказал ямщик и гаркнул изо всей мочи: – Эй! соколики! выручайте, грабят!..
В голосе его было что-то дикое, отчаянное; казалось, лес вздрогнул от этого крика и повторил его в бесчисленных перекатах. Лошади, и без принуждения привыкшие выносить в гору так, что не было еще человека, который мог бы удержать их на подобных выносах, рванулись и помчались, будто бешеные. Что-то крякнуло на мосту, полетели куски жерди, которою он был загорожен, кто-то застонал… порвалась бранная речь, перехваченная ветром… Все эти звуки следовали один за другим по мгновениям ока так, что чуткое ухо сидевших в кибитке, ловившее малейший признак опасности, могло смутно различить их. Кибитка взлетела на горку и понеслась будто по воздуху. Между тем что-то ударило в волчок кибитки и раздробило его верхушку, послышался ружейный выстрел… Ваня закричал и прижался к матери. Разъяренных коней не могли удержать ближе Островцрв.
В деревне отрадно забегали со всех сторон огоньки в фонарях и обступили кибитку; послышались ласковые голоса, приглашавшие проезжих переночевать и обольщавшие ямщика и дешевым кормом, и крупчатыми папушниками с липовым медом. Он угрюмо молчал и въехал в знакомый постоялый двор. Пар от лошадей застлал двор.
Кибитка подъехала к чистому крылечку, устланному соломой. На нем старушка с добродушным лицом встретила приезжих и осветила им дорогу фонарем. Горенка, в которую они вошли, напитанная смоляным запахом от стен только перелетовавших, была чистая и теплая; свет от лампады, теплившейся перед иконами, обдал их каким-то благодатным чувством. Первым делом Прасковьи Михайловны было броситься на колени и со слезами благодарить Господа за спасение ее с сыном; Ваня сделал то же по ее приказанию. Она была бледна, наскоро оправилась и за самоваром почти забыла только что минувшую беду.
Вошел ямщик, сердитый, угрюмый, почесал голову и с досадой бросил свою шапку на залавок.
– Ну, барыня, – сказал он, – крепко обидела ты меня… поусумнилась во мне…
– Прости мне, голубчик мой, – перебила Прасковья Михайловна, – не в своем разуме была… сам посуди, возле меня дитя… один только и есть… ведь и у тебя, чай, дети.
И слезы помутили глаза молодой женщины.
– Кабы не этот мальчуган, не бессудь – закаялся бы во веки веков возить тебя по дорогам. Ну, да ты добрая барыня (тут ямщик махнул рукой); на тебя и зла нет!.. А все-таки лошадок полечить надо, да и мне не худо отвесть душу.
Прасковья Михайловна вынула из кошелька, висевшего у ней на груди, два империала из Ваниных денег и отдала ямщику. Мальчик знал, что эти деньги ему подарены, и весело смотрел, как отдавали их.
– А что лошадки, не больно ли ушиблись? – спросила она.
– Благо разбойничья жердь пришла в упор хомутам… царапины есть на всех, одна похрамывает, да Бог не без милости!.. А коли зачахнут, знаю, не обидишь меня. Пшеницыны по Холодне первые люди, а ты краля холодненская.
– Вот тебе Господь свидетель (и она указала на образ), если случится беда какая, приходи ко мне прямо… я поставлю тебе тройку таких же лихих лошадей. А для чего вырвал ты у меня топор? – прибавила Прасковья Михайловна.
– Неравно померещилась бы тебе невесть какая напасть… у страха глаза велики, бес лукав… да пришла бы тебе блажь хватить меня топором. Убить бы не убила… где тебе!.. а шкуру бы попортила. Вот тут уж разбойнички сделали бы свое дело.
Расхохоталась молодая женщина, и мир был заключен.
В Островцах она давала как-то в долг богатому мужику на свадьбу двадцать пять рублей. Обещался отдать через неделю; божился всеми угодниками, клялся и детьми и утробой своей. Прошло месяца два. Теперь был случай получить деньги. Но много труда и ходьбы взад и вперед стоило Ларивону, чтобы вытянуть эти деньги. Да и тут должник, отдавая их Прасковье Михайловне, вместо благодарности, почесал себе голову и примолвил: «А что ж, барыня? надо бы на водку».
Приехали в Холодню, в старый, бедный домик. Казалось, после поездки в Москву он сделался еще древнее и сумрачнее, еще более наросло на него моху, который выступил из-под снега, уже много сбежавшего. Но вскоре возвратился из своих странствований Максим Ильич. Свидание молодых супругов было самое нежное. Прасковья Михайловна рассказала мужу, с каким успехом съездила она в Москву и какому страху подвергалась на возвратном пути в Волчьих Воротах. В свою очередь, муж рассказал ей, как за несколько лет тому назад, в плавание его с караваном судов по Волге, в Кос – ой губернии, напала на него шайка разбойников, а атаманом у них был князь К – ий. Этот князь имел дом, в виде замка с башнями, на берегу реки, и занимался с своею дворнею грабежом проходящих судов. Молодой Пшеницын отделался от него страхом и несколькими сотнями рублей[3 - Сам внук князя К – аго, молодой человек, очень образованный, подтвердил мне все это в 1836 году.].
Место под новый дом тотчас было куплено, спешно началась заготовка под него материалов. Оно занимало почти целый квартал и выходило на три улицы. Было где разгуляться капиталам Ильи Максимовича! Закипела работа, и в марте потянулись к пустырю целые обозы с лесом, камнем и кирпичом; застучали сотни топоров, ломы начали шевелить остов одряхлевшего, давно не обитаемого дома; с писком и криком высыпали из него стаи встревоженных нетопырей и галок. Эта постройка составила важную эпоху в городе, едва ли не равную с построением кремля. Толпы народа ходили глазеть на нее, как на необыкновенное зрелище. Каждый толковал о ней по-своему; домостроительным фантазиям этих прожектеров не было конца. Иной возводил здание едва ли не с Ивана Великого, другой вытягивал его сплошь на все три улица. С этого времени жители еще ниже кланялись семейству Пшеницыных. Но добрый Максим Ильич не переменился к своим согражданам: был так же ласков и общителен с ними, как и прежде всегда. Только, не знаю почему, стал на ты с властями, которые с ним были на ты, хотя и прежде не унижался перед ними, но не выходил из церемониального вы. Странно, и власти не обижались этой переменой, водворявшею равенство между дворянином и купцом.
Между тем родители Вани вспомнили, что пора ему приняться за учение. Приходский священник взялся за это дело, и вскоре обрадовал отца и мать, что ученик прошел без наказания букварь в один месяц, когда он сам в детстве употреблял на это целый год с неоднократными побуждениями лозы.
В Холодне, кроме тревожной постройки дома Пшеницыных, ничто не изменяло мертвой тишины города. По-прежнему нарушалась эта тишина мерными ударами валька по мокрому белью и гоготанием гусей на речке; по-прежнему били на бойнях тысячи длиннорогих волов, солили мясо, топили сало, выделывали кожи и отправляли все это в Англию; по-прежнему, в базарные дни, среди атмосферы, пропитанной сильным запахом дегтя, скрипели на рынках сотни возов с сельскими продуктами и изделиями, и меж ними сновали, обнимались и дрались пьяные мужики. По воскресным дням толпы отчаливали к городскому кладбищу, чтобы полюбоваться на земле покойников очень живыми кулачными боями. Пузатые купцы, как и прежде, после чаепития упражнялись в своих торговых делах, в полдень ели редьку, хлебали деревянными или оловянными ложками щи, на которых плавало по вершку сала, и уписывали гречневую кашу пополам с маслом. После обеда, вместо кейфа, беседовали немного с высшими силами, т. е. пускали к небу из воронки рта струи воздуха, потом погружались в сон праведных. Выбравшись из-под тулупа и с лона трехэтажных перин, а иногда с войлока на огненной лежанке, будто из банного пара, в несколько приемов осушали по жбану пива, только что принесенного со льду; опять кейфовали, немного погодя принимались за самовар в бочонок, потом за ужин с редькой, щами и кашей, и опять утопали в лоне трехэтажных перин. Как видите, жизнь патриархальная! Немногие избранники отступали от нее. Книжки в доме ни одной, разве какой-нибудь отщепенец-сынок, от которого родители не ожидали проку, тайком от них, где-нибудь на сеннике, теребил по складам замасленный песенник или сказки про Илью Муромца и Бову Королевича. Ныне уж не то: мотишка-сынок, тайком от отца, читает «Вечного жида», курит дорогие сигары и пьет напропалую шампанское.
Прекрасный пол в Холодне имел тоже свои умилительные забавы. Купчихи езжали друг к другу в гости. Посещения эти начинались киванием головы, как у глиняных кошечек, когда их раскачивают, и прикладыванием уст к устам. Затем усаживались чинно, словно немые гости на наших театральных подмостках; следовали угощения на двадцати очередных тарелках с вареньями, пастилою и орехами разных пород. При этом неминуемо соблюдалась китайская церемония бесчисленных отказов и неотступного потчивания с поклонами и просьбою понудитъся. Кукольная беседа нарушалась только пощелкиванием орешков и оканчивалась такими же китайскими церемониями, с прошением впредь жаловать и не бессудить на угощение. И возвращались гостьи домой, довольные, что видели новые лица, подышали на улице свежим воздухом и свободой!
Надо оговорить, к чести граждан, что чистота нравов, несмотря на грубую оболочку, крепко соблюдалась между ними. Хлебосольством искони славился город. Когда стояли в нем полки, мундиры у солдат, через несколько месяцев, делались узки, и считалось обидой для зажиточного хозяина, если постоялец его офицер держал свой чай и свой стол.
В городе ни одного трактира. Они появились только незадолго до двенадцатого года. Да и то купеческие детки, даже сначала мещанские, ходили в них тайком, перелезая через заборы и пробираясь задними лестницами, под страхом телесного наказания или проклятия отцовского. С того времени ни одна отрасль промышленности не сделала у нас такого шибкого успеха, и вы теперь не только в Холодне, но и по дороге к ней от Москвы, почти в каждой деревне, найдете дом под вывескою елки, трактир и харчевню.
Случались, однако ж, в городе важные происшествия, возмущавшие спокойствие целого населения. То появлялся оборотень, который по ночам бегал в виде огромной свиньи, ранил и обдирал клыками прохожих; то судья в нетрезвом виде въезжал верхом на лошади и без приключений съезжал по лесам строившегося двухэтажного дома; то зарезывался казначей, обворовавший казначейство. Полицейские личности в городе были то смирные, то сердитые; большей частью их отличали не по уму и честности, а по степени огня в крови; но, во всяком случае, они приходились по городу, как домовой, по народному поверью, всегда люб во всяком жилье, хотя бы и проказничал над своими жильцами. Администрация и суд творились в духе патриархальном, без большого поощрения бумажной фабрикации. Дела, по обыкновению, делались через секретарей. Подьячие довольствовались малым и брали больше за исполнение, нежели за обещания, жили умеренно, экипажей и лошадей не знавали, жен и любимиц своих не одевали, как богатых барынь, и не прикасались устами к струям шипучей ипокрены, хотя и можно было дешево черпать из нее на Арбате под вывеской: здесь делают самое лучшее шампанское. В Холодне не сказали бы того, что я слышал лет десять тому назад в одном уездном городе от продавца вин, у которого спрашивал шампанского: «А что, батюшка, будем мы делать, когда вдова Клико помрет?» Пили, правда, много, очень много, но с патриотизмом – все свое доморощенное: целебные настойки под именами великих россиян, обессмертивших себя сочинением этих питий наравне с изобретателями железных дорог и электрических телеграфов, и наливки разных цветов по теням ягод, начиная от янтарного до темно-фиолетового.
Были однако ж в городе замечательные личности, и мы обязаны посвятить им особенную тетрадь.
Весна дохнула на землю своим теплом и благоуханием, накинула зеленую сетку на рощи, ковры на луга, заговорила лепетом своих ручьев и шумною речью своих водопадов, запела песнями любви и свободы своих крылатых гостей. Пришло и лето. Ваня, в сопровождении Ларивона, посетил прежние любимые места свои; по-прежнему отзывалось в его сердце сердечное биение природы. Но не так часто уж гулял он: Ваня полюбил книгу.
Между тем дом Пшеницына рос не по дням, а по часам. Из ветхого каменного здания между тем сколотили домик, на который надстроили деревянный этаж Верхний должен был служить для временного житья самих владельцев, нижний назначался для служб. Флигель этот с выведенным уже вчерне большим каменным двухэтажным домом, соединили галереей на арке. В нижнем этаже этого дома устроили с одной стороны две огромные кладовые, а с другой – две большие комнаты: одну для залы, а другую для Вани. Пшеницыны хотели переезжать на новое жилище, когда получили с нарочным известие, что Илья Максимович умирает.
Застали еще старика при последних минутах. Он успел только благословить сыновей своих, невесток и внучек. Похороны были великолепные; два дня таскали из кладовой мешки с медной монетой, которую раздавали нищим, запрудившим улицу. Раздел между сыновьями совершился полюбовно, как сделали бы его промеж себя Орест и Пилад. Что хотелось одному, того не желал другой. Женщину, бывшую при старике и не носившую названия своей должности, выпроводили со двора без уважения, но и без обиды, со всем ее скарбом.
Потянулся в Холодню обоз с сундуками, из которых несколько было с «Божьим милосердием», как называет русский человек иконы – самое дорогое свое достояние; другие – с разным движимым имуществом. Все это едва могло уместиться в двух кладовых. И сами владельцы этого богатства, тотчас по приезде в Холодню, переселились на новое жилище.
Тетрадь II
Замечательные городские личности
– Голубчик, Ларивон, худо? – спросила она, – не воротиться ли назад?
– Что назад! – перехватил ямщик. – До Островцов рукой подать, а назад до первой деревни добрых пять верст. Не ночевать же в разбойничьей Теряевке!
– Сотворите крестное знамение, барыня, – сказал Ларивон, – Бог милостив. У меня мушкетон, а в случае нужды на подмогу топор.
– Дай мне топор, – сказала она.
– Пожалуй, да что вы с ним сделаете?
– Что смогу.
Она приняла тяжелое орудие, но не могла сдержать его и положила возле себя. Ларивон, осмотрев мушкетон, посыпал пороху на полку из патрона, который вынул из-за пазухи.
Ямщик поехал шагом… Как будто в лад общему настроению, и колокольчик робко зазвенел.
– Пошел! – закричала молодая женщина, – ты уж с ними не заодно ль? Первому тебе этот топор.
– Не мешай, барыня, – отвечал сердито ямщик, выхватил из кибитки топор и положил его в свое сиденье, – не твое дело. Разбуди-ка лучше дитя, чтобы не испугался.
Потом снял шапку, перекрестился и промолвил:
– С крестом худых дел не делают.
Мать, невольно повинуясь ямщику, разбудила ребенка.
– А что, приехали? – спросил Ваня, встрепенувшись и протирая глаза.
– Нет еще, а близко… услышишь, может, крик… не пугайся… это ямщик хочет вперегонку с знакомым ямщиком.
– Где ж, мама?
– Впереди, голубчик, тебе не видать за лошадьми.
Продолжали ехать шагом… колокольчик нет-нет звякнет, да и застонет… Уж чернел мост в овраге; на конце его что-то шевелилось… За мостом – горка, далее мрачный лес; в него надо было въезжать через какие-то ворота: их образовали встретившиеся с двух сторон ветви нескольких вековых сосен. Мать левою рукою прижала к себе сына, правою сотворила опять крестное знамение.
– Теперь держитесь крепко, – сказал ямщик и гаркнул изо всей мочи: – Эй! соколики! выручайте, грабят!..
В голосе его было что-то дикое, отчаянное; казалось, лес вздрогнул от этого крика и повторил его в бесчисленных перекатах. Лошади, и без принуждения привыкшие выносить в гору так, что не было еще человека, который мог бы удержать их на подобных выносах, рванулись и помчались, будто бешеные. Что-то крякнуло на мосту, полетели куски жерди, которою он был загорожен, кто-то застонал… порвалась бранная речь, перехваченная ветром… Все эти звуки следовали один за другим по мгновениям ока так, что чуткое ухо сидевших в кибитке, ловившее малейший признак опасности, могло смутно различить их. Кибитка взлетела на горку и понеслась будто по воздуху. Между тем что-то ударило в волчок кибитки и раздробило его верхушку, послышался ружейный выстрел… Ваня закричал и прижался к матери. Разъяренных коней не могли удержать ближе Островцрв.
В деревне отрадно забегали со всех сторон огоньки в фонарях и обступили кибитку; послышались ласковые голоса, приглашавшие проезжих переночевать и обольщавшие ямщика и дешевым кормом, и крупчатыми папушниками с липовым медом. Он угрюмо молчал и въехал в знакомый постоялый двор. Пар от лошадей застлал двор.
Кибитка подъехала к чистому крылечку, устланному соломой. На нем старушка с добродушным лицом встретила приезжих и осветила им дорогу фонарем. Горенка, в которую они вошли, напитанная смоляным запахом от стен только перелетовавших, была чистая и теплая; свет от лампады, теплившейся перед иконами, обдал их каким-то благодатным чувством. Первым делом Прасковьи Михайловны было броситься на колени и со слезами благодарить Господа за спасение ее с сыном; Ваня сделал то же по ее приказанию. Она была бледна, наскоро оправилась и за самоваром почти забыла только что минувшую беду.
Вошел ямщик, сердитый, угрюмый, почесал голову и с досадой бросил свою шапку на залавок.
– Ну, барыня, – сказал он, – крепко обидела ты меня… поусумнилась во мне…
– Прости мне, голубчик мой, – перебила Прасковья Михайловна, – не в своем разуме была… сам посуди, возле меня дитя… один только и есть… ведь и у тебя, чай, дети.
И слезы помутили глаза молодой женщины.
– Кабы не этот мальчуган, не бессудь – закаялся бы во веки веков возить тебя по дорогам. Ну, да ты добрая барыня (тут ямщик махнул рукой); на тебя и зла нет!.. А все-таки лошадок полечить надо, да и мне не худо отвесть душу.
Прасковья Михайловна вынула из кошелька, висевшего у ней на груди, два империала из Ваниных денег и отдала ямщику. Мальчик знал, что эти деньги ему подарены, и весело смотрел, как отдавали их.
– А что лошадки, не больно ли ушиблись? – спросила она.
– Благо разбойничья жердь пришла в упор хомутам… царапины есть на всех, одна похрамывает, да Бог не без милости!.. А коли зачахнут, знаю, не обидишь меня. Пшеницыны по Холодне первые люди, а ты краля холодненская.
– Вот тебе Господь свидетель (и она указала на образ), если случится беда какая, приходи ко мне прямо… я поставлю тебе тройку таких же лихих лошадей. А для чего вырвал ты у меня топор? – прибавила Прасковья Михайловна.
– Неравно померещилась бы тебе невесть какая напасть… у страха глаза велики, бес лукав… да пришла бы тебе блажь хватить меня топором. Убить бы не убила… где тебе!.. а шкуру бы попортила. Вот тут уж разбойнички сделали бы свое дело.
Расхохоталась молодая женщина, и мир был заключен.
В Островцах она давала как-то в долг богатому мужику на свадьбу двадцать пять рублей. Обещался отдать через неделю; божился всеми угодниками, клялся и детьми и утробой своей. Прошло месяца два. Теперь был случай получить деньги. Но много труда и ходьбы взад и вперед стоило Ларивону, чтобы вытянуть эти деньги. Да и тут должник, отдавая их Прасковье Михайловне, вместо благодарности, почесал себе голову и примолвил: «А что ж, барыня? надо бы на водку».
Приехали в Холодню, в старый, бедный домик. Казалось, после поездки в Москву он сделался еще древнее и сумрачнее, еще более наросло на него моху, который выступил из-под снега, уже много сбежавшего. Но вскоре возвратился из своих странствований Максим Ильич. Свидание молодых супругов было самое нежное. Прасковья Михайловна рассказала мужу, с каким успехом съездила она в Москву и какому страху подвергалась на возвратном пути в Волчьих Воротах. В свою очередь, муж рассказал ей, как за несколько лет тому назад, в плавание его с караваном судов по Волге, в Кос – ой губернии, напала на него шайка разбойников, а атаманом у них был князь К – ий. Этот князь имел дом, в виде замка с башнями, на берегу реки, и занимался с своею дворнею грабежом проходящих судов. Молодой Пшеницын отделался от него страхом и несколькими сотнями рублей[3 - Сам внук князя К – аго, молодой человек, очень образованный, подтвердил мне все это в 1836 году.].
Место под новый дом тотчас было куплено, спешно началась заготовка под него материалов. Оно занимало почти целый квартал и выходило на три улицы. Было где разгуляться капиталам Ильи Максимовича! Закипела работа, и в марте потянулись к пустырю целые обозы с лесом, камнем и кирпичом; застучали сотни топоров, ломы начали шевелить остов одряхлевшего, давно не обитаемого дома; с писком и криком высыпали из него стаи встревоженных нетопырей и галок. Эта постройка составила важную эпоху в городе, едва ли не равную с построением кремля. Толпы народа ходили глазеть на нее, как на необыкновенное зрелище. Каждый толковал о ней по-своему; домостроительным фантазиям этих прожектеров не было конца. Иной возводил здание едва ли не с Ивана Великого, другой вытягивал его сплошь на все три улица. С этого времени жители еще ниже кланялись семейству Пшеницыных. Но добрый Максим Ильич не переменился к своим согражданам: был так же ласков и общителен с ними, как и прежде всегда. Только, не знаю почему, стал на ты с властями, которые с ним были на ты, хотя и прежде не унижался перед ними, но не выходил из церемониального вы. Странно, и власти не обижались этой переменой, водворявшею равенство между дворянином и купцом.
Между тем родители Вани вспомнили, что пора ему приняться за учение. Приходский священник взялся за это дело, и вскоре обрадовал отца и мать, что ученик прошел без наказания букварь в один месяц, когда он сам в детстве употреблял на это целый год с неоднократными побуждениями лозы.
В Холодне, кроме тревожной постройки дома Пшеницыных, ничто не изменяло мертвой тишины города. По-прежнему нарушалась эта тишина мерными ударами валька по мокрому белью и гоготанием гусей на речке; по-прежнему били на бойнях тысячи длиннорогих волов, солили мясо, топили сало, выделывали кожи и отправляли все это в Англию; по-прежнему, в базарные дни, среди атмосферы, пропитанной сильным запахом дегтя, скрипели на рынках сотни возов с сельскими продуктами и изделиями, и меж ними сновали, обнимались и дрались пьяные мужики. По воскресным дням толпы отчаливали к городскому кладбищу, чтобы полюбоваться на земле покойников очень живыми кулачными боями. Пузатые купцы, как и прежде, после чаепития упражнялись в своих торговых делах, в полдень ели редьку, хлебали деревянными или оловянными ложками щи, на которых плавало по вершку сала, и уписывали гречневую кашу пополам с маслом. После обеда, вместо кейфа, беседовали немного с высшими силами, т. е. пускали к небу из воронки рта струи воздуха, потом погружались в сон праведных. Выбравшись из-под тулупа и с лона трехэтажных перин, а иногда с войлока на огненной лежанке, будто из банного пара, в несколько приемов осушали по жбану пива, только что принесенного со льду; опять кейфовали, немного погодя принимались за самовар в бочонок, потом за ужин с редькой, щами и кашей, и опять утопали в лоне трехэтажных перин. Как видите, жизнь патриархальная! Немногие избранники отступали от нее. Книжки в доме ни одной, разве какой-нибудь отщепенец-сынок, от которого родители не ожидали проку, тайком от них, где-нибудь на сеннике, теребил по складам замасленный песенник или сказки про Илью Муромца и Бову Королевича. Ныне уж не то: мотишка-сынок, тайком от отца, читает «Вечного жида», курит дорогие сигары и пьет напропалую шампанское.
Прекрасный пол в Холодне имел тоже свои умилительные забавы. Купчихи езжали друг к другу в гости. Посещения эти начинались киванием головы, как у глиняных кошечек, когда их раскачивают, и прикладыванием уст к устам. Затем усаживались чинно, словно немые гости на наших театральных подмостках; следовали угощения на двадцати очередных тарелках с вареньями, пастилою и орехами разных пород. При этом неминуемо соблюдалась китайская церемония бесчисленных отказов и неотступного потчивания с поклонами и просьбою понудитъся. Кукольная беседа нарушалась только пощелкиванием орешков и оканчивалась такими же китайскими церемониями, с прошением впредь жаловать и не бессудить на угощение. И возвращались гостьи домой, довольные, что видели новые лица, подышали на улице свежим воздухом и свободой!
Надо оговорить, к чести граждан, что чистота нравов, несмотря на грубую оболочку, крепко соблюдалась между ними. Хлебосольством искони славился город. Когда стояли в нем полки, мундиры у солдат, через несколько месяцев, делались узки, и считалось обидой для зажиточного хозяина, если постоялец его офицер держал свой чай и свой стол.
В городе ни одного трактира. Они появились только незадолго до двенадцатого года. Да и то купеческие детки, даже сначала мещанские, ходили в них тайком, перелезая через заборы и пробираясь задними лестницами, под страхом телесного наказания или проклятия отцовского. С того времени ни одна отрасль промышленности не сделала у нас такого шибкого успеха, и вы теперь не только в Холодне, но и по дороге к ней от Москвы, почти в каждой деревне, найдете дом под вывескою елки, трактир и харчевню.
Случались, однако ж, в городе важные происшествия, возмущавшие спокойствие целого населения. То появлялся оборотень, который по ночам бегал в виде огромной свиньи, ранил и обдирал клыками прохожих; то судья в нетрезвом виде въезжал верхом на лошади и без приключений съезжал по лесам строившегося двухэтажного дома; то зарезывался казначей, обворовавший казначейство. Полицейские личности в городе были то смирные, то сердитые; большей частью их отличали не по уму и честности, а по степени огня в крови; но, во всяком случае, они приходились по городу, как домовой, по народному поверью, всегда люб во всяком жилье, хотя бы и проказничал над своими жильцами. Администрация и суд творились в духе патриархальном, без большого поощрения бумажной фабрикации. Дела, по обыкновению, делались через секретарей. Подьячие довольствовались малым и брали больше за исполнение, нежели за обещания, жили умеренно, экипажей и лошадей не знавали, жен и любимиц своих не одевали, как богатых барынь, и не прикасались устами к струям шипучей ипокрены, хотя и можно было дешево черпать из нее на Арбате под вывеской: здесь делают самое лучшее шампанское. В Холодне не сказали бы того, что я слышал лет десять тому назад в одном уездном городе от продавца вин, у которого спрашивал шампанского: «А что, батюшка, будем мы делать, когда вдова Клико помрет?» Пили, правда, много, очень много, но с патриотизмом – все свое доморощенное: целебные настойки под именами великих россиян, обессмертивших себя сочинением этих питий наравне с изобретателями железных дорог и электрических телеграфов, и наливки разных цветов по теням ягод, начиная от янтарного до темно-фиолетового.
Были однако ж в городе замечательные личности, и мы обязаны посвятить им особенную тетрадь.
Весна дохнула на землю своим теплом и благоуханием, накинула зеленую сетку на рощи, ковры на луга, заговорила лепетом своих ручьев и шумною речью своих водопадов, запела песнями любви и свободы своих крылатых гостей. Пришло и лето. Ваня, в сопровождении Ларивона, посетил прежние любимые места свои; по-прежнему отзывалось в его сердце сердечное биение природы. Но не так часто уж гулял он: Ваня полюбил книгу.
Между тем дом Пшеницына рос не по дням, а по часам. Из ветхого каменного здания между тем сколотили домик, на который надстроили деревянный этаж Верхний должен был служить для временного житья самих владельцев, нижний назначался для служб. Флигель этот с выведенным уже вчерне большим каменным двухэтажным домом, соединили галереей на арке. В нижнем этаже этого дома устроили с одной стороны две огромные кладовые, а с другой – две большие комнаты: одну для залы, а другую для Вани. Пшеницыны хотели переезжать на новое жилище, когда получили с нарочным известие, что Илья Максимович умирает.
Застали еще старика при последних минутах. Он успел только благословить сыновей своих, невесток и внучек. Похороны были великолепные; два дня таскали из кладовой мешки с медной монетой, которую раздавали нищим, запрудившим улицу. Раздел между сыновьями совершился полюбовно, как сделали бы его промеж себя Орест и Пилад. Что хотелось одному, того не желал другой. Женщину, бывшую при старике и не носившую названия своей должности, выпроводили со двора без уважения, но и без обиды, со всем ее скарбом.
Потянулся в Холодню обоз с сундуками, из которых несколько было с «Божьим милосердием», как называет русский человек иконы – самое дорогое свое достояние; другие – с разным движимым имуществом. Все это едва могло уместиться в двух кладовых. И сами владельцы этого богатства, тотчас по приезде в Холодню, переселились на новое жилище.
Тетрадь II
Замечательные городские личности
Другие электронные книги автора Иван Иванович Лажечников
Басурман




 0
0
Окопировался




 4.67
4.67