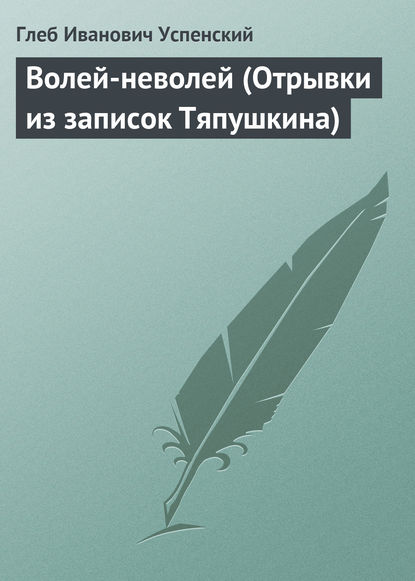По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Волей-неволей (Отрывки из записок Тяпушкина)
Автор
Год написания книги
1884
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Волей-неволей (Отрывки из записок Тяпушкина)
Глеб Иванович Успенский
«…В «записках Тяпушкина» Успенский ставит перед собою цель разобраться в многочисленных «несообразностях» русской жизни и объяснить причины бестолковщины, ярко проявляющейся и в городе и в деревне. Тысячи людей собрались проводить гроб Тургенева, но торжественность прощания с писателем-гуманистом нарушена взводом казаков, присланных «следить за порядком»; деревня так нуждается в помощи врачей, но нет заботы об увеличении их числа, и крестьяне «волей-неволей» должны обращаться к помощи знахарей; выходец из деревни, коридорный Кузьма хорошо подметил неполадки деревенской жизни, но вместо того, чтобы встать на путь борьбы с несправедливостью, он, после соответствующей беседы «в конторе», начинает шпионить за жильцами…»
Глеб Иванович Успенский
Волей-неволей
(Отрывки из записок Тяпушкина)
I. Вместо предисловия
1
Уж и не пересчитаешь, сколько раз я принимался за этот роман, или повесть, или мемуары; сколько раз я был вполне уверен, что это надо сделать, и сколько раз разуверялся! Сотни раз – какое? – сотни тысяч раз по крайней мере рука моя написала: «глава первая», двести тысяч раз она написала «часть первая, глава первая», и все эти сотни тысяч начинаний оканчивались тут же, на месте, большей частью на этой же несчастной первой главе, а иногда и первой строке… Потому что… что такое? Я человек неопределенного положения, неопределенного звания, человек случайных средств, человек случайного «встречного» общества, человек неуравновешенного нервного развития – следовательно, какой же может быть толк от моих наблюдений для людей, живущих не таким «как бы по ветру гонимым» обычаем? Только скучно! А еще будет скучнее, если я скажу, что наблюдения моего «отрывочного» существования я, приступая к ненаписанному роману, думал свести к доказательству того, что такое явление, как я, положим, хоть Иван Тяпушкин, во-первых, явление не единичное, а, так сказать, «продукт» таких-то и таких-то неизбежных влияний, продукт, личные свойства которого присущи… всему русскому обществу и народу! Если же я еще прибавлю к этому, что личные эти свойства заключаются в неизбежности «пропасть» за что-то, лично меня не касающееся, нисколько даже мне иногда не нужное, что, с другой стороны, отдавшись этому личному, я так же должен пропасть, пустить себе пулю в лоб, то ясно будет, что навязать такую «неизбежность» всему обществу невозможно. И вот почему, написав «часть первая», «глава первая», я тотчас же и прекращал работу… А уж сколько этих начал было! И «в один летний вечер»… И «солнце склонялось к горизонту»… И «Марья Васильевна лежала на кушетке»… Один раз было даже «полулежала»… Ну да что! Молчание!.. Молчание!..
Но в последнее время, или, вернее, в самые последние дни последнего времени, целый ряд явлений жизни, поистине достойных носить название «наглядных несообразностей», вновь и с особенною силою возбудил во мне желание вытащить опять на свет божий мою любимую идею, что известному поколению русского общества обязательно было «пропасть» во имя чужого дела, чужой работы, пропасть волей-неволей, потому что к этому его привела вся всечеловеческая жизнь и вся всечеловеческая мысль, и что если оно не уверует в это, не укрепит себя в этом, то ничего, кроме самой ужасающей бесплоднейшей и адски-мучительной глупости, выработать оно не может. Эту любимую идейку о необходимости «пропасть» во имя лично для меня ненужных, даже нежелательных обязанностей, обязанностей тяжелых, неприветливых, я и захотел вновь показать на опыте моей случайной, во многом суженной, изуродованной жизни. Явления современной жизни, о которых я говорю, сделали то, что даже самая узость моих наблюдений, которая всегда меня пугала, теперь как бы ободряла, именно потому, что я сам «сужен» и все мои наблюдения «сужены» как раз на этой неизбежности «пропасть» не за свое, а за чужое, за что-то, от чего мне ни тепло, ни холодно, и т. п. Или нет – холодно! Ужас даже как холодно!..
А точно, мне неизвестно даже, где и когда могли бы происходить такие явления, о которых я только что говорил. Последние месяцы настоящего года я, за неимением места, провел так: поживешь в Петербурге, устанешь – поедешь в деревню к приятелю; там поживешь, устанешь, поедешь в Петербург… и так четыре месяца подряд мыкался я и туда и сюда, уставал, уставал и уставал… и, наконец, до такой степени измучился, что одно время думал о неизбежности смерти, вследствие неотразимо надвигавшегося на меня психического расстройства, грозившего умопомешательством. Но, к счастью, вдруг как-то напал на мысль – писать опять ту же ненаписанную повесть…
Впрочем, прежде всего необходимо подробно рассказать, как и от чего именно я уставал; надобно рассказать, как я провел осень, что видел и испытал. Необходимо иной раз коснуться и таких сцен и фактов, которые пригодятся только потом, долго спустя после этой первой главы моих заметок. Рассказывать всего по порядку – решительно невозможно; впору справиться только с самым памятным и приметным. Начну эти воспоминания о прошлой осени с такого события, которое памятно не для одного меня, а для всей России. Я говорю о похоронах Тургенева. Спрашиваю всякого из ста тысяч человек народа, присутствовавшего на этих похоронах, что это такое было, как не непрерывная цепь самых невозможных несообразностей, волею запутавшейся жизни сделавшихся обязательными, неизбежными? Начиная с появления гроба в дверях Варшавского вокзала и кончая могильным холмом – весь восьмичасовой промежуток времени, ушедший на процессию, обязывал решительно всякого из сотен тысяч народа, присутствовавшего на этих похоронах, переживать ряд самых непоследовательных, нелогических, болезненных, бессвязных впечатлений и в то же время сознавать, что нелогичность, бессвязность, непоследовательность их нужны, необходимы, неизбежны – словом, что «так надо», хотя в то же самое время и совершенно «ненужно». Ясное, светлое осеннее утро; цветы, лавры, ленты и гроб писателя, при имени которого и при воспоминании о котором никакого иного представления, кроме того, что и посетитель и читатель его выносили – и от знакомства и от чтения – исключительно хорошие, светлые впечатления. Воспоминаются самые тихие, приятные, простые образы, густолиственные аллеи, красота… молодость… любовь… глаза, заплаканные невинными слезами… кисея какая-то подвенечная чудится неведомо почему… холодные пальцы робкой женской руки… А на душе у всех тягота, камень сознания, что «не нам и не ему сей фимиам пахучий, цветы и лавры, – нет!»…[1 - …«не нам и не ему сей фимиам пахучий…» – цитата из стихотворения Я. П. Полонского «27 сентября 1883 года. (У гроба Тургенева)».] Что «терн колючий» должны мы вспоминать… по случаю, как видите, совершенно неподходящему. При более или менее здоровых условиях жизни и «терн колючий» вспомнили бы мы в свое время и в своем месте, а теперь он вспоминается вовсе не у места, и выходит так, что надо вспоминать колючий терн в таких обстоятельствах, которые соответствуют именно лаврам и цветам. Так вышло! Так надо! И вот с таким-то извращенным волею судеб состоянием духа, с камнем на душе, тысячи народа идут четыре-пять часов; мертвое молчание, напряженность, обязанность идти и знать, что внутренний душевный холод обязателен. Идем, и вдруг видим взвод казаков, молодец к молодцу, которые почему-то невольно напоминают стих Пушкина: «вмиг слетелись в общем крике»[2 - …«вмиг слетелись в общем крике»… – неточно цитированная строка из стихотворения А. С. Пушкина «Делибаш».]… и даже не весь стих, а одно только слово «вмиг».
Бога ради, читатель, не думайте, пожалуйста, что, заговорив о казаках, я сделал это из желания представить себя «каким-нибудь эдаким» либералом, фанфароном, который представляется возмущенным, фыркает, осуждает, фордыбачит – словом, «отличается» смелостью и свободою своих просвещенных идей. Ничуть и ни в каком случае. Я и говорю об этих закубанских молодчинах именно в подтверждение той странности современных «наглядных несообразностей» жизни, что они, закубанские молодчинищи, должны были непременно присутствовать здесь и что начальство непременно должно было послать их сюда. Так сложилась жизнь, что на похоронах Тургенева должно было и вспомнить терн колючий и созерцать закубанцев. И все это отлично понимали, и все чувствовали несомненно, что все это весьма странно и удивительно. В самом деле, какая тут связь с литературной деятельностью Тургенева и всеми воспоминаниями о нем, которые роятся у всех присутствующих, начиная от частного пристава до студента с венком в руках? – Никакой. Тургенев – и закубанец… ведь это бог знает что! А – надо, и все знают, что надо. Нелепо, а необходимо; и вообще так вышло.
Итак, пройдя пять часов с каменной тяготой воспоминаний о колючем терне вместо цветов и лавров, миновав несообразную и в то же время вполне понятную встречу с закубанцем, мы, наконец, достигаем могилы и слушаем речь Бекетова об астрономии[3 - …речь Бекетова об астрономии… – На похоронах И. С. Тургенева выступил ректор Петербургского университета А. Н. Бекетов, посвятивший свою речь «закону сохранения сил» не только в физическом, но и в духовном мире. Бекетов сравнил бессмертие творчества Тургенева с бессмертием вселенной («Огонек», 1883, № 42, стр. 777–778).]. Теперь позвольте сосчитать все впечатления, которые мы пережили: Тургенев, Ася, густолиственная аллея, кисея подвенечная, закубанский эскадрон, речь об астрономии. Какую связь, живую, здоровую, все это имеет между собою? Живой и здоровой связи нет. Хороним Тургенева, создателя целой толпы чудных и нежных образов, а говорим об астрономии; при чем тут Тургенев? Ровно ни при чем. А закубанец при чем? Тоже ни при чем… Елена, Инсаров, Лаврецкий, густолиственная аллея… а плеть закубанская как попала? Неизвестно!.. Теперь, если так взять: какая связь между плетью и астрономией, между венком от женских курсов и закубанским эскадроном; какая связь между Тургеневым и астрономией, между астрономией и тернием колючим? Ровно никакой!
Но жизнь пошла такими дебрями, дала такой нелепый оборот, что на каждом шагу стала создавать явления тяготы, неизбежной, вполне неминуемой и вполне нелепой и, главное, бесплодной. Возвратившись с этих похорон, я чувствовал себя совершенно избитым впечатлениями дня. «Тургенев, эскадрон… астрономия… а надо!» Вот что сверлило мой мозг как буравом… Почему «надо»? – спрашивал я себя, и тут мне почему-то припоминалось освобождение крестьян, 19-е февраля, стремление в народ, «народное благо»… И тогда я впадал в отчаяние еще большее, потому что мои мысли еще более спутывались, так как в них начинала чередоваться еще большая масса непонятных и несоединимых представлений… Освобождение… Ася… астрономия… 19-е февраля… закубанец… Тургенев… аллея… Как же все это могло выйти из 19-го февраля? Но когда начнешь думать об этом, то приходишь к роковому – «надо»! Так вышло! А когда опять начнешь перебирать в подробностях картину, которая вышла, то сталкиваешься с подавляющим вопросом: к чему же все это нужно? Чего надо достигнуть всем этим? Зачем это и какой прок от этой адской тяготы, тяготы одинаково не удовлетворяющей никого: ни закубанца, ни Тургенева, ни астрономию, ни начальство?
Нет! Надо отдохнуть! Отдохну, очувствуюсь, а потом и соображу.
2
Отдохнуть я поехал в деревню, к приятелю… И точно, здесь в деревне по крайней мере понимаешь то, что видишь, и, глядя на то или другое явление, можешь ответить на вопросы: почему, зачем, отчего? Например, тотчас по приезде на станцию и по выходе на платформу я, несмотря на тьму зимней ночи, вижу, что поблизости платформы скопилась масса извозчиков. Вижу это и понимаю, что, стало быть, «приели» хлеб-то за первые же месяцы зимы. Что надобно его покупать, и вот почему десять человек приехало за двумя пассажирами. А вот осенью, в сентябре, когда только что убрались с поля и когда хлеб был у всякого, тогда ни единого человека нельзя было отыскать у той же самой платформы. Тьма и дождь, а ты ходи по платформе да жди белого света. А если и навернется какой мужичонка, то только фордыбачит и иного слова как «руп» даже и понимать не хочет. Все это видимо и ясно.
Из десяти толпившихся на платформе в ожидании двух-трех пассажиров крестьян, окутанных в какую-то рвань, с обледенелыми бородами и усами, мы – буквально два пассажира, какой-то лавочник и я – выбрали самого подходящего по части нужды в хлебе: маленького двенадцатилетнего мальчика. Крошечная фигурка, в большой ямщичьей шапке, с кнутом из-за пояса, достигавшим до полу, приглашала пассажиров таким же точно голосом, с такими же точно жестами и ухватками, как и взрослые бородачи, съевшие свой хлеб до рождества. Уж если этот ребенок зябнет здесь в три часа ночи, когда ему самое время спать, стало быть, в его семье и в самом деле жутко.
Сели и поехали, то есть сначала сели, и сидели довольно долго, покуда мальчишка драл свою лошадь кнутом. Драл он ее весьма долго, после чего она потянулась вперед, потом еще потянулась, а потом уж и сани поехали…
– Видно, кормишь плохо? – спросил лавочник.
– Знамо, плохо!
– Сена нету?
– Нету!
– Так! От этого она и нейдет.
– Знамо, от этого. Кабы корм был, так пошла бы.
– Верно! – сказал лавочник.
И я подтвердил это. Все тут понятно и правильно.
Мальчик постоянно должен был стегать лошадь кнутом и дергать вожжами, чтобы принудить ее страхом наказания исполнять свои обязанности. И лошадь шла, подпрыгивая от каждого удара. Но у кабака она вдруг стала. Мальчонка стал опять изо всей силы стегать ее и приговаривал:
– Это тятенька тебя, проклятую, приучил…
– Али пьет родитель-то? – спросил лавочник.
– Эво! Знамо, пьет. У него только и делов, что пить…
– Отчего так ослаб?
– Ленивый стал…
– Ленивый?.. Да ты чей будешь?
Мальчик сказал.
– Ну, знаю, знаю!.. Много ль вас в семье-то?
– Девять человек, да мать, да отец…
– А мужчинов-то много ль?
– Да я один.
– А то всё девки?
– Всё девки…
– Ну так, так!.. Ослаб! От этого от самого… Кабы мальчиков побольше, он бы, отец-то, пободрей был: все бы ему надежда на подмогу, то есть по муской-то части, в хозяйстве… Ну, а то всё девки, это худо!.. Так, так, знаю!.. И мать-то твою знаю… Уж баба! Идет с речки, на одной руке один ребенок, на другой – другой, за руку третьего ведет, четвертый за подол, да коромысло с ведрами через плечо, да на коромысле-то белья, рубах и прочего настирано, навешано пуда с два, да валек за поясом. Ноги как у цапли, тонкие да жилистые… Всех кормит, от всех отгрызается, направо лягнет, налево амкнет… воюет за свое гнездо – одно слово! Вот от этого-то и расстройство – нет равновесу! Все на бабий бок вышло! Ну, мужику-то уж и обидно, вроде как подначальный у них, потому эво их какая сила!.. Что ж, отец-то дюже ослаб?
– Отец-то? И совсем как полоумный стал.
– Что ж он делает по дому-то?
– Да чего ему? Лежит на печке да пьет. По осени пошли молотить, а он колеса пропил.
– Ай, ай, ай!
– А то вот хомут хотел продать, слава тебе господи, я хватился, пымал его: «куда ты, мол, полоумный, тащишь хомут-то?» Ну, отнял от него… «Нет, брат, говорю, погодишь!»
– А он что же?
– Чего ему? Пошел на печку, ругается… «Мне, говорит, литок хотелось попить!»
– Чего?
Глеб Иванович Успенский
«…В «записках Тяпушкина» Успенский ставит перед собою цель разобраться в многочисленных «несообразностях» русской жизни и объяснить причины бестолковщины, ярко проявляющейся и в городе и в деревне. Тысячи людей собрались проводить гроб Тургенева, но торжественность прощания с писателем-гуманистом нарушена взводом казаков, присланных «следить за порядком»; деревня так нуждается в помощи врачей, но нет заботы об увеличении их числа, и крестьяне «волей-неволей» должны обращаться к помощи знахарей; выходец из деревни, коридорный Кузьма хорошо подметил неполадки деревенской жизни, но вместо того, чтобы встать на путь борьбы с несправедливостью, он, после соответствующей беседы «в конторе», начинает шпионить за жильцами…»
Глеб Иванович Успенский
Волей-неволей
(Отрывки из записок Тяпушкина)
I. Вместо предисловия
1
Уж и не пересчитаешь, сколько раз я принимался за этот роман, или повесть, или мемуары; сколько раз я был вполне уверен, что это надо сделать, и сколько раз разуверялся! Сотни раз – какое? – сотни тысяч раз по крайней мере рука моя написала: «глава первая», двести тысяч раз она написала «часть первая, глава первая», и все эти сотни тысяч начинаний оканчивались тут же, на месте, большей частью на этой же несчастной первой главе, а иногда и первой строке… Потому что… что такое? Я человек неопределенного положения, неопределенного звания, человек случайных средств, человек случайного «встречного» общества, человек неуравновешенного нервного развития – следовательно, какой же может быть толк от моих наблюдений для людей, живущих не таким «как бы по ветру гонимым» обычаем? Только скучно! А еще будет скучнее, если я скажу, что наблюдения моего «отрывочного» существования я, приступая к ненаписанному роману, думал свести к доказательству того, что такое явление, как я, положим, хоть Иван Тяпушкин, во-первых, явление не единичное, а, так сказать, «продукт» таких-то и таких-то неизбежных влияний, продукт, личные свойства которого присущи… всему русскому обществу и народу! Если же я еще прибавлю к этому, что личные эти свойства заключаются в неизбежности «пропасть» за что-то, лично меня не касающееся, нисколько даже мне иногда не нужное, что, с другой стороны, отдавшись этому личному, я так же должен пропасть, пустить себе пулю в лоб, то ясно будет, что навязать такую «неизбежность» всему обществу невозможно. И вот почему, написав «часть первая», «глава первая», я тотчас же и прекращал работу… А уж сколько этих начал было! И «в один летний вечер»… И «солнце склонялось к горизонту»… И «Марья Васильевна лежала на кушетке»… Один раз было даже «полулежала»… Ну да что! Молчание!.. Молчание!..
Но в последнее время, или, вернее, в самые последние дни последнего времени, целый ряд явлений жизни, поистине достойных носить название «наглядных несообразностей», вновь и с особенною силою возбудил во мне желание вытащить опять на свет божий мою любимую идею, что известному поколению русского общества обязательно было «пропасть» во имя чужого дела, чужой работы, пропасть волей-неволей, потому что к этому его привела вся всечеловеческая жизнь и вся всечеловеческая мысль, и что если оно не уверует в это, не укрепит себя в этом, то ничего, кроме самой ужасающей бесплоднейшей и адски-мучительной глупости, выработать оно не может. Эту любимую идейку о необходимости «пропасть» во имя лично для меня ненужных, даже нежелательных обязанностей, обязанностей тяжелых, неприветливых, я и захотел вновь показать на опыте моей случайной, во многом суженной, изуродованной жизни. Явления современной жизни, о которых я говорю, сделали то, что даже самая узость моих наблюдений, которая всегда меня пугала, теперь как бы ободряла, именно потому, что я сам «сужен» и все мои наблюдения «сужены» как раз на этой неизбежности «пропасть» не за свое, а за чужое, за что-то, от чего мне ни тепло, ни холодно, и т. п. Или нет – холодно! Ужас даже как холодно!..
А точно, мне неизвестно даже, где и когда могли бы происходить такие явления, о которых я только что говорил. Последние месяцы настоящего года я, за неимением места, провел так: поживешь в Петербурге, устанешь – поедешь в деревню к приятелю; там поживешь, устанешь, поедешь в Петербург… и так четыре месяца подряд мыкался я и туда и сюда, уставал, уставал и уставал… и, наконец, до такой степени измучился, что одно время думал о неизбежности смерти, вследствие неотразимо надвигавшегося на меня психического расстройства, грозившего умопомешательством. Но, к счастью, вдруг как-то напал на мысль – писать опять ту же ненаписанную повесть…
Впрочем, прежде всего необходимо подробно рассказать, как и от чего именно я уставал; надобно рассказать, как я провел осень, что видел и испытал. Необходимо иной раз коснуться и таких сцен и фактов, которые пригодятся только потом, долго спустя после этой первой главы моих заметок. Рассказывать всего по порядку – решительно невозможно; впору справиться только с самым памятным и приметным. Начну эти воспоминания о прошлой осени с такого события, которое памятно не для одного меня, а для всей России. Я говорю о похоронах Тургенева. Спрашиваю всякого из ста тысяч человек народа, присутствовавшего на этих похоронах, что это такое было, как не непрерывная цепь самых невозможных несообразностей, волею запутавшейся жизни сделавшихся обязательными, неизбежными? Начиная с появления гроба в дверях Варшавского вокзала и кончая могильным холмом – весь восьмичасовой промежуток времени, ушедший на процессию, обязывал решительно всякого из сотен тысяч народа, присутствовавшего на этих похоронах, переживать ряд самых непоследовательных, нелогических, болезненных, бессвязных впечатлений и в то же время сознавать, что нелогичность, бессвязность, непоследовательность их нужны, необходимы, неизбежны – словом, что «так надо», хотя в то же самое время и совершенно «ненужно». Ясное, светлое осеннее утро; цветы, лавры, ленты и гроб писателя, при имени которого и при воспоминании о котором никакого иного представления, кроме того, что и посетитель и читатель его выносили – и от знакомства и от чтения – исключительно хорошие, светлые впечатления. Воспоминаются самые тихие, приятные, простые образы, густолиственные аллеи, красота… молодость… любовь… глаза, заплаканные невинными слезами… кисея какая-то подвенечная чудится неведомо почему… холодные пальцы робкой женской руки… А на душе у всех тягота, камень сознания, что «не нам и не ему сей фимиам пахучий, цветы и лавры, – нет!»…[1 - …«не нам и не ему сей фимиам пахучий…» – цитата из стихотворения Я. П. Полонского «27 сентября 1883 года. (У гроба Тургенева)».] Что «терн колючий» должны мы вспоминать… по случаю, как видите, совершенно неподходящему. При более или менее здоровых условиях жизни и «терн колючий» вспомнили бы мы в свое время и в своем месте, а теперь он вспоминается вовсе не у места, и выходит так, что надо вспоминать колючий терн в таких обстоятельствах, которые соответствуют именно лаврам и цветам. Так вышло! Так надо! И вот с таким-то извращенным волею судеб состоянием духа, с камнем на душе, тысячи народа идут четыре-пять часов; мертвое молчание, напряженность, обязанность идти и знать, что внутренний душевный холод обязателен. Идем, и вдруг видим взвод казаков, молодец к молодцу, которые почему-то невольно напоминают стих Пушкина: «вмиг слетелись в общем крике»[2 - …«вмиг слетелись в общем крике»… – неточно цитированная строка из стихотворения А. С. Пушкина «Делибаш».]… и даже не весь стих, а одно только слово «вмиг».
Бога ради, читатель, не думайте, пожалуйста, что, заговорив о казаках, я сделал это из желания представить себя «каким-нибудь эдаким» либералом, фанфароном, который представляется возмущенным, фыркает, осуждает, фордыбачит – словом, «отличается» смелостью и свободою своих просвещенных идей. Ничуть и ни в каком случае. Я и говорю об этих закубанских молодчинах именно в подтверждение той странности современных «наглядных несообразностей» жизни, что они, закубанские молодчинищи, должны были непременно присутствовать здесь и что начальство непременно должно было послать их сюда. Так сложилась жизнь, что на похоронах Тургенева должно было и вспомнить терн колючий и созерцать закубанцев. И все это отлично понимали, и все чувствовали несомненно, что все это весьма странно и удивительно. В самом деле, какая тут связь с литературной деятельностью Тургенева и всеми воспоминаниями о нем, которые роятся у всех присутствующих, начиная от частного пристава до студента с венком в руках? – Никакой. Тургенев – и закубанец… ведь это бог знает что! А – надо, и все знают, что надо. Нелепо, а необходимо; и вообще так вышло.
Итак, пройдя пять часов с каменной тяготой воспоминаний о колючем терне вместо цветов и лавров, миновав несообразную и в то же время вполне понятную встречу с закубанцем, мы, наконец, достигаем могилы и слушаем речь Бекетова об астрономии[3 - …речь Бекетова об астрономии… – На похоронах И. С. Тургенева выступил ректор Петербургского университета А. Н. Бекетов, посвятивший свою речь «закону сохранения сил» не только в физическом, но и в духовном мире. Бекетов сравнил бессмертие творчества Тургенева с бессмертием вселенной («Огонек», 1883, № 42, стр. 777–778).]. Теперь позвольте сосчитать все впечатления, которые мы пережили: Тургенев, Ася, густолиственная аллея, кисея подвенечная, закубанский эскадрон, речь об астрономии. Какую связь, живую, здоровую, все это имеет между собою? Живой и здоровой связи нет. Хороним Тургенева, создателя целой толпы чудных и нежных образов, а говорим об астрономии; при чем тут Тургенев? Ровно ни при чем. А закубанец при чем? Тоже ни при чем… Елена, Инсаров, Лаврецкий, густолиственная аллея… а плеть закубанская как попала? Неизвестно!.. Теперь, если так взять: какая связь между плетью и астрономией, между венком от женских курсов и закубанским эскадроном; какая связь между Тургеневым и астрономией, между астрономией и тернием колючим? Ровно никакой!
Но жизнь пошла такими дебрями, дала такой нелепый оборот, что на каждом шагу стала создавать явления тяготы, неизбежной, вполне неминуемой и вполне нелепой и, главное, бесплодной. Возвратившись с этих похорон, я чувствовал себя совершенно избитым впечатлениями дня. «Тургенев, эскадрон… астрономия… а надо!» Вот что сверлило мой мозг как буравом… Почему «надо»? – спрашивал я себя, и тут мне почему-то припоминалось освобождение крестьян, 19-е февраля, стремление в народ, «народное благо»… И тогда я впадал в отчаяние еще большее, потому что мои мысли еще более спутывались, так как в них начинала чередоваться еще большая масса непонятных и несоединимых представлений… Освобождение… Ася… астрономия… 19-е февраля… закубанец… Тургенев… аллея… Как же все это могло выйти из 19-го февраля? Но когда начнешь думать об этом, то приходишь к роковому – «надо»! Так вышло! А когда опять начнешь перебирать в подробностях картину, которая вышла, то сталкиваешься с подавляющим вопросом: к чему же все это нужно? Чего надо достигнуть всем этим? Зачем это и какой прок от этой адской тяготы, тяготы одинаково не удовлетворяющей никого: ни закубанца, ни Тургенева, ни астрономию, ни начальство?
Нет! Надо отдохнуть! Отдохну, очувствуюсь, а потом и соображу.
2
Отдохнуть я поехал в деревню, к приятелю… И точно, здесь в деревне по крайней мере понимаешь то, что видишь, и, глядя на то или другое явление, можешь ответить на вопросы: почему, зачем, отчего? Например, тотчас по приезде на станцию и по выходе на платформу я, несмотря на тьму зимней ночи, вижу, что поблизости платформы скопилась масса извозчиков. Вижу это и понимаю, что, стало быть, «приели» хлеб-то за первые же месяцы зимы. Что надобно его покупать, и вот почему десять человек приехало за двумя пассажирами. А вот осенью, в сентябре, когда только что убрались с поля и когда хлеб был у всякого, тогда ни единого человека нельзя было отыскать у той же самой платформы. Тьма и дождь, а ты ходи по платформе да жди белого света. А если и навернется какой мужичонка, то только фордыбачит и иного слова как «руп» даже и понимать не хочет. Все это видимо и ясно.
Из десяти толпившихся на платформе в ожидании двух-трех пассажиров крестьян, окутанных в какую-то рвань, с обледенелыми бородами и усами, мы – буквально два пассажира, какой-то лавочник и я – выбрали самого подходящего по части нужды в хлебе: маленького двенадцатилетнего мальчика. Крошечная фигурка, в большой ямщичьей шапке, с кнутом из-за пояса, достигавшим до полу, приглашала пассажиров таким же точно голосом, с такими же точно жестами и ухватками, как и взрослые бородачи, съевшие свой хлеб до рождества. Уж если этот ребенок зябнет здесь в три часа ночи, когда ему самое время спать, стало быть, в его семье и в самом деле жутко.
Сели и поехали, то есть сначала сели, и сидели довольно долго, покуда мальчишка драл свою лошадь кнутом. Драл он ее весьма долго, после чего она потянулась вперед, потом еще потянулась, а потом уж и сани поехали…
– Видно, кормишь плохо? – спросил лавочник.
– Знамо, плохо!
– Сена нету?
– Нету!
– Так! От этого она и нейдет.
– Знамо, от этого. Кабы корм был, так пошла бы.
– Верно! – сказал лавочник.
И я подтвердил это. Все тут понятно и правильно.
Мальчик постоянно должен был стегать лошадь кнутом и дергать вожжами, чтобы принудить ее страхом наказания исполнять свои обязанности. И лошадь шла, подпрыгивая от каждого удара. Но у кабака она вдруг стала. Мальчонка стал опять изо всей силы стегать ее и приговаривал:
– Это тятенька тебя, проклятую, приучил…
– Али пьет родитель-то? – спросил лавочник.
– Эво! Знамо, пьет. У него только и делов, что пить…
– Отчего так ослаб?
– Ленивый стал…
– Ленивый?.. Да ты чей будешь?
Мальчик сказал.
– Ну, знаю, знаю!.. Много ль вас в семье-то?
– Девять человек, да мать, да отец…
– А мужчинов-то много ль?
– Да я один.
– А то всё девки?
– Всё девки…
– Ну так, так!.. Ослаб! От этого от самого… Кабы мальчиков побольше, он бы, отец-то, пободрей был: все бы ему надежда на подмогу, то есть по муской-то части, в хозяйстве… Ну, а то всё девки, это худо!.. Так, так, знаю!.. И мать-то твою знаю… Уж баба! Идет с речки, на одной руке один ребенок, на другой – другой, за руку третьего ведет, четвертый за подол, да коромысло с ведрами через плечо, да на коромысле-то белья, рубах и прочего настирано, навешано пуда с два, да валек за поясом. Ноги как у цапли, тонкие да жилистые… Всех кормит, от всех отгрызается, направо лягнет, налево амкнет… воюет за свое гнездо – одно слово! Вот от этого-то и расстройство – нет равновесу! Все на бабий бок вышло! Ну, мужику-то уж и обидно, вроде как подначальный у них, потому эво их какая сила!.. Что ж, отец-то дюже ослаб?
– Отец-то? И совсем как полоумный стал.
– Что ж он делает по дому-то?
– Да чего ему? Лежит на печке да пьет. По осени пошли молотить, а он колеса пропил.
– Ай, ай, ай!
– А то вот хомут хотел продать, слава тебе господи, я хватился, пымал его: «куда ты, мол, полоумный, тащишь хомут-то?» Ну, отнял от него… «Нет, брат, говорю, погодишь!»
– А он что же?
– Чего ему? Пошел на печку, ругается… «Мне, говорит, литок хотелось попить!»
– Чего?