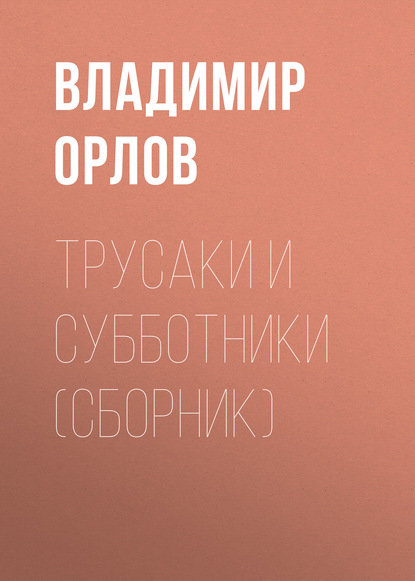По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трусаки и субботники (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Воображение. И дрязг жизни. Безупречная формулировка Николая Васильевича Гоголя, воспитанного Нежинским лицеем и чудесными представлениями о персонажах мироздания восточных славян, проживавших в тиши украинских ночей.
В семидесятые годы прошлого века в моду вошли интеллектуальные тесты. Один из них, предложенный «Неделей», с шестидесятью двумя вопросами, я от нечего делать решился заполнить. Искренне отвечал, не врал, старательно подсчитывал очки, и вышло: «Особенность натуры (моей) – отсутствие воображения». И следовали советы, как себя от этой беды избавить.
А дрязг-то жизни? Как избавиться от него? Никак. Да и не надо было избавляться. Не получилось бы.
Я уже не помню, Хрюшка улыбалась или смеялась. Спросил внучку Катю. Она вроде бы читала в детском саду историю симферопольской Хрюшки. Катя сидела у компьютера, в который раз одолевала «Косынку», брови сдвинула, какая такая Хрюшка? И вдруг опечалилась, вспомнила. Это очень грустная история, дед, очень, очень грустная. Жила сама по себе свинья и у неё ничего не было из того, что было у других, и никто с ней не дружил. Но потом что-то случилось, с ней стали дружить, она начала улыбаться и в конце концов рассмеялась. Я успокоился. Мне-то запомнилось, что Хрюшка улыбалась. Имелись основания судить, что она и теперь улыбается, и этого было достаточно…
В шестьдесят девятом году я ушел из газеты, прожив в ней десять лет. Пришлось писать заявление, привычное для той поры: «Прошу освободить меня от занимаемой должности в связи с переходом на творческую работу». Смешно. А в газете, стало быть, – не творческая работа? «Комсомольская правда» была тогда порядочной газетой, старалась быть честной и бескорыстной. Уход из газеты в свободные художники именовался – «на вольные хлеба». А в необходимых анкетах того времени личности всех так называемых свободных или вольных хлебов обязаны были заполнять пункт: «социальное происхождение» или «социальное положение». И все мы, неважно из каких союзов – писательских, киношных, театральных, писали: «служащий». А кто же ещё? Не рабочий ведь и не колхозник. Служащий.
Возможно, что камер-юнкер Пушкин был служащий. И Гофман с Гоголем – тоже, если, конечно, им приходилось заполнять анкеты с пунктами.
Табель о рангах предполагал, что и человек так называемой свободной профессии должен служить или обслуживать. Свобода же и вольности его состояли в праве не ходить кудалибо на работу. Но если билета одного из «творческих» союзов у тебя не было, ты мог быть объявлен тунеядцем и отправлен, как Бродский, на трудовое поселение…
У одного из самых почитаемых мною художников из круга дрезденских романтиков и современника Э. Т. Гофмана Каспара Давида Фридриха есть картина «Путник над морем тумана». Стоит человек на прибрежной скале, застыл, перед ним воды и рифы, скрытые туманом, он вроде бы спокоен и просто созерцает, но мне-то понятно, какие страсти могут сейчас (и вечно) быть сокрыты в явленных нам туманах и в душе застывшего будто бы путника. В трактовке картины искусствоведа Матильды Батистини я нашел слова: «Путник – центральная фигура романтической поэтики; это путешественник, не стремящийся к определённой цели».
Героиня Любови Орловой в «Светлом пути», ткачиха и стахановка, возносила над собой и над страной «Марш энтузиастов», и были в марше слова: «Мечта прекрасная, пока неясная, зовёт нас за собой!» В пору Суслова-Фурцевой-Демичева услышал исправление марша: «Мечта прекрасная, всегда нам ясная…»
Я же ушёл в свободные художники именно в эту саму пору путником Каспара Давида Фридриха, то есть «без стремления к определённой цели»…
То есть смутно-туманная цель у меня, естественно, была. Освободиться от оков и приёмов журналистики и научиться овладеть инструментом профессии – русским словом – и писать, рассказывая о людях и о себе так, чтобы не было стыдно перед мастерами отечественной словесности и, понятно, словесности мировой.
Приятели звонили и спрашивали: «Как тебе на вольных хлебах?». То ли сочувствовали, то ли ехидничали. «Высыпаюсь, – отвечал я. – А хлебов нет».
Какие тут хлеба, если за восемь лет (по семьдесят шестой год) у меня, кроме рассказа «Трусаки», не было публикаций?
…Что-то произошло в возвышенно-надзирающих сферах, отчего мои сочинения начали разбирать в журналах, не допускались в сборники и в лучшем случае калечились в сброшюрованных уже книгах.
А я-то считал себя благонамеренным человеком, обнадёженным честностями двадцатого съезда и не способным нанести какой-либо урон устоям вот-вот должного осчастливить нас (в 1980-м году, не позднее) коммунистического построения.
И тем не менее…
Один мой приятель, мужик порядочный, но вхожий в слои, определяющие сущность любого гражданского отсвета, в парной при гвалте оздоровлённых удовольствиями индивидумов, сообщил мне, всё же шёпотом: «Механик тобой не доволен».
«Механик тобой не доволен» – слова из дореволюционной социально-нездоровой жизни, напетые великим Утёсовым. Они были уместны и в шестьдесят девятом году, и мне расспрашивать о подробностях не захотелось.
Ну, и ладно. Ну, и так проживём. Пусть механика щекочут другие. И всё же хотелось понять, чем же вызвано недовольство механика.
Сказал кочегар кочегару. Механик тобой не доволен. К врачу обратись, если болен. На палубу вышел, сознанья уж нет.
На палубу не выходил. Сознанья не терял. Кочегаром не был. И не кочегар говорил мне в бане про механика.
В шестьдесят восьмом «Юность» опубликовала мой роман «После дождика в четверг». Члены редколлегии просили изменить название сочинения. Мол, комсомольская стройка, и вдруг всякие мрачности в финале. Это ладно. Название осталось. Многие события романа происходили не в Саянах, а в подмосковном текстильном городке Яхроме (в тексте – Влахерме). И там (в романе) существовала мать одного из персонажей прославленная довоенная ткачиха-стахановка, любимица Сталина и Калинина. А жизнь её вышла пустой, несчастливой и полупьяной. И рассказывалось в романе о судьбе ещё одного яхромчанина – крупного врача-терапевта, Белашова, прошедшего все муки и мытарства по «Делу врачей». В тот год цензура была как бы отменена, могла заниматься лишь государственными тайнами, растворилась в небесах, а за все правки в тексте отвечали будто бы редакторы. Когда я прочитал в журнальной вёрстке свой текст, я ужаснулся. Яхромские эпизоды были искалечены. Легендарная завпрозой «Юности» Мэри Лазаревна Озерова, как бы и виноватая в неприятностях, лишь повела глазами куда-то в бок, а потом и вверх и поинтересовалась, согласен ли я с «журнальным вариантом» или нет.
«Журнальный вариант» был подброшен мне спасательным кругом. Он давал возможности вариантов оправданий перед самим собой…
Через год роман выходил книгой в «Советском писателе». Раскрыв её, я не нашёл многих эпизодов о послевоенной жизни страны, в частности, и слов «Дело врачей», не было такого, пропала из неё и фамилия Сталин. Никаких предварительных разговоров со мной не вели, и когда я явился с решительными выражениями к важным в издательстве людям, меня встретили с искренними улыбками, признающими право на существование в социуме простака, и было мною услышано: «Ну, старик, ты даёшь! Мы, что ли придумали эти Пражские Вёсны! Эко они распустились! Коньяку хочешь? Скажи спасибо, что и в таком виде тебя напечатали!»
И потом восемь лет меня не печатали. Правили, набирали, согласовывали и разбирали… И не печатали. Ничего. Кроме рассказа «Трусаки».
А я уже в шестьдесят восьмом, ещё работая в «Комсомолке», выслушивал на каком-то молодёжном активе указания пальчиком (или кулаком) грозящего, пустого, полуграмотного человека по фамилии Демичев, химика, что ли, но надевшего партийные безразмерные штаны дилетанта, развалившего позже Большой театр, а вместе с другими и великую страну: «Забыть о Двадцатом съезде и его обольщающей болтовне!»
Такие начинались для меня вольные хлеба и полёты свободного художника.
Тогда и возникла в моей жизни Хрюшка, какая – то ли улыбалась, то ли смеялась. Проживала она где-то вдали, а в Москву являлась в Останкино, на Аргуновскую улицу, в зеленоватый деревянный домик с башенкой, явно бывший в начале прошлого века чьей-то дорогой дачей, а теперь вместивший в себя коммунальные службы и почту со сберкассой.
На девятом году службы в «Комсомольской правде» я был, наконец, обмилостивлен квартирой (сорок с малым кв. метров на пятерых), в Останкино, тесной, как желудок клопа (или что там внутри клопа?), но с горячей водой, ванной и без соседей. Местность наша между улицей Королёва с Полем Дураков и Звёздным бульваром была прозвана Комсомольской деревней. Строили здесь дома на деньги процветающего тогда издательства «Молодая гвардия», а заселяли их комсомольские работники мелких и средних значений и журналисты молодежных изданий. Были они шустры, сообразительны и позже многие из них в тихие и в бурные годы выстроили себе высоковольтные карьеры.
Не все, конечно.
Из домика с башенкой на Аргуновской почтальоны разносили кому газеты с журналами, кому – телеграммы, кому – извещения о денежных переводах.
А денег в нашем доме не было. Да и откуда бы они взялись? Отец с матерью – инвалиды, отцу пенсию начисляли, матери – нет, домохозяйка. Жена приболела, платили ей пол-оклада, на троих с сыном у нас получалось семьдесят рублей. Шёл расчёт на прожитьё каждого дня.
Мужской клуб у нас располагался в пивном автомате на Королёва, шесть, зайти туда для общения я мог, только имея двадцать копеек на кружку пива.
…Тоже мне драма, скажете вы, и будете правы.
Наши танки стояли в Праге, способные на поступки люди страдали в лагерях, а тут вы со своими двадцатью копейками!
Внезапно объявившаяся Хрюшка предлагала мне, и не раз, по десять рублей, а я их не брал. Знал, что отдать будет нечем. Быть же должником кого-либо или чего-либо, я полагал, в нашей профессии не только безнравственно, но и просто невозможно, это ведёт к благооправдательным компромиссам.
Я писал тогда роман «Происшествие в Никольском». Четверо подростков в подмосковном городке изнасиловали свою приятельницу. Правовые люди дело закрыли. То ли получив взятку от родственников парней, людей влиятельных и благополучных, то ли по какой-то иной – высоконравственной, государственной причине, и героиня романа Вера Навашина сама вынесла приговор обидчикам, прощённым сильными мира в районе…
Многим зрителям нынешних кинофильмов этот сюжет может показаться знакомым. Отчего бы и нет… Сообщу только, что свой роман я закончил в 1972-м году, и что у Веры Навашиной не было стрелкового оружия, а взяла она с собой к предполагаемому месту отмщения нож, и нож этот, уже занесённый для удара, отбросила, потому как поняла, что и негодяев, смявших её судьбу, лишить жизни она не может…
Роман я отнес в «Юность», казавшуюся мне тогда вторым домом. Там его забили отрицательными суждениями членов редколлегии. В частности и со словами: «Не отражена роль общественности…» Через десять лет на каком-то юбилее жена моя поинтересовалась у Бориса Николаевича Полевого, отчего он не стал печатать «Происшествие в Никольском», он сказал: «Струсил. Виноват, но струсил».
С робостью («со страхом и надеждой») отправился я в «Новый мир», самый остро-социальный наш журнал второй половины двадцатого века. Роман там прочитали и одобрили. И не только одобрили, но и заключили со мной договор и стали готовить текст к публикации. В редакторы мне была определена (и согласилась ею стать) Анна Самойловна Берзер. Сама Анна Самойловна Берзер. Она была редактором «Одного дня Ивана Денисовича» и других прозаических публикаций Солженицына в «Новом мире», «Матрёнина двора», например. В волнении, естественно, пребывал я в ожидании разговора с Анной Самойловной. Но текст мой, приготовленный редактором к набору, меня удивил, он был урезан и утихомирен. «То есть вы, Володя, – сказала Берзер, – правку мою не принимаете?» «Я могу согласиться или не согласиться с чьимилибо пожеланиями, – пробурчал я, – но чужой текст принять я не могу». «Значит, вы не хотите, чтобы ваша вещь была бы опубликована… – произнесла Анна Самойловна с жалостью к автору. – Прошу тогда расписаться на каждой странице и пометить: “С правкой редактора не согласен”». Дня два у меня ушло на отчётливое выведение этих самых слов: «С правкой редактора не согласен».
Рукопись передали другому редактору и в конце концов она ушла в набор, и даже были определены два номера «Нового мира» 1974 года для публикации «Происшествия в Никольском». А в семейный бюджет поступила четверть предполагаемого гонорара. Но тут я заскочил вперёд, будто позабыв о посещениях неизвестной мне Хрюшки домика на Аргуновской улице. Хрюшка же снова была готова обеспечить меня то десятью, то двенадцатью с копейками рублями. А в том «впереди» и в издательстве «Советский писатель» роман отправили в типографию. Правда, было соблюдено условие: ни в какой сопроводиловке, ни в какой аннотации не употреблять слово «изнасилование». Иначе директор издательства Н. В. Лесючевский разогнал бы редакцию русской прозы. А слово это и не определяло сути романа, было его частностью. Сошлись на выражении – «драматический случай». (Позже в ситуации с «Альтистом Даниловым» от того же Лесючевского упрятывали слово «демон»).
Не ради красного словца я написал выше о двадцати копейках. Продуктов для домашнего благополучия я мог закупать в день на рубль. От силы – на полтора. Грела надежда: вот напишу «Происшествие в Никольском», и тогда, возможно, произойдёт улучшение семейной, как нынче говорят, продуктовой корзины, тогда бы сказали – продуктовой авоськи, без которой не выходили из дома учёные жизнью граждане. А меня взяли и забрали в армию.
И лейтенантом отправили на китайскую границу. В Алма-Ате, после боёв на Даманском, а потом и в Казахстане в Джунгарских воротах на заставе Жаланашколь (1969-й год) создавали новый Средне-Азиатский военный округ, и я потребовался для его укрепления.
Никакого желания побыть лейтенантом я не ощущал, понимал, что могу и не дописать «Происшествие», а главное – болезни ближних требовали моего присутствия в Москве. Но мне объяснили, что я не один ерепенюсь, а всё равно будут отправлены (или уже отправлены) во Львов, в Прикарпатский округ, – Андрей Вознесенский и Володя Костров, – в Тбилиси, в округ Закавказский, – Евтушенко, – назывались и ещё какие-то имена и округа, их я уже не помню.
Меня, по военному билету, общевойскового офицера, то есть лейтенанта мотопехоты, отчего-то прикомандировали к лётной дивизии. Новые сослуживцы и соседи мои по койкам сразу же стали приятелями, по вечерам играли в «буру», а по утрам вылетали в приграничные китайские небеса, и воем подвешенных к крыльям болванок пугали и так запуганное оголодавше-нищее население. Очень скоро начальство убедилось, что ни авиации, ни мотопехоте в их доблестях вспоможения я не окажу, и меня перевели в окружную газету «Боевое знамя». Воинство в округе собралось удалое, многие из моих новых знакомых два года назад брали Прагу, теперь на стволах орудий и танковых башен писали масляной краской: «Дембиль через Пекин!» и были уверены в том, что до прогулок по площади Тяньаньминь потребуется не более шести часов лёта. Китайцы уже не дерзили, разумные люди, своего добились через тридцать с лишком лет вежливыми переговорами, и теперь окровавленный Даманский – их земля. То есть от меня не потребовались ни отвага, ни подвиги, а я уже был к ним готов, пошла тихая маета отбывания времени в обязательных рубриках младшей сестры «Красной звезды», где, как бы ни старались внимательные стражи, наборщики непременно из «военно-полевых» учений создавали учения «военно-половые». Чтобы не скучать, я решил подтвердить, – вышло – на свою шею, – репутацию столичного газетчика и написал четыре очерка, из-за которых чуть ли не остался в армии надолго. Хотя бы и на два года. Это могло произойти запросто. «Двухгодниками» из гражданских тогда начали забивать вакансии и дыры после Хрущевских шальных сокращений. Я приуныл. В Москве никто не мог мне пособить. И совершенно неожиданным, косвенным, конечно, высвободителем из несвойственного мне армейского состояния оказался (уж не знаю, в каком он звании был, раз диплома не имел, сержанта, наверное, в лучшем случае) Евгений Александрович Евтушенко, мой «земляк» по Мещанским улицам. По легенде, после публикации в «его» окружной газете поэмы Е. А. «Пушкинский перевал» был снят за крамолу её редактор, некий полковник. В Алма-Ату известие об этом донеслось немедленно, на меня стали смотреть с подозрительным недоумением: ну, и что, пусть стихов и не пишет, а вдруг возьмёт и тоже выкинет какое-либо похабное коленце? И я был возвращен в цивильное состояние и отпущен в Москву.
На Казанском вокзале меня встречали жена и сын. Шёл мокрый снег. Я вернулся отощавший и с долгом в пять рублей (на нужды четырёх суток дороги) блестящему гусару и журналисту Володе Лелюхину. Эти пять рублей долга до сих пор бередят мне душу. Но встретиться с Лелюхиным позже не удалось…
В мокрый снег босиком вышел из вагона и здоровенный мужик, путешествовавший с нами из восточных земель в Москву, высокомерно и даже брезгливо раздвигавший всех, мешавших его движению в проходах вагонов, а за ним семенили чуткие послушницы, со смиренными будто бы взглядами, но сохранявшие пластику бёдер и остроту глаз охранительниц. Мужик был полуголый, в спущенных ниже колен белых, но давно не мытых подштанниках, пах дурно, однако такая уверенность в своём подвиге и в своём историческом предназначении исторгалась из него, что и расталкивание им мелкостных людей воспринималось, как милость утомлённого суетой пророка.
«Порфирий Иванов! – шептали ему вслед. – Сам Порфирий Иванов!»
…Я ощутил, что ехал со мной в одном поезде шарлатан. Хотя, возможно, в случае с Порфирием Ивановым я и ошибаюсь. Допускаю, что он был бескорыстным чудаком, с идей и с сомнительным учением. Но сколько потом я наблюдал шарлатанов, и в особенности, сколько теперь я наблюдаю шарлатанов, иные из них в отличие от Порфирия Иванова и вовсе не носят нижнего белья, о чём одаривают знанием население своей дурацкой страны, расположенной за пределами известного шоссе. Им, убежденным в своей миссии, пророческой ли, коммерческой ли, по завоеванию простаков или халявщиков, с их средствами, можно только позавидовать. И в этом их функция и выгода.
Пребывание в армии, любой пишущий всерьез человек меня поймет, разорвало моё проживание внутри романа, я вышел из «Происшествия в Никольском» и смог вернуться в него лишь через год.