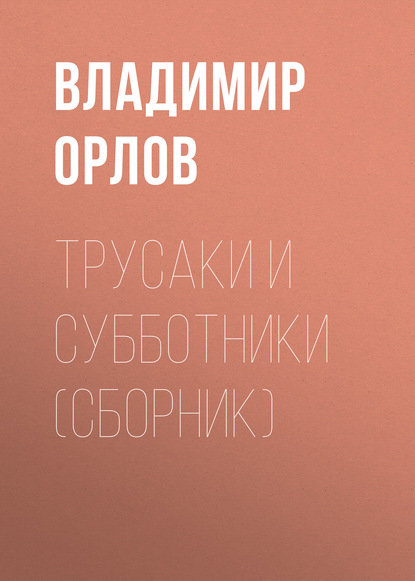По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трусаки и субботники (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Пожалуйста… Но я не хотел никого обидеть, – стал вдруг оправдываться Миханчишин. – Ни автора, ни собравшихся… И скандала не хотел… Просто желал вызвать свежий взгляд на проблему…
Я чуть было не пустил в ход правую руку, но посчитал, что для моей руки Миханчишин запретительно невесом и тщедушен. Да и после слов Ахметьева мое действие могло быть признано глупейшей и запоздалой выходкой.
– Буду очень удивлен, если отыщутся для тебя секунданты.
– А ты-то еще что? – обернулся Миханчишин, скривился, в глазах его читалось: «Фу, а это-то ничтожество что лезет?» – Ты небось крысишься на меня из-за этой… из-за Цыганковой?
Я прошел мимо Миханчишина.
В коридоре продолжали толковать о случившемся. Не все бранили Миханчишина, на взгляд иных, пусть он и в эксцентричной форме, может быть, как раз именно эксцентрикой заставил задуматься над жизнью серого человека, не романтического героя с ударных строек, а соседа каждого из нас. «А то мы о них не помним!» – отвечали им. «А каково он заявил про Ахметьева-то! Про царя-то в его голове!» – восторгался кто-то. Две дамы из Группы Жалоб обогнали меня: «У Цыганковой-то этой под юбкой ничего не было! Ты видела? Она как взвизгнула, ноги подтянула…» При чтении письма были случаи, когда смеялись и даже взвизгивали, но я, если помните, не позволял себе смотреть в сторону Цыганковой. Неужели были поводы и для ее смеха?
Печально, что я навязываю Вам свои настроения, но ходил я в тот день удрученным, размышлял о скверностях жизни и не желал возвращаться домой. Думал же я не о Миханчишине с Ахметьевым (ни в какую дуэль я, естественно, не верил, слово названо – и достаточно), ни о Цыганковой, ни даже об Обтекушине, а о своих родителях, хлебопеке Кирсанове и его жене.
Кирсановы были соседями, жили в квартире номер три на нашей же лестничной площадке. Мишка Кирсанов учился со мной в одном классе. Верка, сестра его, была годом старше, Васек, мой тезка, отстал от Мишки на семь лет. На пятерых им было отпущено шестнадцать метров (всего же в их квартире, без удобств, на сорока двух метрах жило четырнадцать человек). Мы по сравнению с Кирсановыми были буржуи. Трое (моя старшая сестра давно вышла замуж за летчика и полковницей проживала в Приполярье) – и пятнадцать метров! (Отец – инвалид войны и пр., но эти-то наши просторы и мешали отцу получить жилье в райисполкоме, а он, зная положение тех же Кирсановых, не слишком и выбивал улучшение.) А в тот день я осознал, что и моим старикам, и Кирсанову с женой жилось ничем не лучше, чем бедолаге Обтекушину. И они были старомодно воспитаны. И мои родители, тогда они и не были никакими стариками, я учился в четвертом классе, выстраивали в комнате ширму, отец сваривал металлические трубы, обтягивал их толстой обивочной материей, говорил матушке довольно: «Ну вот, Надежда, у нас теперь и опочивальня…» Матушка же косилась на меня, ворчала полушепотом: «Ну что несешь, дурачок, при ребенке-то…» Помню ночные шумы, скрипы и стоны. И утренние опасливо-виноватые поглядывания на меня. Помню визиты к нам Кирсановых, перешептывания отцов или матерей словно бы в темных углах, а за ними выгулы меня и ребятни Кирсановых под присмотром моих родителей в кино или парк ЦДКА в Самарском переулке. Помню перебранки на весь двор в обычно мирной семье Кирсановых. Верка требовала купить ей пианино. Мирра Наумовна, одна из соседок по квартире, пианистка с консерваторским образованием, сын ее Артем уже мучил скрипку, услышала в Верке способности (теперь Верка – хормейстер). Хлебопек Кирсанов (знаменитая пекарня на Сретенке у Просвирина переулка), трезвенник, розовый колобок, деньги имел, Мирру Наумовну уважал и купил инструмент. Как же кричала Кирсаниха при воздвижении пианино (второго в квартире) в их комнату: «Что ты творишь! Кабыздох недожаренный! А нам с тобой теперь на этой черной крышке, что ли…? Или чаще Куделиным в ножки кланяться?» Видимо, и кланялись. Меня с кирсановским молодняком не реже отправляли в «Форум», «Уран» и в парки. Стеснения отца с матушкой, Кирсановых, неловкости их бытия до меня, конечно, доходили. Но для меня они были из разряда, как теперь говорят: «Это их трудности». Что я понимал, идиот? Ну, нехорошо, тяжко, но ведь все так живут, в наших домах по крайней мере. Главное, чтобы не было войны. Сыты, обуты, а вот у Кокошкиных дети бегают в рваной обуви. Я мечтал о велосипеде. Но в семье нашей не сыскалось денег на велосипед. Ничего, я вырос и без велосипеда. Отсутствие собственной конуры меня пока не удручало. К тому же меня призывали жить аскетом, презирать быт, канареек в клетке, цветы герани на подоконнике. Сочувствие же к неловкостям существования отца с матерью было все же умственным, а если принять во внимание мои годы, и высокомерным. Со мной-то все будет по-иному…
Теперь же на Часе интересного письма меня словно бы зашили в шкуру отца и хлебопека Кирсанова. И надо мной смеялись. И я почувствовал, что главной скверностью в жизни отца (и матушки, и Кирсановых) было не томление организма (оно-то могло приносить и радость), а томление стыда. Любить тела друг друга им приходилось с ощущением стыда. Вся их любовь была сплошным стыдом, сплошным срамным делом! Стоило ли так жить? Но жили, жили!
А мое-то успокоение самого себя: «Со мной все будет по-иному»? Блажь простака, плавающего в киселе из лепестков роз! Сколько раз Вика Корабельникова уговаривала меня пригласить ее в Солодовников переулок. И даже познакомить ее с моими родителями. Ни разу не подвел я ее к своему дому. Мне было стыдно за наш дом. Но выходило, что я стыдился и своих родителей.
Понятно, не одни лишь чувство стыда и уязвленность гордыни привели к нашему с Викой разрыву. Я почувствовал опасность и неизбежность лишней для меня кабалы. «Не суйся, куда не следует…» И я ожег себя раскаленным железом. Я перестал встречаться с Викой и не отвечал на ее звонки. Я будто бы завел другую… Значит, не было любви. Она бы смела все. Спалила бы и меня.
Но способен ли я на любовь?..
Я уже сообщал, что снять копию с синей тетради не попросил. Было бы тогда в этом что-то неприличное. Но адрес Обтекушина я записал. Сам не знаю зачем.
Оказалось, что живет Обтекушин недалеко от меня, на полдороге от моего дома в газету, а именно в переулках Октябрьской (бывшей Александровской) улицы, за МИИТом. И очень может быть, мы с ним где-нибудь встречались – в магазине, на Минаевском рынке, в бане или у бочки с квасом.
Ну, встречались, оборвал я свои соображения, ну и что!
Поднявшись в Бюро Проверки, я услышал от Зинаиды Евстафиевны неожиданное. Завтра я должен явиться в редакцию к десяти утра. Разъяснений не последовало. А я спрашивать о чем-либо начальницу не стал.
11
В десять утра Зинаида уже сидела в своем кабинете и держала в руке, к моему удивлению, томно-розовый том Жорж Санд, к сему автору она, как помнилось, относилась чуть ли не с фырканьем: «Ей бы наши заботы!»
– Дел-то у нас, Василий, – сказала начальница, – часов до трех, как всегда, не будет. Почитай что-нибудь развлекательное. Но комнаты своей не покидай.
– Это отчего же? – удивился я.
– Будут вызывать, – сказала Зинаида.
– Куда? И зачем?
– Узнаешь…
– И вас будут вызывать?
– Мое дело прошлое, – мрачно сказала Зинаида. – Не ерзай и не нервничай. Не одного тебя, надо полагать, будут вызывать. В этом деле нет ничего особенного. И фингал свой можешь не занавешивать. Он почти и выцвел… Что бы это значило? Кому я понадобился? В военкомат я являлся, как идиот, в назначенные повестками минуты (как выяснилось позже, таких дурацки добросовестных офицеров запаса было мало). Никакими провинностями я не мог обрадовать участкового, местного благодетеля Анискина, и уж тем паче отделение милиции. Или вдруг кто-нибудь сочинил жалобу на меня, но не на Масловку, а куда-нибудь ближе к Кремлю? Сосед Чашкин мог. О гражданских безобразиях по месту жительства…
Я взял в библиотеке том «Падения царского режима», но и показания Вырубовой (правда, читанные мной не раз) не смогли отвлечь меня от паскудных соображений.
Встал и побрел в кабинет начальницы.
– Зинаида Евстафиевна, – сказал я, – вот вы тоже маетесь бездельем. Взяли бы и поведали мне историю тридцать девятого года. Как наш удалец, то ли Волгин, то ли Енисеев, стал Героем Советского Союза по списку Берии.
– Вовсе и не по списку Берии, – протянула Зинаида, не глядя на меня, – а по списку полярников, но будто бы по просьбе Берии…
Она сейчас же спохватилась:
– Ты что, Куделин? Что ты себе позволяешь? Почему ты придумал спрашивать о Деснине именно меня?
– Все уверены, что вы знаете об этой истории лучше других…
– Кто тебе сказал такую чушь? Небось этот прощелыга Комаровский! Он только и умеет, что сажать футболистов! Ты, Василий, более никогда не спрашивай меня об этом.
– Вы, Зинаида Евстафиевна, добрейший по сути человек, а гремите, как Манефа у Островского. Хоть фамилию услышал – Деснин. А то все Волгин или Енисеев…
– Я сейчас тебе такую Манефу покажу, паршивец! Истинно Глумов! Простоты в тебе много, а мудрости – заметка курсивом. Вон в свою комнату и сидеть в ней, пока не вызовут!
Теперь я взял в библиотеке (она у нас была богатейшей) подшивки за месяц «Советского спорта». Но все эти голы, шайбы, сицилианские защиты, маты в четыре хода отлетали от меня вслед за фрейлиной Вырубовой и редактором-секретарем следственной комиссии Александром Блоком, не нуждающимся еще в пайках. Да что это лезет мне в голову, отчего именно сегодня я поперся к Зинаиде с интересом к истории Героя-самозванца тридцать девятого года, обманувшего Берию (хоть фамилию узнал, надо полистать довоенные подшивки газет, не наткнусь ли я в них на корреспонденции Деснина?).
Я попробовал вернуться мыслями к Обтекушину. Неужели он впрямь жил таким бесхитростным, каким выглядел в письме? Неужели не был способен на выдумки и ухищрения? А я, что ли, способен на выдумки и ухищрения? Такой же придурок!.. Но стал бы я составлять временной график пребывания людей – хозяев и гостей – в комнате родителей жены? Нет, до такого занудства я вряд ли дошел бы. Но до своего занудства дошел бы… А как смаковал интонациями график декламатор Миханчишин!
Сидеть мне надоело, я спустился в буфет. Взял кофе, на пиво мелочи у меня не хватало. Но я увидел, что Петя Желудев, истовый пивник, пьет кефир, будто опасается огорчить какого-либо собеседника вызывающим размышления запахом. «И его, что ли, будут вызывать?» – задумался я. Предчувствие какой-то дряни и ледяной неизбежности коснулось меня. И тут я ощутил, как я одинок и на шестом, и на седьмом этажах, и во всем здании архитектора Голосова. И посоветоваться или поделиться своей тоской мне было не с кем. Не с Цыганковой же. Пожалуй, один Марьин был мне сейчас, неизвестно почему, близок, я спросил бы его кое о чем, но я не нашел Марьина. В пустоте коридора шестого этажа я углядел Башкатова, он несся с бумагами к двери машинописного бюро.
– Пусто и тихо вокруг, – сказал я. – С чего бы это?
– Доктор Пилюлькин зубы рвет, – рассмеялся Башкатов, он что-то жевал, крошки полетели из его рта.
– А чему ты радуешься?
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: