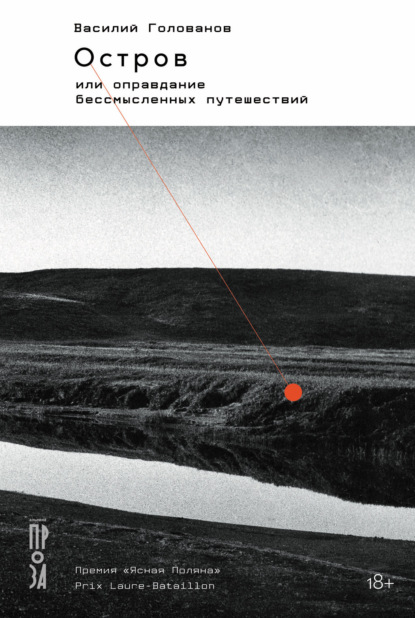По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Остров, или Оправдание бессмысленных путешествий
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А что рассказывать? Разве он сам не знает?
Филипп Васильевич виновато улыбается, зовет к себе: «немножко выпить есть». Это знак высочайшего благорасположения. Когда он, наконец, убеждает Филиппа не расточать это благорасположение понапрасну, тот снова извинительно улыбается:
– Она еще расскажет… Просто все бабы, они смотрят… это кино…
Они расходятся. Пожалуй, кружок по поселку: чтобы придти в себя и понять, кто он сам-то, черт возьми – Беглец, Фотораф или двухпалубный фрегат, на подходе к острову сдуру распустивший все паруса и в результате налетевший на мель с такой помпой, как будто выполнил сложнейший тактический маневр? Да, народец здесь странный. Вот что буквально он прочел в глазах старухи: «хочешь стянуть у меня слова об Аде и Володе, хочешь, чтоб я отдала тебе их, а потом добавить своего вранья, сшить все это и продать, как хорошую шкуру?»
Норовистая бабушка, ничего не скажешь. Но откуда она знает, что он не вор? Она может не знать. Имеет полное право не знать. А объяснять… Как это объяснишь? Остров дрейфует, ничто не остается неизменным, все меняется со скоростью мультипликации. Вот, например – существует человек как замысел. Замысел художника или замысел Творца, которому и мы, и сам этот человек вольны верить или не верить. Неисполнение замысла есть трагедия или комедия, во всяком случае, сюжет длиною в краткую человеческую жизнь, в тридцать лет.
Художник – всегда максималист, он не желает считаться с условностями и обстоятельствами жизни. В своем предначертании будущего он безаппеляционен, как Бог, сотворяющий человека для высокого служения. И так появляется Стрелок – мальчик, натягивающий тетиву лука на холме, вольный сын природы, Великий Кочевник, свободный, как птица… Понимает ли он, что ему даруется судьба, служение, записанное на звездной скрижали неба? Стрелец: пять звезд, пять знаков, проступающих темной ночью голубоватым мерцанием в глубине окружающей нас великой загадки; страж тьмы, метеоров, проносящихся мимо с сухим шорохом, льдистого поблескивания огромных холодных планет, кружащих в вечном сумраке далеко от Земли. Увы, запись не прочитана, пророчество не исполняется. Проходит лет двадцать пять. И в какой-то из вьюжных дней – вернее ночей, ибо полярная ночь уже наступила – Стрелок, ставший начальником вертолетной площадки в Бугрино, выпивает лишнего, и тут вдруг рация оживает, во тьме слышится хрип, хруст, пеленги и ему на голову сваливается борт, везущий какое-то начальство. И он выходит с лампою во тьму, чтобы быть маяком пилоту; но то ли ветер слишком суров, то ли выпитый спирт слишком крепок – его носит по дощатому настилу от края к краю; он пытается удержаться на ногах, усердно сигналит лампой, но – гром и молния! – бушующий грохот винта опрокидывает его, он падает…
Впрочем, неглубоко. Становится работником местной станции радио-телевизионной связи. Включив паяльник и дымя канифолью, сидит среди серых металлических аппаратов, черных ручек, светящихся шкал. Курит папиросу, вслушиваясь в невнятные позывные и шорохи мира. В радиотехнике он понимает не очень, но все же достаточно, чтобы надеяться унаследовать все это хозяйство от ворчливого богатыря со шкиперской бородой, который собирается – в который уж раз! – бросить все и уехать на родину, в Питер, а пока старательно чинит все подряд – часы, электрочайники, радиоприемники и телевизоры, понимая (или не понимая?) что в северной столице вряд ли кому понадобится его островное умение, ибо там никто не ремонтирует уже все эти «Спидолы», «Рубины», «Темпы» и «Каравеллы», которые он на острове изучил, как свои пять пальцев…
Вправе ли мы предположить, что Стрелок прожил жизнь свою не так, как нужно было, обжившись в половине барачного дома, родив четверых детей и выстроив, к тому же, баню во дворе? Более того – разве обязан он был лишь за то, что однажды силуэт его с луком в руке запечатлен был художниками – дорисовывать свою жизнь по их эскизу?
Нет, обязательств такого рода безумием было бы требовать от него, ибо мы знаем, мы усвоили, что человек свободен…
Если бы еще понять – в чем?
И можно ли задавать такие вопросы без риска впасть в хамское высокомерие по отношению к человеку, который с первого слова доверился и обрадовался тебе?
И можно ли совсем не задаваться такими вопросами?
Где тот чудный остров, о котором ты рассказала, Ада?
Где прекрасная ясность Севера, где все эти люди – Уэско, Таули, Иде – или с ними стало то же, что со Стрелком, а имена их выцвели и стали обычными русскими именами? Где юная красавица Ларчи, которая когда-то, плененная невиданной красотой Анны Маньяни в итальянском фильме, каким-то чудом угодившим на остров, в белых туфельках-лодочках мечтательно прогуливалась по пляжу по подмерзшей пене прибоя? И где тот пляж, по которому без риска распороть или сломать себе ногу можно было прогуливаться в туфлях, а не в кирзовых сапогах? Где тот маленький гостеприимный поселок, Ада? Или за тридцать лет он успел превратиться в зону бедствия, разросся и расползся, как гниющее мясо? Где фактория, Ада? Где мореходный бот? Где олени, упряжки, игры, беспечный смех, песни? Скажи – все то, о чем ты написала, неправда? Скажи честно, Ада! Или за тридцать лет все так изменилось, что твоим словам невозможно поверить?
Шагая, он чувствовал щемящую боль в сердце. Снова стал накрапывать дождь. Неожиданно он скорее почувствовал, чем услышал, легкие нетвердые шаги, дрожь которых догоняла его по мосткам. Он обернулся, увидел сзади две женские фигуры. Чуть-чуть прибавил ходу: шаги отстали. Запереть дверь в гостиницу было нельзя (запиралась только его комната) и едва он успел поставить на кухне воду, чтобы сварить вермишель с тушенкой и, наконец, поесть, как те же самые шаги – легкие, почти крадущиеся – раздались в коридоре. Женщины остановились на пороге. Одна лет тридцати, с забинтованным ухом. Другая постарше.
Долго молчат. Потом старшая с сердцем вздыхает:
– Молодой человек, сто грамм.
– Нет. У меня ничего нет. Ни грамма. Даже одеколона…
Молча глядят на него. Молодая понимает, что дело не выгорит. Просит воды. Жадно пьет сырую желтую воду, что он натаскал днем из болота.
Старая, еще надеясь, издает стон:
– Есть сёмга, сёмга…
Все рушилось к черту.
Он поел и, чтобы не дать задушить себя отчаянию и жалости к этим людям, взял дневник. Толстую серую тетрадь, уже вполовину исписанную: он слишком долго добирался сюда и слишком дорогую цену заплатил, чтобы плюнуть на все и – поскольку улететь пока все равно не удастся – тупо ждать вертолет с ощущением, что мечта обманула его. В этом было бы что-то до невозможности пошлое…
Нет. Старуха права, и даже в пренебрежении ее, граничащем с презрением, несомненна правда: если уж ты прибыл на Остров, то будь добр, попытайся, добудь что-нибудь сам, а нечего хватать объедки с чужого стола, нечего совать нос в чужое прошлое…
«…Ада и Володя совершили великое дело: они сотворили миф. И если уж ты попался на эту удочку, то тебе ничего не остается, как сотворить свой. Ведь выбора нет. Ты вовлекся? Вовлекся. Испуг миновал. И уже мысленно ты разметил этот остров по системам координат, вписал в пробел между малой планетой Колга под № 191 и индийским княжеством Колхапур в „Ларуссе ХХ века“… Остров собрался для тебя из разрозненных кусочков: из книги Ады и рисунков ненецких детей; завязавшихся знакомств; пережитых страхов и тех мимолетных мгновений истины, когда солнце вспыхивает над морем и кажется, что из глубин его всплывает огромное зеркало…
Пожалуй, этого маловато для мифа, но достаточно для того, чтобы покончить с бегством. Потому что это убегание в никуда – обычная для расщепленного сознания развилка, бесконечно двоящийся путь, который в любом случае заканчивается тупиком.
Миф – свобода, красочность, цельность. Осмысленность.
Попробуй-ка, добудь это здесь, на свалке человеческих судеб; попробуй, отыщи что-нибудь стоящее там, где с первого взгляда всё внушает лишь отвращение… Но ведь Ада смогла? Смогла. И Корепанов смог: полюбить этот остров вопреки всему. Похоже и у тебя нет шанса кроме любви: может быть именно ты, Беглец, лучше других поймешь это…»
Похоже, само написание слов успокаивало его. Покончив с записями и захлопнув дневник, он выглянул в окошко кухни: в голубоватом сумраке ночи трава под окном казалась черной, только ромашки мелкими звездочками белели в ней.
Около полуночи он вдруг услышал, как где-то вдали оборвался привычный звук работающего дизеля. Тотчас же погас свет. Тогда он встал, надел куртку, шапку, рассовал по карманам нож, спички и сигареты, замкнул дверь своей комнаты и вышел из гостиницы. Чтоб не попадаться никому на глаза, сразу спустился к морю, но, кажется, предосторожность была излишней: поселок спал. Он был один, совершенно один на пляже. Море опять отступило, обнажив расставленные у берега камбальные сети с застрявшей в ячеях морской травой. Над морем тихо светила луна. В её свете серый песок под ногами казался голубоватым и он ступал осторожно, словно боялся пробудить звуки дня и нарушить хрупкую тишину ночи.
Он пошел в сторону реки, где еще не был. На высоком берегу за поселком на фоне глубокой, но прозрачной синевы неба заметил несколько надмогильных крестов, а едва миновав их, на песке перед собою – остров деревянного карбаса, собственно говоря, только крепкий деревянный киль, вытянутый словно позвоночник выброшенного на берег кита. Поблескивая жесткими лезвиями, шевелилась под ветерком трава. Вскоре высокий берег отступил и он очутился на длинной низкой песчаной косе, в устье речной долины, отороченной темными холмами, из-за которых будто жидкое олово изливалась река, устремляясь к морю. Море было ровно, как лед, и только вдали, в гуще ночного сумрака, раздавались глухие удары прибоя на отмелях.
Невероятным спокойствием веяло от этого пейзажа. Он прошел немного вглубь острова вдоль реки и, добравшись до высокого берега, влез на холм, ища укрытия от сквозящего долиной реки холодного ветра. Здесь было несколько ям, похожих на следы то ли землянок, то ли окопов. Забравшись в одну из них, он закурил. Он сидел так долго, куря сигарету за сигаретой. Постепенно небо светлело: в темную голубизну ночи просачивался с севера чистый желтый свет восхода. В этом свете все четче проступала уходящая вдаль плоскость тундры, на самой границе которой, у горизонта, неровным серым изгибом застыли далекие горы. Он почувствовал, что ему надо туда. Туда, во что бы то ни стало: там билось сердце острова, там, быть может, ждала его собственная легенда.
Жгучий холод возвестил о начале нового дня. Он взглянул на часы: было два часа ночи.
Он чувствовал, как при виде первобытных стихий, сходящихся здесь – темной бугристой земли, разгорающегося неба и воды, которая, причудливо отражая краски небесной палитры, сплетая желтый с голубым, вновь казалась огромным волшебным зеркалом – постепенно нарастает в нем странное чувство. Может быть, причиной была крайняя усталость, которая, наконец, навалилась на него, а может быть, в самом деле невероятны были краски этой лунной ночи на краю земли – но только вдруг он ощутил, что узнает Север – тот Север, которого никогда не видел, но по которому не переставал тосковать… Будь у него с собой «Саламина» Рокуэлла Кента, он бы не удержался, и возложив книгу, словно на алтарь, на плоский сколок песчаника, прочел бы вдохновенный гимн, неясными, счастливыми и грозными словами которого звучала его душа: «Господи, я люблю эту бесплодную землю!»
Перед ним был мир без границ. Мир легенды. Мир художества. Мир свободы.
Свобода столь же мало нуждается в определении, как любовь. И так же много значит. Это требование природы, Требование прорыва, броска; именно броска как прыжка: ты прыгаешь, ты решаешься, и тебе дела нет, осознана ли другими эта необходимость. Ты преодолеваешь все страхи – и, собственно, дальше не имеет значения уже ничего – разобьешься ты или нет, правильно или неправильно ты поступил. Потому что ты поступил – именно в этот, редчайший в жизни раз – отбросив всякие опасения. Вот это и есть свобода…
Кутаясь в куртку, продрогший до костей, двинулся он в обратный путь, теперь уже различая на песке следы заигравшегося ветра, следы, которые оставляет вода в своем попятном движении к морю. Эти следы, эти узоры казались ему значительными, как непонятные древние письмена. Но разве не древнейшие ваятели без устали творили их, покрывая песок тончайшей сканью – кажется лишь для того, чтобы через несколько часов, смыв сотворенное приливной волной, вновь приступить к работе, играючи бахвалясь друг перед другом своим мастерством?
Он вернулся в гостиницу смертельно усталый и совершенно счастливый.
На следующее утро весь поселок знал, что к ним приехал чужак из Москвы, который расспрашивает про Аду и Володю. Нашлись даже такие, что не прочь были поделиться воспоминаниями о былом, но когда его хватились, оказалось, что он исчез.
Кто-то видел его возле пекарни, загружающим хлеб и дрова в вездеход, отправляющийся к оленеводам в тундру. Действительно, через три дня он вернулся, сидя на крыше вездехода вместе с детьми бригадира, Егора, которые после лета, проведенного в тундре, возвращались в поселок, чтобы через день-другой спецрейсом улететь в интернат в Нарьян-Мар. В тот же вечер его видели пьяным вместе с Михайлычем, начальником станции космической связи. Михайлыч сказал, что спирт его был хорош, но сильно отдавал резиной от пробки фляжки.
Больше ничего о Беглеце неизвестно.
Неизвестно, зачем он ездил в тундру и что там произошло. Там была горячая работа, много парней, много оленьей крови. Случиться могло всякое.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: