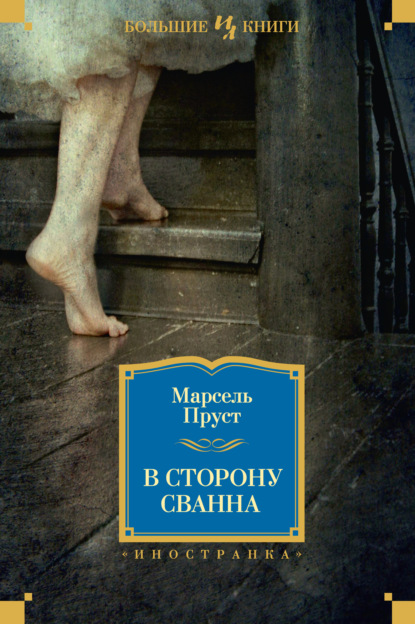По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В сторону Сванна
Автор
Жанр
Год написания книги
1913
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Меня это не удивляет, – замечала тетя, возводя глаза к небу. – Я всегда говорила, что она без царя в голове. Вот уж не хотелось бы мне сейчас вместо нее под дождь.
– Госпожа Амеде у нас особенная, – кротко отзывалась Франсуаза, приберегая до случая, когда будет разговаривать с другими слугами, соображение, что у моей бабушки «не все дома».
– Уже и Святые Дары выносили! Не придет Элали, – вздыхала тетя. – Побоится, в непогоду-то.
– Да ведь еще нет пяти часов, госпожа Октав, еще только полпятого.
– Полпятого? А мне уже пришлось поднять занавески, а то тьма-тьмущая. И это в полпятого! Перед самым Вознесеньем, за неделю до молебнов![108 - Перед самым Вознесеньем, за неделю до молебнов! – В католической традиции Вознесению предшествует трехдневный молебен об урожае с шествием, по-французски – Rogations.] Ах, Франсуаза, милочка, видно, Бог и впрямь на нас прогневался. И то сказать, люди в наше время чересчур распустились. Как говорил мой бедный Октав, Бога забыли, вот он кары на нас и посылает.
Жаркий румянец заливал тетины щеки: являлась Элали. К сожалению, не успевала она войти, как Франсуаза возвращалась в комнату с улыбкой, соответствующей, по ее разумению, той радости, которую неминуемо вызовут у тети ее слова; она отчеканивала каждый слог, чтобы показать, что вот она, пускай косвенной речью, передает, как положено хорошей прислуге, те самые слова, которыми соблаговолил воспользоваться посетитель:
– Господин кюре почтет за честь и удовольствие повидать госпожу Октав, если она не отдыхает, конечно. Господин кюре не хотел бы оказаться в тягость. Господин кюре внизу, я его в залу свела.
На самом деле визиты кюре не так уж радовали тетю, как представлялось Франсуазе, и ликование, которым всякий раз с готовностью расцветало ее лицо, когда она докладывала о кюре, не вполне соответствовало чувствам больной. Кюре (превосходный человек – жаль, что мне не так уж много привелось с ним беседовать, потому что, ничего не смысля в искусстве, он знал зато множество этимологических толкований[109 - …множество этимологических толкований… – В конце XIX в. во Франции была в большой моде этимология – наука о происхождении и эволюции слов, и в частности ономастика, изучающая с этой точки зрения имена собственные – географические названия (топонимия) и личные имена (антропонимия). Топонимия, новая дисциплина, связанная с исторической географией, занимает больше всего места в романе. Подчас этимологические изыскания принимали несколько карикатурные формы, чем и вызвано ироническое, на грани пародии, освещение этой темы у Пруста.]) привык сообщать видным посетителям сведения о комбрейской церкви (он даже намеревался написать книгу о приходе Комбре) и своими длинными, до бесконечности повторявшимися объяснениями утомлял тетю. А уж когда он приходил одновременно с Элали, его посещение оказывалось ей и вовсе некстати. Ей больше хотелось насладиться обществом Элали, а не принимать всех гостей разом. Но она не смела отказать кюре и только намекала Элали, чтобы та задержалась после кюре и посидела еще.
– Господин кюре, а что это говорят, у вас в церкви какой-то художник установил мольберт и пишет копию витража. Я вон уже до каких лет дожила, можно сказать, а такого не слыхивала. И чего только люди не выдумают в наши дни! Да витражи – самое безобразное, что есть в нашей церкви.
– Я не сказал бы, что самое безобразное – это витражи: в Святом Иларии, конечно, есть на что посмотреть, но много и такого, что вконец обветшало, ведь мою несчастную базилику одну на всю епархию ни разу не реставрировали! Бог ты мой, ну ладно паперть грязная и ветхая, смотрится она, что ни говори, величественно; шпалеры с Есфирью тоже держатся, я лично за них и двух су не дам, но знатоки считают, что они уступают только санским[110 - …шпалеры с Есфирью… уступают только санским. – Имеются в виду шпалеры XV и XVI вв., которые хранятся в сокровищнице собора Св. Этьена в Сансе.]. Пожалуй, и впрямь, не считая некоторых чересчур реалистичных деталей, автору не откажешь в наблюдательности. Но о витражах я и слушать не хочу. Какой толк в таких окошках, через которые и свет-то не проходит, и хуже того, они бросают отблески непонятно какого цвета, которые слепят глаза, и это в нашей-то церкви, где буквально все плиты положены на разном уровне, причем мне их отказываются заменить, потому что, видите ли, это все надгробья аббатов Комбре и сеньоров Германтских, древних графов Брабантских! Прямых предков нынешнего герцога Германта, да и герцогини тоже, – она ведь урожденная Германт и замуж вышла за своего кузена. (Моя бабушка, которая настолько не интересовалась важными персонами, что вечно путала их имена, всякий раз, как при ней называли герцогиню Германтскую, утверждала, что, кажется, она в каком-то родстве с г-жой де Вильпаризи. Все покатывались со смеху; бабушка пыталась обороняться, ссылаясь на письмо, сообщавшее о каком-то семейном событии: «Сдается мне, что там упоминались Германты». И в этом единственном случае я объединялся с другими против нее, не в силах поверить, что между ее подругой по пансиону и отпрыском Женевьевы Брабантской может быть какая-то связь.). Возьмите Руссенвиль – сегодня это крестьянский приход, а ведь в древние времена городок процветал благодаря производству фетровых шляп и стенных часов. Кстати, относительно этимологии Руссенвиля у меня есть сомнения. Можно предположить, что первоначальное название его было Рувиль (Radulfi villa), как Шатору (Castrum Radulfi), но об этом как-нибудь в другой раз. Ну так вот. В тамошней церкви великолепные витражи, почти все современные, да хоть этот впечатляющий «Въезд Луи Филиппа в Комбре», ему бы самое место было в Комбре – он, говорят, не уступает витражам Шартра[111 - …«Въезд Луи Филиппа в Комбре»… не уступает витражам Шартра. – Витраж, о котором идет речь, очевидно, датируется XIX в. (Луи Филипп стал королем в 1830 г.). Естественно, такой витраж не представлял собой великой ценности, в отличие от знаменитых витражей Шартрского собора.]. Я как раз вчера виделся с братом доктора Перспье; он ценитель подобных вещей, так вот он считает, что тот витраж превосходной работы. Я и говорю этому художнику, весьма, кстати, любезному, и кистью он, похоже, владеет блестяще: «Да что такого необычного вы нашли в этом витраже, который даже темнее прочих?»
– Я уверена, что если вы попросите у его высокопреосвященства новый витраж, – вяло отзывалась тетя, подумывая о том, что все это начинает ее утомлять, – он вам не откажет.
– Как бы не так, госпожа Октав, – отвечал кюре. – Ведь именно его высокопреосвященство первый привлек всеобщее внимание к этому злополучному витражу и доказал, что там изображен Жильберт Злой[112 - Жильберт Злой – исторический персонаж, выдуманный Прустом.], сир де Германт, прямой потомок Женевьевы Брабантской, также происходившей из Германтов, которому святой Иларий дарует отпущение грехов.
– Не понимаю, где там святой Иларий?
– Ну как же, разве вы не замечали в углу витража даму в желтом платье? Так вот, это и есть святой Иларий, которого, как вы знаете, в некоторых провинциях зовут святым Илье, святым Элье, а в Юре даже святым Илией[113 - …это и есть святой Иларий… даже святым Илией. – Пруст почерпнул многие сведения для монолога кюре в книге Жюля Кишра «Об образовании старинных географических названий во французском языке» (1867). Среди различных вариантов одного и того же имени автор приводит: «Sanctus Hilarius, святой Иларий, святой Илер, святой Элье, святой Илье», а среди «современных названий, подвергшихся искажениям»: «Сент-Илье (Сена-и-Уаза) и Сент-Или (Юра), от святого Илария».]. Кстати, все эти искажения имени sanctus Hilarius, в сущности, отнюдь не самые забавные из превращений, которые претерпели имена праведников. Вот ваша покровительница, дорогая Элали, sancta Eulalia, – знаете, во что она превратилась в Бургундии? Просто-напросто в святого Элигия: святая превратилась в святого[114 - …святая превратилась в святого. – В той же книге Жюль Кишра выделяет категорию «Имена, род которых изменился»: «Есть примеры, когда святая превращалась в святого и наоборот, согласно изменениям, которые данное имя претерпело во французском языке: „…sancta Eulalia [т. е. св. Евлалия] – святой Элуа [т. е. св. Элигий]“».]. Представляете себе, Элали, чтобы вас после смерти сделали мужчиной?
– Господин кюре все шутит.
– Брат Жильберта, Карл Заика, государь благочестивый, но рано потерявший отца, Пипина Безумного[115 - Брат Жильберта… Пипина Безумного… – Прообразом Жильберта Злого послужил Прусту Жоффруа де Шатодён, историческое лицо, описанное аббатом Марки, кюре города Илье: «Жоффруа, виконт де Шатодён, рано лишился отца и властвовал над страной со всей самонадеянностью молодости, не приученной к дисциплине» (Марки Ж. Илье, 1904. С. 28). Конец Жоффруа де Шатодёна, построившего в 1019 г. замок Илье, также послужил материалом для жизнеописания Жильберта Злого: «Жоффруа посетил Шартрский собор в 1040 г., убежденный, что разрушения и пожары, которые он некогда вершил в этом краю, преданы забвению. К несчастью, его имя по-прежнему оставалось ненавистно местному населению. Когда он выходил после богослужения, жители Шартра набросились на него и убили». Возможно, другим его прототипом оказался Карл Злой, король Наварры и граф д’Эврё (1332–1387). Пипин Безумный, также вымышленный персонаж, добавленный во второй корректуре, напоминает о Каролингах. Имя еще одного вымышленного короля, Карла Заики, напоминает сразу о двух каролингских государях, Людовике Заике и Карле Простоватом. В монологе кюре можно найти имена великих вассалов, восстававших против Карла Простоватого: это Рауль, или Радульф Бургундский (по словам кюре, от его имени произошло название Руссенвиль), Вильгельм Нормандский (не Завоеватель, а герцог Вильгельм I, по прозвищу Длинный Меч, 930–942). Речь кюре отсылает если не к строгим фактам, то, во всяком случае, к определенному пласту истории: после Женевьевы Брабантской, принадлежавшей к Меровингам, Жильберт Злой – вторая веха в истории Германтов, связанная с Каролингами, то есть со второй франкской династией. Другой Германт – брат капетингского короля Людовика VI, что добавляет Германтам связей с королевскими династиями (Капетинги были последней из трех королевских династий, правивших во Франции и сошедшей со сцены только в 1848 г.). Имена, названные Прустом, не позволяют восстановить реальную историю, но точно указывают на выбранный период и предупреждают о наличии пастиша. Это, конечно, мистификация, но главная ее цель все же эстетическая – изобразить язык старинных хронистов, отмеченный простодушной эрудицией. В этом направлении строится образ кюре. Его роль неотделима от роли Элали, создательницы устной летописи Комбре.], скончавшегося от последствий душевной болезни, властвовал над страной со всей самонадеянностью молодости, не приученной к дисциплине, так что, если в каком-нибудь городе ему не нравился отдельный человек, он мог истребить весь город до последнего жителя. Жильберт, желая отомстить Карлу, приказал сжечь комбрейскую церковь, самую первую, ту, которую обещал выстроить на месте могилы святого Илария Теодеберт[116 - …Теодеберт… – Этим именем звали двух франкских королей, Теодеберта I (504–548) и Теодеберта II (586–612). У Пруста явно подразумевается Теодеберт I, который славился щедростью по отношению к церквам, что согласуется с его ролью в тексте романа.], если праведник поможет ему одержать победу; было это, когда он, отправляясь на войну с бургундами, покидал в окружении придворных свой загородный дом неподалеку отсюда, в Тиберзи (Theodeberciacus). От той церкви уцелела только крипта, куда вас, должно быть, водил Теодор, а остальное Жильберт сжег. Затем он разбил незадачливого Карла с помощью Вильгельма Завоевателя[117 - Вильгельм I, или Вильгельм Завоеватель (1027–1087) – герцог Нормандский (1035–1087) и король Англии (1066–1087). Подростком Пруст с огромным интересом читал о нем в «Истории завоевания Англии норманнами» Огюстена Тьерри.], – (кюре произносил на старинный лад «Вилельма»), – поэтому к нам сюда приезжает много англичан. Но кажется, он так и не снискал симпатии жителей Комбре, потому что они накинулись на него после богослужения и отрубили ему голову. Кстати, у Теодора можно взять почитать книжку, в которой все это объясняется.
Но бесспорно, любопытнее всего в нашей церкви вид, который открывается с колокольни, – великолепный вид. Вам, конечно, при вашей хрупкости, я бы не посоветовал карабкаться по нашим девяносто семи ступеням, что составляет ровно половину знаменитого Миланского собора. Тут и здоровяк устанет, тем более что идти приходится, согнувшись в три погибели, чтобы не разбить себе голову, и попутно обираешь всю паутину с лестницы. Во всяком случае, вам бы надо было закутаться хорошенько, – продолжал он, не замечая, с каким негодованием встречена тетей идея, что она способна вскарабкаться на колокольню, – потому что, когда доберешься до верху, там такой ветрище! Некоторые утверждают, будто там веет смертельным холодом. И все равно по воскресеньям там всегда компании, которые иногда приезжают даже из очень дальних мест, восхищаются красотой панорамы и возвращаются очарованные. Да вот в ближайшее воскресенье, если погода продержится, наверняка будет народ по случаю молебнов. В общем, надо признать, что обзор оттуда открывается феерический, в таком, знаете, необычном ракурсе – так что все приобретает совершенно особый отпечаток. В ясную погоду видно до самого Вернейля. Главное, одновременно охватываешь взглядом то, что обычно можно увидеть только по отдельности, например течение Вивонны и укрепления Сент-Ассиз-де-Комбре, от которых ее заслоняет стена огромных деревьев, или, скажем, разные каналы Жуи-ле-Виконт (Gaudiacus vice comitis, как вы понимаете). Всякий раз, когда я ездил в Жуи-ле-Виконт, я видел один кусок канала, потом завернешь за угол – и виден другой кусок, но тогда уже не виден первый. Уж как я ни пытался их мысленно совместить, особых результатов это не давало. А с колокольни Святого Илария другое дело: видно, что эти каналы – целая сеть, пронизывающая всю округу. Только воду не разглядеть, просто что-то наподобие огромных щелей, которые так точно делят городок на четверти, ну прямо круглая булка, еще целая, но уже разрезанная. Но на самом-то деле, чтобы представить себе все как есть, хорошо бы одновременно быть и на колокольне Святого Илария, и в Жуи-ле-Виконт.
Кюре так утомлял тетю, что, как только он удалялся, ей приходилось спроваживать и Элали.
– Вот, Элали, милая, – говорила она слабым голосом, вытаскивая монету из маленького кошелька, который лежал у нее под рукой, – это чтобы вы не забывали меня в своих молитвах.
– Ах, госпожа Октав, даже и не знаю, брать или нет, вы же знаете, что я не за тем прихожу! – говорила Элали всякий раз так нерешительно и застенчиво, словно в первый раз, и всякий раз с напускным неудовольствием, которое смешило тетю, но было ей скорее приятно, потому что, если когда-нибудь Элали принимала монету с чуть меньшей досадой, чем обычно, тетя говорила:
– Не понимаю, что случилось с Элали: я ей дала то же, что и всегда, а она вроде была недовольна.
– Как бы то ни было, думаю, что жаловаться ей не на что, – вздыхала Франсуаза, которой было свойственно считать мелочью все, что перепадало от тети ей и ее детям, и сокровищами, безумно расточаемыми на неблагодарную особу, – монетки, которые каждое воскресенье перекочевывали в ладонь Элали, да так незаметно, что Франсуазе никогда не удавалось их увидеть. Не то чтобы Франсуаза претендовала на деньги, которые тетя давала Элали. Тетино богатство и так давало ей огромные преимущества: она ведь знала, что богатство хозяйки заодно возвышает и украшает в глазах окружающих и ее служанку и что она, Франсуаза, пользуется почетом и уважением в Комбре, Жуи-ле-Виконт и прочих местах благодаря многочисленным тетиным фермам, частым и продолжительным визитам кюре, а также удивительному количеству выпиваемых тетей бутылок «Виши». Она скупилась только ради тети; если бы она управляла тетиным состоянием (что было ее мечтой), она бы обороняла его от вмешательства посторонних с материнской свирепостью. Впрочем, Франсуаза готова была смириться с тетиной неисправимой щедростью, с тем, что хозяйка не отказывала себе в удовольствии раздавать деньги, – но пусть бы, по крайней мере, благодетельствовала богатым. Возможно, Франсуаза полагала, что поскольку богачи не нуждаются в тетиных подарках, их нельзя заподозрить в том, что они лишь ради подарков ее любят. К тому же, если подношения делались людям, располагающим большими средствами, – г-же Сазра, г-ну Сванну, г-ну Леграндену, г-же Гупиль, людям «того же ранга», что моя тетя, «подходящим» людям, – она считала, что это входит в ритуал странной и блистательной жизни богачей, которые ездят на охоту, дают балы, обмениваются визитами, – тех, на кого она смотрит с восхищенной улыбкой. Но совсем другое дело, если адресатами тетиных благодеяний оказывались, по выражению Франсуазы, «такие же люди, как я, ничем не лучше меня», – этих она сильнее всего презирала, если только они не называли ее «госпожа Франсуаза» и не считали себя «хуже ее». И когда она видела, что тетя, вопреки ее советам, поступает по-своему и тратит деньги – во всяком случае, Франсуаза в это верила – на недостойных людей, те дары, которые она сама получала от тети, представлялись ей ничтожными по сравнению с воображаемыми суммами, которые транжирились на Элали. Не было в окрестностях Комбре мало-мальски порядочной фермы, которую, как предполагала Франсуаза, Элали не могла бы купить на доходы от визитов к тете. Правда, Элали строила такие же предположения насчет несметных тайных богатств Франсуазы. Обычно после ухода Элали Франсуаза пускалась на ее счет в беспощадные прорицания. Она ее ненавидела, но боялась и почитала себя обязанной, когда Элали появлялась, обходиться с ней любезно. После ухода Элали она отыгрывалась, никогда, правда, не называя Элали по имени, зато изрекая дельфийские пророчества или сентенции общего характера, под стать Екклесиасту, но так, чтобы от тети не ускользнуло, в кого они метят. Глянув из-за краешка шторы, закрылась ли за Элали дверь, она приговаривала: «Втируши знают, как подлизаться, чтобы их звали и совали им подачки, но погодите, придет день и Господь на небе их всех покарает», – и метала взгляды искоса с многозначительностью какого-нибудь Иоаса, который произносит, имея в виду исключительно Гофолию:
Иссохнет, как поток, неправедного счастье[118 - Иссохнет, как поток, неправедного счастье. – Этот стих из Расина («Гофолия», акт 2, сц. 7), который мы приводим в пер. Ю. Корнеева, представляет собой реминисценцию из памятника раннего христианства, «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова» (XL, 13): «Имения неправедных, как поток, иссохнут и, как сильный гром при проливном дожде, прогремят».].
Но когда Элали и кюре являлись одновременно и бесконечный визит кюре истощал тетины силы, Франсуаза выходила из спальни вслед за Элали со словами:
– Отдохните, госпожа Октав, вид у вас ужас какой усталый.
А тетя даже не отвечала, вздыхая так, будто это был ее последний вздох, и прикрыв глаза, как мертвая. Но не успевала Франсуаза спуститься, как дом оглашал яростный четырехкратный звонок сонетки и тетя, приподнявшись в постели, кричала:
– Элали уже ушла? Представляете, ведь я позабыла у нее спросить, поспела ли госпожа Гупиль в церковь до возношения Даров! Скорее бегите за ней!
– Госпожа Амеде у нас особенная, – кротко отзывалась Франсуаза, приберегая до случая, когда будет разговаривать с другими слугами, соображение, что у моей бабушки «не все дома».
– Уже и Святые Дары выносили! Не придет Элали, – вздыхала тетя. – Побоится, в непогоду-то.
– Да ведь еще нет пяти часов, госпожа Октав, еще только полпятого.
– Полпятого? А мне уже пришлось поднять занавески, а то тьма-тьмущая. И это в полпятого! Перед самым Вознесеньем, за неделю до молебнов![108 - Перед самым Вознесеньем, за неделю до молебнов! – В католической традиции Вознесению предшествует трехдневный молебен об урожае с шествием, по-французски – Rogations.] Ах, Франсуаза, милочка, видно, Бог и впрямь на нас прогневался. И то сказать, люди в наше время чересчур распустились. Как говорил мой бедный Октав, Бога забыли, вот он кары на нас и посылает.
Жаркий румянец заливал тетины щеки: являлась Элали. К сожалению, не успевала она войти, как Франсуаза возвращалась в комнату с улыбкой, соответствующей, по ее разумению, той радости, которую неминуемо вызовут у тети ее слова; она отчеканивала каждый слог, чтобы показать, что вот она, пускай косвенной речью, передает, как положено хорошей прислуге, те самые слова, которыми соблаговолил воспользоваться посетитель:
– Господин кюре почтет за честь и удовольствие повидать госпожу Октав, если она не отдыхает, конечно. Господин кюре не хотел бы оказаться в тягость. Господин кюре внизу, я его в залу свела.
На самом деле визиты кюре не так уж радовали тетю, как представлялось Франсуазе, и ликование, которым всякий раз с готовностью расцветало ее лицо, когда она докладывала о кюре, не вполне соответствовало чувствам больной. Кюре (превосходный человек – жаль, что мне не так уж много привелось с ним беседовать, потому что, ничего не смысля в искусстве, он знал зато множество этимологических толкований[109 - …множество этимологических толкований… – В конце XIX в. во Франции была в большой моде этимология – наука о происхождении и эволюции слов, и в частности ономастика, изучающая с этой точки зрения имена собственные – географические названия (топонимия) и личные имена (антропонимия). Топонимия, новая дисциплина, связанная с исторической географией, занимает больше всего места в романе. Подчас этимологические изыскания принимали несколько карикатурные формы, чем и вызвано ироническое, на грани пародии, освещение этой темы у Пруста.]) привык сообщать видным посетителям сведения о комбрейской церкви (он даже намеревался написать книгу о приходе Комбре) и своими длинными, до бесконечности повторявшимися объяснениями утомлял тетю. А уж когда он приходил одновременно с Элали, его посещение оказывалось ей и вовсе некстати. Ей больше хотелось насладиться обществом Элали, а не принимать всех гостей разом. Но она не смела отказать кюре и только намекала Элали, чтобы та задержалась после кюре и посидела еще.
– Господин кюре, а что это говорят, у вас в церкви какой-то художник установил мольберт и пишет копию витража. Я вон уже до каких лет дожила, можно сказать, а такого не слыхивала. И чего только люди не выдумают в наши дни! Да витражи – самое безобразное, что есть в нашей церкви.
– Я не сказал бы, что самое безобразное – это витражи: в Святом Иларии, конечно, есть на что посмотреть, но много и такого, что вконец обветшало, ведь мою несчастную базилику одну на всю епархию ни разу не реставрировали! Бог ты мой, ну ладно паперть грязная и ветхая, смотрится она, что ни говори, величественно; шпалеры с Есфирью тоже держатся, я лично за них и двух су не дам, но знатоки считают, что они уступают только санским[110 - …шпалеры с Есфирью… уступают только санским. – Имеются в виду шпалеры XV и XVI вв., которые хранятся в сокровищнице собора Св. Этьена в Сансе.]. Пожалуй, и впрямь, не считая некоторых чересчур реалистичных деталей, автору не откажешь в наблюдательности. Но о витражах я и слушать не хочу. Какой толк в таких окошках, через которые и свет-то не проходит, и хуже того, они бросают отблески непонятно какого цвета, которые слепят глаза, и это в нашей-то церкви, где буквально все плиты положены на разном уровне, причем мне их отказываются заменить, потому что, видите ли, это все надгробья аббатов Комбре и сеньоров Германтских, древних графов Брабантских! Прямых предков нынешнего герцога Германта, да и герцогини тоже, – она ведь урожденная Германт и замуж вышла за своего кузена. (Моя бабушка, которая настолько не интересовалась важными персонами, что вечно путала их имена, всякий раз, как при ней называли герцогиню Германтскую, утверждала, что, кажется, она в каком-то родстве с г-жой де Вильпаризи. Все покатывались со смеху; бабушка пыталась обороняться, ссылаясь на письмо, сообщавшее о каком-то семейном событии: «Сдается мне, что там упоминались Германты». И в этом единственном случае я объединялся с другими против нее, не в силах поверить, что между ее подругой по пансиону и отпрыском Женевьевы Брабантской может быть какая-то связь.). Возьмите Руссенвиль – сегодня это крестьянский приход, а ведь в древние времена городок процветал благодаря производству фетровых шляп и стенных часов. Кстати, относительно этимологии Руссенвиля у меня есть сомнения. Можно предположить, что первоначальное название его было Рувиль (Radulfi villa), как Шатору (Castrum Radulfi), но об этом как-нибудь в другой раз. Ну так вот. В тамошней церкви великолепные витражи, почти все современные, да хоть этот впечатляющий «Въезд Луи Филиппа в Комбре», ему бы самое место было в Комбре – он, говорят, не уступает витражам Шартра[111 - …«Въезд Луи Филиппа в Комбре»… не уступает витражам Шартра. – Витраж, о котором идет речь, очевидно, датируется XIX в. (Луи Филипп стал королем в 1830 г.). Естественно, такой витраж не представлял собой великой ценности, в отличие от знаменитых витражей Шартрского собора.]. Я как раз вчера виделся с братом доктора Перспье; он ценитель подобных вещей, так вот он считает, что тот витраж превосходной работы. Я и говорю этому художнику, весьма, кстати, любезному, и кистью он, похоже, владеет блестяще: «Да что такого необычного вы нашли в этом витраже, который даже темнее прочих?»
– Я уверена, что если вы попросите у его высокопреосвященства новый витраж, – вяло отзывалась тетя, подумывая о том, что все это начинает ее утомлять, – он вам не откажет.
– Как бы не так, госпожа Октав, – отвечал кюре. – Ведь именно его высокопреосвященство первый привлек всеобщее внимание к этому злополучному витражу и доказал, что там изображен Жильберт Злой[112 - Жильберт Злой – исторический персонаж, выдуманный Прустом.], сир де Германт, прямой потомок Женевьевы Брабантской, также происходившей из Германтов, которому святой Иларий дарует отпущение грехов.
– Не понимаю, где там святой Иларий?
– Ну как же, разве вы не замечали в углу витража даму в желтом платье? Так вот, это и есть святой Иларий, которого, как вы знаете, в некоторых провинциях зовут святым Илье, святым Элье, а в Юре даже святым Илией[113 - …это и есть святой Иларий… даже святым Илией. – Пруст почерпнул многие сведения для монолога кюре в книге Жюля Кишра «Об образовании старинных географических названий во французском языке» (1867). Среди различных вариантов одного и того же имени автор приводит: «Sanctus Hilarius, святой Иларий, святой Илер, святой Элье, святой Илье», а среди «современных названий, подвергшихся искажениям»: «Сент-Илье (Сена-и-Уаза) и Сент-Или (Юра), от святого Илария».]. Кстати, все эти искажения имени sanctus Hilarius, в сущности, отнюдь не самые забавные из превращений, которые претерпели имена праведников. Вот ваша покровительница, дорогая Элали, sancta Eulalia, – знаете, во что она превратилась в Бургундии? Просто-напросто в святого Элигия: святая превратилась в святого[114 - …святая превратилась в святого. – В той же книге Жюль Кишра выделяет категорию «Имена, род которых изменился»: «Есть примеры, когда святая превращалась в святого и наоборот, согласно изменениям, которые данное имя претерпело во французском языке: „…sancta Eulalia [т. е. св. Евлалия] – святой Элуа [т. е. св. Элигий]“».]. Представляете себе, Элали, чтобы вас после смерти сделали мужчиной?
– Господин кюре все шутит.
– Брат Жильберта, Карл Заика, государь благочестивый, но рано потерявший отца, Пипина Безумного[115 - Брат Жильберта… Пипина Безумного… – Прообразом Жильберта Злого послужил Прусту Жоффруа де Шатодён, историческое лицо, описанное аббатом Марки, кюре города Илье: «Жоффруа, виконт де Шатодён, рано лишился отца и властвовал над страной со всей самонадеянностью молодости, не приученной к дисциплине» (Марки Ж. Илье, 1904. С. 28). Конец Жоффруа де Шатодёна, построившего в 1019 г. замок Илье, также послужил материалом для жизнеописания Жильберта Злого: «Жоффруа посетил Шартрский собор в 1040 г., убежденный, что разрушения и пожары, которые он некогда вершил в этом краю, преданы забвению. К несчастью, его имя по-прежнему оставалось ненавистно местному населению. Когда он выходил после богослужения, жители Шартра набросились на него и убили». Возможно, другим его прототипом оказался Карл Злой, король Наварры и граф д’Эврё (1332–1387). Пипин Безумный, также вымышленный персонаж, добавленный во второй корректуре, напоминает о Каролингах. Имя еще одного вымышленного короля, Карла Заики, напоминает сразу о двух каролингских государях, Людовике Заике и Карле Простоватом. В монологе кюре можно найти имена великих вассалов, восстававших против Карла Простоватого: это Рауль, или Радульф Бургундский (по словам кюре, от его имени произошло название Руссенвиль), Вильгельм Нормандский (не Завоеватель, а герцог Вильгельм I, по прозвищу Длинный Меч, 930–942). Речь кюре отсылает если не к строгим фактам, то, во всяком случае, к определенному пласту истории: после Женевьевы Брабантской, принадлежавшей к Меровингам, Жильберт Злой – вторая веха в истории Германтов, связанная с Каролингами, то есть со второй франкской династией. Другой Германт – брат капетингского короля Людовика VI, что добавляет Германтам связей с королевскими династиями (Капетинги были последней из трех королевских династий, правивших во Франции и сошедшей со сцены только в 1848 г.). Имена, названные Прустом, не позволяют восстановить реальную историю, но точно указывают на выбранный период и предупреждают о наличии пастиша. Это, конечно, мистификация, но главная ее цель все же эстетическая – изобразить язык старинных хронистов, отмеченный простодушной эрудицией. В этом направлении строится образ кюре. Его роль неотделима от роли Элали, создательницы устной летописи Комбре.], скончавшегося от последствий душевной болезни, властвовал над страной со всей самонадеянностью молодости, не приученной к дисциплине, так что, если в каком-нибудь городе ему не нравился отдельный человек, он мог истребить весь город до последнего жителя. Жильберт, желая отомстить Карлу, приказал сжечь комбрейскую церковь, самую первую, ту, которую обещал выстроить на месте могилы святого Илария Теодеберт[116 - …Теодеберт… – Этим именем звали двух франкских королей, Теодеберта I (504–548) и Теодеберта II (586–612). У Пруста явно подразумевается Теодеберт I, который славился щедростью по отношению к церквам, что согласуется с его ролью в тексте романа.], если праведник поможет ему одержать победу; было это, когда он, отправляясь на войну с бургундами, покидал в окружении придворных свой загородный дом неподалеку отсюда, в Тиберзи (Theodeberciacus). От той церкви уцелела только крипта, куда вас, должно быть, водил Теодор, а остальное Жильберт сжег. Затем он разбил незадачливого Карла с помощью Вильгельма Завоевателя[117 - Вильгельм I, или Вильгельм Завоеватель (1027–1087) – герцог Нормандский (1035–1087) и король Англии (1066–1087). Подростком Пруст с огромным интересом читал о нем в «Истории завоевания Англии норманнами» Огюстена Тьерри.], – (кюре произносил на старинный лад «Вилельма»), – поэтому к нам сюда приезжает много англичан. Но кажется, он так и не снискал симпатии жителей Комбре, потому что они накинулись на него после богослужения и отрубили ему голову. Кстати, у Теодора можно взять почитать книжку, в которой все это объясняется.
Но бесспорно, любопытнее всего в нашей церкви вид, который открывается с колокольни, – великолепный вид. Вам, конечно, при вашей хрупкости, я бы не посоветовал карабкаться по нашим девяносто семи ступеням, что составляет ровно половину знаменитого Миланского собора. Тут и здоровяк устанет, тем более что идти приходится, согнувшись в три погибели, чтобы не разбить себе голову, и попутно обираешь всю паутину с лестницы. Во всяком случае, вам бы надо было закутаться хорошенько, – продолжал он, не замечая, с каким негодованием встречена тетей идея, что она способна вскарабкаться на колокольню, – потому что, когда доберешься до верху, там такой ветрище! Некоторые утверждают, будто там веет смертельным холодом. И все равно по воскресеньям там всегда компании, которые иногда приезжают даже из очень дальних мест, восхищаются красотой панорамы и возвращаются очарованные. Да вот в ближайшее воскресенье, если погода продержится, наверняка будет народ по случаю молебнов. В общем, надо признать, что обзор оттуда открывается феерический, в таком, знаете, необычном ракурсе – так что все приобретает совершенно особый отпечаток. В ясную погоду видно до самого Вернейля. Главное, одновременно охватываешь взглядом то, что обычно можно увидеть только по отдельности, например течение Вивонны и укрепления Сент-Ассиз-де-Комбре, от которых ее заслоняет стена огромных деревьев, или, скажем, разные каналы Жуи-ле-Виконт (Gaudiacus vice comitis, как вы понимаете). Всякий раз, когда я ездил в Жуи-ле-Виконт, я видел один кусок канала, потом завернешь за угол – и виден другой кусок, но тогда уже не виден первый. Уж как я ни пытался их мысленно совместить, особых результатов это не давало. А с колокольни Святого Илария другое дело: видно, что эти каналы – целая сеть, пронизывающая всю округу. Только воду не разглядеть, просто что-то наподобие огромных щелей, которые так точно делят городок на четверти, ну прямо круглая булка, еще целая, но уже разрезанная. Но на самом-то деле, чтобы представить себе все как есть, хорошо бы одновременно быть и на колокольне Святого Илария, и в Жуи-ле-Виконт.
Кюре так утомлял тетю, что, как только он удалялся, ей приходилось спроваживать и Элали.
– Вот, Элали, милая, – говорила она слабым голосом, вытаскивая монету из маленького кошелька, который лежал у нее под рукой, – это чтобы вы не забывали меня в своих молитвах.
– Ах, госпожа Октав, даже и не знаю, брать или нет, вы же знаете, что я не за тем прихожу! – говорила Элали всякий раз так нерешительно и застенчиво, словно в первый раз, и всякий раз с напускным неудовольствием, которое смешило тетю, но было ей скорее приятно, потому что, если когда-нибудь Элали принимала монету с чуть меньшей досадой, чем обычно, тетя говорила:
– Не понимаю, что случилось с Элали: я ей дала то же, что и всегда, а она вроде была недовольна.
– Как бы то ни было, думаю, что жаловаться ей не на что, – вздыхала Франсуаза, которой было свойственно считать мелочью все, что перепадало от тети ей и ее детям, и сокровищами, безумно расточаемыми на неблагодарную особу, – монетки, которые каждое воскресенье перекочевывали в ладонь Элали, да так незаметно, что Франсуазе никогда не удавалось их увидеть. Не то чтобы Франсуаза претендовала на деньги, которые тетя давала Элали. Тетино богатство и так давало ей огромные преимущества: она ведь знала, что богатство хозяйки заодно возвышает и украшает в глазах окружающих и ее служанку и что она, Франсуаза, пользуется почетом и уважением в Комбре, Жуи-ле-Виконт и прочих местах благодаря многочисленным тетиным фермам, частым и продолжительным визитам кюре, а также удивительному количеству выпиваемых тетей бутылок «Виши». Она скупилась только ради тети; если бы она управляла тетиным состоянием (что было ее мечтой), она бы обороняла его от вмешательства посторонних с материнской свирепостью. Впрочем, Франсуаза готова была смириться с тетиной неисправимой щедростью, с тем, что хозяйка не отказывала себе в удовольствии раздавать деньги, – но пусть бы, по крайней мере, благодетельствовала богатым. Возможно, Франсуаза полагала, что поскольку богачи не нуждаются в тетиных подарках, их нельзя заподозрить в том, что они лишь ради подарков ее любят. К тому же, если подношения делались людям, располагающим большими средствами, – г-же Сазра, г-ну Сванну, г-ну Леграндену, г-же Гупиль, людям «того же ранга», что моя тетя, «подходящим» людям, – она считала, что это входит в ритуал странной и блистательной жизни богачей, которые ездят на охоту, дают балы, обмениваются визитами, – тех, на кого она смотрит с восхищенной улыбкой. Но совсем другое дело, если адресатами тетиных благодеяний оказывались, по выражению Франсуазы, «такие же люди, как я, ничем не лучше меня», – этих она сильнее всего презирала, если только они не называли ее «госпожа Франсуаза» и не считали себя «хуже ее». И когда она видела, что тетя, вопреки ее советам, поступает по-своему и тратит деньги – во всяком случае, Франсуаза в это верила – на недостойных людей, те дары, которые она сама получала от тети, представлялись ей ничтожными по сравнению с воображаемыми суммами, которые транжирились на Элали. Не было в окрестностях Комбре мало-мальски порядочной фермы, которую, как предполагала Франсуаза, Элали не могла бы купить на доходы от визитов к тете. Правда, Элали строила такие же предположения насчет несметных тайных богатств Франсуазы. Обычно после ухода Элали Франсуаза пускалась на ее счет в беспощадные прорицания. Она ее ненавидела, но боялась и почитала себя обязанной, когда Элали появлялась, обходиться с ней любезно. После ухода Элали она отыгрывалась, никогда, правда, не называя Элали по имени, зато изрекая дельфийские пророчества или сентенции общего характера, под стать Екклесиасту, но так, чтобы от тети не ускользнуло, в кого они метят. Глянув из-за краешка шторы, закрылась ли за Элали дверь, она приговаривала: «Втируши знают, как подлизаться, чтобы их звали и совали им подачки, но погодите, придет день и Господь на небе их всех покарает», – и метала взгляды искоса с многозначительностью какого-нибудь Иоаса, который произносит, имея в виду исключительно Гофолию:
Иссохнет, как поток, неправедного счастье[118 - Иссохнет, как поток, неправедного счастье. – Этот стих из Расина («Гофолия», акт 2, сц. 7), который мы приводим в пер. Ю. Корнеева, представляет собой реминисценцию из памятника раннего христианства, «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова» (XL, 13): «Имения неправедных, как поток, иссохнут и, как сильный гром при проливном дожде, прогремят».].
Но когда Элали и кюре являлись одновременно и бесконечный визит кюре истощал тетины силы, Франсуаза выходила из спальни вслед за Элали со словами:
– Отдохните, госпожа Октав, вид у вас ужас какой усталый.
А тетя даже не отвечала, вздыхая так, будто это был ее последний вздох, и прикрыв глаза, как мертвая. Но не успевала Франсуаза спуститься, как дом оглашал яростный четырехкратный звонок сонетки и тетя, приподнявшись в постели, кричала:
– Элали уже ушла? Представляете, ведь я позабыла у нее спросить, поспела ли госпожа Гупиль в церковь до возношения Даров! Скорее бегите за ней!
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: