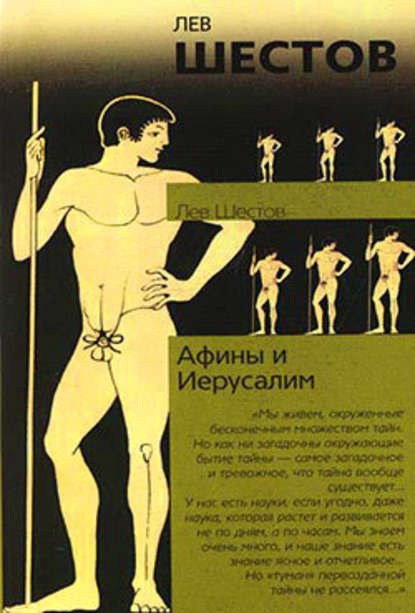По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Афины и Иерусалим
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
К Сократу такого вопроса мы обратить не можем. Его «незнание» имело на него определенный ответ. Но ведь Киркегард столько раз повторял, что Сократ был язычником и что у Сократа ему нечему учиться. Оказывается, что без Сократа и христианину никак не прожить, как не прожить без всеобщих и необходимых истин. Одновременно с «Furcht und Zittern» Киркегард пишет свое «Wiederholung», где речь идет не об Аврааме, а об Иове. Иов, как известно, не добровольно перебил своих детей, растерял свое добро и т. д. Все это на него свалилось. Он даже не вправе претендовать на высокое звание трагического героя. Просто старый, жалкий, ни себе, ни другим не нужный человек, каких немало есть на белом свете.
В наше время войн и общественных переворотов – такими Иовами хоть пруд пруди. Вчера был царем, сегодня раб и нищий, валяющийся на навозе и скребущий язвы свои. И все же библейский Иов, который не был ни рыцарем, ни трагическим героем, каким-то образом добился, «заслужил», что Киркегард посвятил ему, как Аврааму, целую книгу – «Wiederholung». О «Wiederholung» можно сказать то же, что Киркегард о «Furcht und Zittern» сказал: «если бы люди почувствовали ее мрачный пафос, они бы пришли в ужас». И «Wiederholung» написано в «страхе и трепете» – человеком, на которого обрушился страшный и грозный молот и который в ужасе вопрошает: кто нанес ему этот удар, что это такое – есть ли это молот Божий или только естественная сила «всеобщих и необходимых истин»? По Библии, Иова искушал Бог, так же как он искушал Авраама, но «знать» мы этого не можем. «Какая наука может быть так построена, чтобы в ней нашлось место для искушения, которого в бесконечной перспективе мышления вовсе и нет, ибо оно есть только для индивидуума? Такой науки не существует, такая наука не может существовать». И что дает повод Киркегарду вспомнить об Иове и ставить все эти страшные вопросы? Герой «Wiederholung» – человек, который, как и сам Киркегард, всего только принужден был порвать со своей невестой. Вот как он сам говорит об этом (III, 180): «О, незабвенный благодетель, о мученик Иов! Можно мне присоединиться к тебе, можно мне быть с тобой? Не отвергай меня… Я не обладал твоими богатствами, у меня не было семи сыновей и трех дочерей, но и тот может все потерять, кто имел мало, и тот может потерять сыновей и дочерей, кто потерял возлюбленную; и тот может оказаться словно покрытым гнойными нарывами, кто потерял свою честь и свою гордость и вместе с тем утратил силу и смысл своей жизни». Чего ждет Киркегард от Иова? В чем хочет присоединиться к нему? «Вместо того чтобы обратиться за помощью к всемирно знаменитому Professor publicus ordinaris, мой друг (т. е. Киркегард сам) бежит к частному мыслителю, к Иову» (III, 170). Всемирный знаменитый профессор, т. е. Гегель, конечно. Но ведь Спиноза до Гегеля усмотрел «необходимость всех вещей», и Гегель только повторял Спинозу – отчего же Киркегард не смел и подумать о том, что боги, хотя бы и языческие, хохотали, слушая Спинозу? И Сократ учил о всеобщей и необходимой истине, но греческий бог не только не смеялся над ним, но провозгласил его мудрейшим из людей. А многострадальный Иов – что ответил бы он Спинозе и Сократу, если бы они пришли к нему со своей мудростью и своими утешениями? Киркегард себе такого вопроса никогда не ставил, ни в ту пору, когда он писал «Furcht und Zittern» и «Begriff der Angst», ни в последние годы своей жизни, когда он громил протестантскую церковь и женатых пасторов. В своем Entweder – Oder, которое, на первый взгляд, является пределом безудержа, он решается противупоставить Иова – Гегелю, над которым так весело смеялись боги. Но Сократа боги уважали, Спиноза был вторым воплощением Сократа. Киркегарду никогда не удавалось преодолеть в себе страха пред греческой мудростью. Мы сейчас увидим, что, по Киркегарду, человек с этим страхом в душе вышел из рук творца, что страх есть, некоторым образом, основная черта или первичное свойство, даже первичное качество человека. Но когда писались «Furcht und Zittern» и «Widerholung», Киркегард еще не хотел так думать. Он шел к Аврааму и к Иову, как к людям, которые были достаточно дерзновенны и сильны, чтобы преодолеть всяческие страхи и взлетать над «назиданием» Сократа и благословившего сократовскую мудрость дельфийского бога. Авраам не знал страха: с ним был Бог, для которого не было ничего невозможного. И в Иове «повседневный опыт» еще не совсем вытравил воспоминаний о том, что не всегда разум был властителем на земле. Или, точнее говоря: свалившиеся на Иова бедствия вновь пробудили в нем эти воспоминания. Киркегард пишет (III, 191, 189): «Значение Иова не в том, что он сказал – Бог дал, Бог взял, благословенно имя Господне; он вначале так говорит, но потом он этого больше не повторяет: значение Иова в том, что он преоборает споры, лежащие в области, пограничной с верой, что в нем разыгрывается этот чудовищный мятеж диких и неукротимых страстей». Иначе говоря: повседневный опыт или непосредственные данные сознания являются для людей последней инстанцией в вопросе об истине: что бы опыт ни принес, что бы «данные» ни показали нам, мы все принимаем и все называем истиной. В мире, где властвует разум, бороться с «данным» – есть явное безумие. Человек может плакать, может проклинать открываемые ему опытом истины: преодолеть их – он это твердо знает – никому не дано; их нужно принять. Философия идет еще дальше: данное не только нужно принять, нужно благословить. Даже Ницше говорил, что «необходимость» его «не оскорбляет». И Иов, праведный человек, начинает с того, что загоняет в глубину своей души все lugere et detestari: Бог дал, Бог взял, благословенно имя Господне. Но по мере того как растут и множатся уготованные ему беды, нарастает напряжение подавленных lugere et detestari: которые взрывают в конце концов толщу застывшей или материализовавшейся коры самоочевидностей, сковавших его свободу (III, 187). «В этом именно и значение Иова, что он не удушает и не разряжает пафоса (Leidenchaft) свободы ложными утешениями». Увещевания его друзей – устами которых говорит сама мудрость и само доброжелательство – не только не успокаивают его, но еще больше раздражают. Если бы к ложу Иова пришли Сократ и Спиноза, они не могли бы сказать ничего другого, кроме того, что сказали Елифаз, Вилдад и Софар. Они – люди и, как все люди, находятся во власти «данного». И мало того, что они сами находятся во власти данного; они осуждены думать, что все, что есть в мире, живое и мертвое, низкое и высокое, бессильное и могущественное, разделяет их участь, т. е. находится во власти этих истин. Семь дней молчали друзья, глядя на Иова. Но нельзя же вечно глядеть и молчать, молчать и глядеть. Нужно говорить. И, как только разверзлись их уста. они, точно выполняя завет Спинозы, стали говорить то, чего они не говорить не могли. Возможно, что они при этом сознавали, что человек, который так говорит, уже non pro re cogitante, sed pro asino turpissimo habendus est. Сознавали и все-таки продолжали говорить, сами ужасаясь тому, что говорили. Какой может быть еще больший позор, какое еще более отвратительное нечестие, чем необходимость думать и говорить не то, что тебе нужно говорить, а то, что ты принужден говорить «по законам твоей природы»! Сам Иов, если бы в годы его благоденствия ему пришлось выступить как утешителю пред лицом «изверженного из лона общего» человека, наверное, не придумал бы ничего лучшего, чем то, что ему говорили друзья. Он ведь начал с «Бог дал, Бог взял, да будет благословенно имя Господне». И казалось, что само благочестие говорило его устами. На поверку же вышло, что это не благочестие, а нечестие, и, по-видимому, величайшее нечестие, что это то «послушание и благочестие», которые вошли в плоть и кровь человека, после того как он вкусил от плодов с дерева познания добра и зла. Киркегард, по-видимому, это чувствовал: в этом и была та тайна его, которую он так тщательно скрывал от «этического», в этом и только в этом и смысл его Suspension des Ethischen. Но дальше временного устранения этического он не решался идти. Он не только никогда не связывает «этическое» с падением человека, для него «этическое» всегда является необходимым диалектическим моментом в развитии человека в направлении к религиозному. И – точно бы он был правоверным гегелианцем – моментом отнюдь не отмененным и не отменяемым, а только «снятым». Незадолго до смерти (в 1854 г.) он записывает в своем дневнике (Tag. II, 364): «Когда Христос возопил: Боже мой, Боже мой, отчего Ты Меня покинул? – это было страшно для Христа, и так это обычно и изображают. Но, мне кажется, еще страшнее было Богу слушать это. Быть таким неизменным – это ужасно. Но нет, не в этом еще самое страшное – но в том, чтобы быть таким неизменным и притом быть любовью. Бесконечное, глубокое, неисповедимое страдание. И я, бедный человек, и я немало в этом смысле испытал: не быть в состоянии ничего изменить и любить притом. Я все это испытал, и это помогает мне хоть чуть-чуть, хоть издалека получить представление о страданиях божественной любви». Думаю, что после всего вышесказанного эти строки не нуждаются в комментариях. Всеобщая и необходимая истина покорила не только Киркегарда, но и самого Бога. Для Бога не все возможно, для Бога многое невозможно, невозможно самое главное, самое важное, самое нужное. Положение Бога еще хуже, чем положение Киркегарда или положение Ницше, которому «самое страшное, самое черное, самое ужасное» вползло в душу. С таким «опытом» подошел Киркегард к рассказу Библии о грехопадении. Вперед можно сказать: для человека, как и для Бога, есть один выход, одно спасение: плоды с дерева познания добра и зла, которые после Сократа стали принципом философии для всех будущих времен и почти на наших глазах превратились в спинозовские блаженства. Обиженная этика получит полное удовлетворение – человек ей откроет все свои тайны. Может быть, и Гегель, которого Киркегард обижал еще больше, чем этику, забудет все жестокие слова, которые направлял по его адресу неистовый творец Entweder – Oder. И уже не олимпийские боги будут смеяться над Гегелем, а Гегель над богами.
XIV
Богу приходится идти в науку и искать поддержки у Сократа, истина которого стала принципом философии для всех будущих времен! Все lugere et detestari самого Бога беспощадно разбиваются о его «неизменность», как у Киркегарда его lugere et detestari разбивались о неизменные законы бытия, в которое он погружен был самым своим появлением на свет.
И Богу ничего не остается, как с душевным спокойствием сносить удачи и неудачи, и Он через tertium genus cognitionis неизбежно приходит к убеждению, что блаженство не есть proemimum virtutis, sed ipsa virtus. По Сократу, добродетельный человек будет блаженствовать и в фаларийском быке, по Киркегарду, «христианство» тоже не дает откровений об новой истине, а приносит лишь назидание, о котором, как и о назидании, принесенном Сократом, приходится сказать, что на человеческую оценку оно хуже всякой беды, какая только может с нами приключиться. Лютер говорил о Боге, что он есть всемогущий Бог, творящий все из ничего. Для Киркегарда – воля Бога так же парализована его неизменностью, как и воля человека необходимостью, – и даже в еще большей мере. Пред лицом своего изнемогающего на кресте возлюбленного сына он испытывает тот же ужас от своей беспомощности, какой испытывает и сам Киркегард пред лицом замученной им Регины Ольсен: чувствует, что нужно бежать, нужно двигаться, нужно что-то делать, и в то же время сознает, что он весь во власти «категорий своего мышления» и не может пошевелить ни одним членом. Лютер, мы знаем, тоже говорил о servo arbitrio. Но его порабощенная воля относилась к человеку. У Киркегарда, как у Сократа и Спинозы, de servo arbitrio распространяется и на самого Бога. У него был момент, когда он решился броситься за спасением к Абсурду. В силу Абсурда, говорит он нам. Бог может решиться на Suspension des Ethischen и возвратить Аврааму Исаака, Бог может воскресить убитого и т. д., т. е. прорваться через свою неизменность. Но даже и тогда, когда он так вдохновенно возвещал о том, что для Бога нет ничего невозможного, он не мог отвязаться от мысли, что «в мире духа» все же есть, должен быть какой-то свой порядок – не тот, который мы наблюдаем здесь, на земле, – но все же строгий, точный и определенный, извечный порядок: там солнце не всходит равно над грешниками и над праведниками, там сыт только тот, кто работает и т. д. Соответственно этому и вера Авраама, несмотря на все, что Киркегард говорил, вовсе не была отменой «этического». Наоборот – вера Авраама, в последнем счете, оказалась только исполнением требований этического. Иначе говоря: в Аврааме Киркегард усматривал, вопреки всему что он говорил, не свободное бесстрашие человека, за которым стоит всемогущий Бог, – Авраам был для него, выражаясь его языком, только «рыцарем резиньяции», как и Бог, оставивший своего сына, был тоже только рыцарем резиньяции. В вере Авраама он видит не дар Бога, а его собственную заслугу. Человек обязан верить, несчетное количество раз повторяет он, и тот, кто эту обязанность выполняет, тот «работает» и своей работой приобрёл тает право на блага, уготовленные праведникам в царстве духа, где солнце светит только «праведникам». Праведность же, как и вера, состоит в том, чтобы жить в тех же категориях, в каких мы мыслим. Бог должен быть неизменным – и он жертвует своим сыном. Авраам должен повиноваться Богу – и он заносит нож над Исааком. Жизнь духа начинается за чертой «ты должен», от которого Бог так же мало свободен, как и человек. Откуда взял эту истину Киркегард? В Библии Бог вовсе и не представляется неизменным, и в Библии «отец веры» не всегда повинуется Богу. Когда Бог, разгневавшись на людей, решил послать на землю потоп, праведник Ной точно не спорил с ним и послушно заполз в свой ковчег, довольный тем, что ему удалось спасти жизнь себе и своим близким. Но Авраам препирался с Богом по поводу Содома и Гоморры, и Бог, забыв про свою неизменность, уступил своему «рабу». Очевидно, что библейская «вера» ничего общего с повиновением не имеет и что всякое «ты должен» лежит в областях, куда лучи веры не доходят. Сам Киркегард в «Krankheit zum Tode» пишет по поводу загадочных слов ап. Павла: «Все, что не от веры, есть грех» (Рим. XIV, 23): «Это принадлежит к решительнейшим определениям христианства, что противуположностью греху является не добродетель, а вера» (стр. 80). И это он повторяет в той же книге несколько раз. А в «Begriff der Angst» (стр. 106) он говорит: «противуположностью свободы является вина». Но если это так, если противуположностью греху и вине является вера и свобода, то не свидетельствуют ли все размышления Киркегарда о царствующих в области духа порядках и законах лишь о том, что у человека нет ни веры, ни свободы, а только вина и бессильная добродетель.
И что Киркегард почерпал свое христианское назидание не у Абсурда, который он так прославлял, и не в Св. Писании, которое считал откровением истины, а в том «знании», которое нам принес мудрейший из людей, решившийся вкусить от плодов запретного дерева. В «Begriff der Angst» Киркегард уверенно заявляет по поводу первого человека (5, 36): «невинность есть неведение. В невинности человек определяется не духовно, а душевно, в непосредственном единении с его природностью. Дух в человеке еще дремлет. Такое понимание находится в полном согласии с Библией, которая отрицает за человеком в состоянии невинности знание разницы между добром и злом». Библия действительно отрицает за человеком в состоянии невинности знание различия между добром и злом. Но это было не слабостью, не недостатком, а силой и великим преимуществом его. Человек, каким он вышел из рук Творца, не знал и стыда, и в этом тоже было его великое преимущество. Знание добра и зла, как и чувство стыда, пришло лишь после того, как он отведал плодов запретного дерева. Это для нашего разума непостижимо, как непостижимо, что от плодов с дерева познания могла прийти смерть. И мы «жадно стремимся», опираясь на непогрешимость своего разума, утверждать, что в человеке, не знающем различий между добром и злом, дух еще дремлет. Но в Библии этого нет. В Библии сказано противуположное – что все беды человеческие произошли от знания. В этом и смысл приводимых Киркегардом слов апостола Павла – все, что не от веры, есть грех. Знание, по Библии, по самому существу своему исключающее веру, и есть грех ????’?????? (по существу), или первородный грех. В противуположность Киркегарду нужно сказать, что именно плоды с дерева познания усыпили человеческий дух. Оттого только Бог и запретил Адаму есть их. Слова, обращенные Богом к Адаму: «а от дерева познания добра и зла не ешь от него; потому что в день, в который вкусишь от него, умрешь», – совершенно не ладятся с нашими представлениями ни о познании, ни о добре и зле, но смысл их совершенно ясен и не допускает никакого толкования. В них, и только в них, скажу еще раз, один раз на всю историю человечества прозвучало то, что заслуживает названия критики чистого разума. Бог определенно сказал первому человеку: не доверяй плодам с дерева познания, они несут с собой величайшую опасность. Но Адам, как впоследствии Гегель, противупоставил «недоверие недоверию».
И, когда змей стал убеждать его, что плоды эти есть можно, что, вкусивши от них, люди станут, как боги, первый человек и его жена поддались искушению. Так рассказывается в книге Бытия. Так понимает библейское повествование ап. Павел, так понимал его и Лютер. Ап. Павел говорит, что, когда Авраам пошел в обетованную землю, он пошел, сам не зная куда идет.
Это значит, что в обетованную землю может прийти лишь тот, кому уже можно не считаться со знанием, кто от знания и его истин свободен: куда он придет, там будет обетованная земля. Змей сказал первому человеку: будете, как боги, знающие добро и зло. Но Бог не знает добра и зла. Бог ничего не «знает», Бог все творит. И Адам до грехопадения был причастен божественному всемогуществу и только после падения попал под власть знания – и в тот момент утратил драгоценнейший дар Бога, свободу. Ибо свобода не в возможности выбора между добром и злом, как мы обречены теперь думать. Свобода есть сила и власть не допускать зло в мир. Бог, свободнейшее существо, не выбирает между добром и злом. И созданный им человек тоже не выбирал, ибо выбирать не из чего было: в раю не было зла. И только когда по внушению враждебной и непонятной нам силы первый человек протянул руку к запретному дереву, дух его обессилел, и он превратился в то слабое, немощное, подвластное чуждым ему началам существо, каким он нам сейчас представляется. Таков смысл «грехопадения» по Библии. Нам это представляется столь фантастическим, что даже люди, считавшие Библию боговдохновенной книгой, всегда старались так или иначе перетолковать сказание книги Бытия. И Киркегард, как видим, не составляет исключения. По его мнению, от грехопадения человек пробудился к знанию добра и зла. Но если бы было так, то какое же это было бы грехопадение? Тогда надо было бы признать, что не змей обманывал человека, а Бог, как признавал Гегель. Киркегард на это не решается открыто пойти, но фактически его толкование грехопадения сводится именно к этому. Он заявляет: «скажу прямо, что я не могу связать со змеем никакой определенной мысли. Помимо всего, змей приводит к той трудности, что искушение приходит извне» (Begriff der Angst, 42). Бесспорно, что, согласно Библии, искушение пришло извне. И тоже бесспорно, что нашему разуму, и еще в большей степени нашей морали, такое допущение представляется чудовищным. Но ведь сам Киркегард взывал к Абсурду, и он же вдохновенно говорит о Suspension des Ethischen. Отчего же перед лицом наиболее загадочного из всего того, о чем нам повествует Библия, Киркегард вновь возвращается и к разуму, и к морали? Откуда пришло к нему это «искушение»? Изнутри или извне? И не есть ли это что-то большее и неизмеримо более страшное, чем искушение? Киркегард не может связать со змеем никакой определенной мысли. Но ведь он же сам говорил нам о тех ужасах, которые испытывает человек, когда чувствует, что ему нужно бежать со всей возможной быстротой, но что какая-то сила парализовала его и он не может пошевелить ни одним членом.
И не только он, сам Бог находится во власти той же силы, заворожившей его и парализовавшей его волю. Что это за сила? Не есть ли библейский змей только символ, только образное выражение того, что определило собой судьбу Киркегарда, что продолжает решать судьбы всех людей? И что, стало быть, забыть о змее, под тем предлогом, что его нельзя вместить в наше «мышление», значит отречься от того, что открывает человеку библейское сказание о грехопадении, и подменить откровение вынесенными из собственного «опыта» теориями? Такого вопроса Киркегард себе не ставит. Он хочет непременно «понять», «объяснить» грехопадение – хотя постоянно повторяет, что оно необъяснимо, не допускает объяснения. Соответственно этому он во что бы то ни стало стремится усмотреть и найти какой-то изъян уже в самом состоянии невинности. «В состоянии невинности, – пишет он (Begriff der Angst, 36), – есть мир и покой, но в то же время есть еще что-то – правда, не тревога и не борьба: ведь бороться не из-за чего. Что же это такое? – Ничто! Какое же действие оказывает это ничто? Оно порождает страх. В этом глубокая тайна невинности, что она в то же время есть страх… Понятие страха никогда не занимало психологии, поэтому я должен обратить внимание, что страх нужно точно отличать от боязни и т. п. состояний: эти последние относятся к чему-то определенному, в то время как страх есть действительность свободы как возможности пред и до всякой возможности». Опять приходится спросить – откуда взял все это Киркегард, кто открыл ему тайну невинности? В Библии об этом ни слова нет. По Библии, страх и стыд пришли после грехопадения, и пришли не от неведения, а от знания. Так что страх является не действительностью свободы, а выражением потери свободы. Больше того, по Библии, страх, пришедший после грехопадения, определенно связывается с нависшей над человеком угрозой всяких бед: в поте лица своего будешь есть хлеб, в муках будешь рожать, болезни, лишения, смерть – все, что выпало на долю многострадального Иова, не менее многострадального Киркегарда и даже самого Авраама – хотя только в потенции, ибо и Аврааму предстояло потерять то, что ему было всего дороже. Но Киркегард чувствовал, что если признать, что страх пришел после грехопадения и что страх есть не выражение действительности свободы, а выражение потери свободы, то ему придется пойти на то, что ему представлялось совершенно нестерпимым: придется рассказать во всеуслышанье о своей «тайне» и, пренебрегши судом «этического», назвать ее конкретным именем или хотя бы признаться в самых общих словах, что он порвал с Региной Ольсен не в силу «неизменности» своей природы, а в силу сковавшей его «необходимости». На это он не мог решиться. Если бы у Киркегарда был сын, который ему был так же дорог, как Аврааму Исаак, у него бы хватило мужества принести его в жертву. Но опозорить себя пред «этическим» – на это он не согласился бы даже по требованию самого Творца. Думаю, что можно то же сказать о Ницше. Он принял все пытки, на которые его обрекла жизнь, но и на пытке он продолжал твердить, что необходимость не оскорбляет его, что он не только принимает, но любит необходимость. Совсем как у Киркегарда, онтологическая категория необходимости «преображается» у него в этическую категорию «неизменности», из которой не дано уйти уже не только человеку, но и Богу. И в этом, очевидно, и состоит действие плодов от дерева познания добра и зла, и в этом смысл «падения человека». В пустом призраке, в бессодержательном Ничто он вдруг начинает видеть всемогущую необходимость. Оттого все, что делает падший человек для своего спасения, ведет его к гибели. Он хочет уйти от «необходимости» и превращает ее в неизменность, от которой уже уйти некуда. С необходимостью он не может бороться – но он может ее проклинать, ненавидеть. Пред неизменностью он принужден преклониться: она ведет его в царство духа, она дает ему oculum mentis, она перед tertium genus cognitionis порождает в нем amor erga rem aeternam et infinitam, amor Dei intellectualis. Киркегард начал с того, что в невинности и неведении усмотрел страх перед Ничто. Чтобы понять и объяснить его, он вспоминает о жути, которую испытывают дети, когда слышат страшные сказки. И затем от страха пред ничто и от детской жути он незаметно переходит к действительным ужасам жизни, которых было полно его существование. Мы помним, сколько Киркегард рассказывал нам о пережитых им ужасах. Казалось бы, что он должен был все силы свои направить к тому, чтобы вырвать из жизни то начало, которое эти ужасы приносит с собой. Но он делает прямо противуположное. Он стремится оправдать, узаконить, увековечить это начало. Страх перед Ничто, из которого вытекли все ужасы бытия, он открывает у человека в состоянии невинности. Не нужно много проницательности, чтобы в этом Ничто усмотреть не обыкновенное, бессильное и беспомощное ничто, не способное ничем задеть даже самые слабые человеческие интересы, а ту властную, даже всемогущую необходимость, перед которой с древнейших времен склонялась безвольно человеческая мысль. Но, если это так, если Ничто присуща такая огромная, хотя и отрицательная, уничтожающая сила, что же заставило Киркегарда утверждать, что он не понимает роли змея в сказании о грехопадении. Ведь змей и был этим страшным Ничто, этим bellua, qua non occisa, homo non potest vivere, выражаясь языком Лютера. И Киркегард ли этого не знал! Ведь страх перед Ничто стал между ним и Региной Ольсен, между Богом и Его возлюбленным Сыном! Но тут только и раскрывается смысл апостольских слов: все, что не от веры, есть грех. Знание Киркегарда не освобождало, а связывало его, как связывает оно нас всех. Ничто не есть ничто, оно есть что-то, и убить его, лишить его его ничтожащей силы никому не дано. А раз так, неведение первого человека не могло продолжаться вечно. Должен был наступить момент, когда у него «раскрылись» глаза, когда он «узнал», и этот момент, вопреки тому, что сказано в Библии, не был падением, а был рождением духа в человеке, рождением духа в самом Боге. Библейское откровение, как и языческая мудрость приводят к одному результату: нет такой силы, которая вырвала бы людей из власти великой необходимости и всемогущего Ничто, со всеми ужасами, которые они с собой приносят. Все это нужно принять, со всем этим нужно жить: на этом сходятся и религия и философия, это принимает и обыкновенный здравый смысл. Единственно, что могут к этому прибавить от себя религия и философия, – есть назидание. На человеческую оценку, это назидание хуже самой страшной беды, какая может только приключиться с человеком. Но выбирать тут не приходится. Выбор сделан и за человека и за Бога. И человек и Бог ex solis suae naturae legibus, et a nemine coactus agit (действует лишь по законам своей природы и ничем не принуждаем). Закон природы человека – необходимость. Закон природы Бога – неизменность, т. е. та же необходимость, только переименованная в этическую категорию. Киркегард ведь и в своих отношениях к Регине усмотрел ту неизменность, которая обрекла Бога на роль немощного созерцателя крестных мук Своего возлюбленного Сына.
XV
Киркегард утверждал, что пред лицом Авраама, заносящего нож над Исааком, мы испытываем horror religiosus. Это не совсем так. Horror, и та крайняя степень horror’a, которая заслуживает эпитета religiosus, мы испытываем, когда видим, что на человека надвигается отвратительное чудовище, Необходимость – она же Ничто, – и он, точно завороженный какой-то сверхъестественной силой, не только не может пошевелить ни одним членом, не только не разрешает себе, как это бывает в сонном видении, хотя бы бессмысленным криком выразить свое отчаяние и свой протест, но напрягает все свои душевные способности, чтобы узаконить, оправдать и «понять», т. е. превратить в вечную истину то, что в опыте ему дано только как факт. Киркегард неустанно повторяет (Begriff der Angst, V, 44), что «возможность свободы состоит не в том, чтобы мочь выбирать между добром и злом». Такое недомыслие столь же мало соответствует Св. Писанию, как и мышлению. Возможность в том, что человек – может, что «грехопадение происходит в бессилии», что «страх есть обморок свободы». Но преодолеть свое бессилие, очнуться от обморока, побороть страх и осуществить то «может», которое сулит человеку свобода, безмерно труднее, чем выбирать между добром и злом. Киркегард начал с того, что Бог может возвратить Аврааму Исаака, Иову его детей и богатства, может соединить бедного юношу с царевной, а кончил тем, что отнял сам у Бога возлюбленного Сына, т. е. свел свободу Бога к возможности выбирать между добром и злом: непосредственно данное все должны принимать – и люди и Бог. Эта «истина», не существовавшая для неведения первого человека, после того, как Адам вкусил от плодов дерева познания, стала принципом мышления для всех последующих времен. Только через эту истину человек может войти в «царство духа». Таким образом, «царство духа» Киркегарда значит: непосредственные данные сознания непреоборимы, бежать от них некуда, спасение человека в eritis sicut dei, scientes bonum et malum. В последние годы своей жизни Киркегард приходил в ярость, когда слышал, что какой-нибудь пастор утешал мать, потерявшую ребенка, напоминая ей о том, как Бог искушал Авраама или Иова. Христианство несет не утешение, а назидание, которое, как и назидание Сократа, хуже всякой беды, какая может приключиться с человеком. Киркегард, как можно без труда заключить из его «непрямых» признаний, пытался даже в душе молодой Регины Ольсен разбудить отчаяние и ужас пред жизнью. Ему, правда, не удалось «поднять» ее до себя. При всей своей проницательности, он даже, по-видимому, и не догадывался, что он делал с молодой женской душой: от этого испытания судьба его охранила или он сам себя оберег. Когда он рассказывал, что его возлюбленной было 17 лет, а ему – семьсот, ему казалось, что ценой невинного на вид преувеличения он покупал себе оправдание пред «этическим». Но это было не преувеличение, а неправда, и не невинная, совсем не невинная неправда. Ему было не семьсот, а семьдесят лет: семидесятилетний старик посватался за молодую девушку и, убедившись, что молодость не вернется, что сам Бог не может вернуть молодость старику, в отчаянии бросается к дереву познания добра и зла и всеми силами стремится принудить Регину Ольсен следовать за собой. Необходимость на наших глазах превращается в неизменность. Даже Бог, завороженный страхом пред изначальным Ничто, которое становится между Ним и его Сыном, как оно стало между Киркегардом и Региной Ольсен, теряет свое всемогущество и становится таким же беспомощным и бессильным, как сотворенный им человек. Это и значит: когда знание убило в нас свободу, нашей душой овладел грех. Мы не только не смеем вернуться к неведению, мы в неведении видим сон духа. Киркегард взывает к Абсурду, но тщетно: он может только взывать к Абсурду, но осуществить его не может. Он непрерывно говорит об экзистенциальной философии, он высмеивает спекуляцию и спекулянтов с их «объективными» истинами, но, как Сократ, в своем первом и втором воплощении, он стремится и сам жить, и других принудить жить в тех же категориях, в которых он мыслит. Он постоянно ссылается на Св. Писание, но в глубине своей души он твердо убежден, он «знает», что «Бог не хотел открывать израильтянам атрибутов Своей абсолютной сущности… оттого Он действовал на них не доводами, но звоном труб: громом и молниями». И не один Киркегард, мы все убеждены, что к истине ведут только «доводы», и небесные громы считаем пустым шумом. Предательское «будете, как боги» очаровало нас, и нами овладело то страшное enchantement et assoupissement surnaturel, о котором говорит Паскаль, и чем добросовестнее мы подчиняем свою жизнь своей мысли, тем глубже и непробуднее становится наш сон. Сократовское знание о незнании, спинозовский третий род познания, кантовский разум, жадно стремящийся ко всеобщим и необходимым суждениям, никогда не выведут человека из сонного оцепенения и не вернут ему утерянной свободы, т. е. свободы неведения, свободы от ведения. Мы «принимаем», что позорят наших дочерей, убивают сыновей, разрушают родину, что Deum nullum scopum vel finem habere,[63 - Бог не имеет никакого намерения или конечной цели (лат.).] что метафизике, которой до этого нет никакого дела, еще предстоит решить, есть ли Бог, бессмертна ли наша душа, свободна ли наша воля, а мы, которым это важнее всего на свете, принуждены, подавивши в себе все lugere et detestari, aequo animo, подчиниться вперед всякому решению, какое бы метафизика ни вынесла, и еще видеть в своей покорности добродетель, а в добродетели высшее блаженство. Философия, начинающая с необходимых истин, не может не кончаться возвышенным назиданием. И религия, которая в угоду философии усматривает в неведении первого человека сон духа, тоже приводит к назиданию, и не менее возвышенному. Сократ и Спиноза говорили о фаларийском быке, Киркегард о блаженстве, которое страшнее всех ужасов, когда-либо выпадавших на долю человека. И другого выхода нет. Пока мы не вырвемся из власти сократовского знания, пока мы не вернемся к свободе неведения, мы будем пленниками того страшного наваждения, которое превращает человека из res cogitans в asinus turpissimus. Но может ли человек своими силами вырваться из заколдованного круга, в который его загнала Необходимость? Ужас падения, ужас первородного греха, говорили нам Ницше и Лютер, именно в том, что падший человек ищет своего спасения там, где его ждет гибель. Необходимость не оскорбляет падшего человека. Он ее любит, он ей поклоняется и в своем поклонении видит свое величие, свою добродетель – как нам признался сам Ницше, обличавший dеcadence Сократа. И Спиноза, в исполнение завета мудрейшего из людей, слагает вдохновенные гимны необходимости; и его не оскорбляет, его даже радует его способность «сносить равнодушно» все, что ни пошлет ему судьба. Он несет людям, как драгоценнейшее «учение», заповедь non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere и равнодушие к «вещам, которые не находятся в нашей власти» (позорят дочерей, убивают сыновей и т. д.). Киркегард же отдает самого Бога во власть Необходимости, которую он, чтобы загладить нанесенные им обиды этическому, возводит в сан Неизменности. «Этическое», т. е. плоды с дерева познания добра и зла, от которых Аристотель пытался отмахнуться своим минимумом житейских благ, разрушило все и подвело человека к бездне извечного Ничто.
Отсюда только и можно понять ту «жестокость», которую открыто проповедовали Киркегард и Ницше и которая незримо присутствовала в учении Сократа и Спинозы под их «блаженствами». В этой «жестокости» раскрывается истинный смысл, таившийся под словами «будете, как боги». Под видимым спокойствием Сократа и Спинозы мы различаем тот же ужас подавленных lugere et detestari, который слышится в неистовых речах Ницше и Киркегарда: падшему человеку не дано своими «делами» вернуть свою первоначальную свободу. Знание и добродетель парализовали нашу волю и привели нас к тому оцепенению духа, которое в бессилии и покорности видит свое совершенство. Но если нам не дано «своими делами» прорваться к истинному бытию, то, может быть, то, что «с нами делается» помимо нас, почти против нас, вынесет нас за пределы того завороженного царства, в котором мы осуждены влачить свое существование.
В жизни человека, кроме знания и добродетели, есть еще «ужасы», о которых столько говорили Ницше и Киркегард и которыми у Сократа и Спинозы напитаны их «docet», их назидания. Сколько бы знание ни внушало нам, что Необходимость всесильна, сколько бы мудрость ни уверяла нас, что добродетельный человек найдет блаженство и в фаларийском быке, погасить в человеке его lugere et detestari никогда не удастся. Из этих lugere et detestari, из этих ужасов бытия и выковывается страшный «Божий молот» пророков и Лютера. Но молот этот направлен не против живого человека, как казалось Ницше и Киркегарду, шедшим по проложенным Сократом и Спинозой путям. «Qua homo superbit et somniat, se sapere, se justum et sanctum esse, ideo opus est, ut lege humilietur, ut sic bestia ista, opinio justitae occidatur, qua non occisa, homo non potest vivere». (Так как человека обуяла гордыня и он воображает, что он мудр, что он свят, что он праведен, то необходимо, чтобы закон его смирил, чтобы таким образом этот дикий зверь, уверенность в своей праведности, был убит в нем, ибо пока он не убит, человек не может жить.) Переводя на современный язык: человек должен пробудиться от своего векового оцепенения и решиться мыслить в тех категориях, в которых он живет. Знание превратило действительное в необходимое и приучило нас все «принимать», что бы судьба нам ни посылала. Это и есть обморок, бессилие, паралич – иной раз кажется, даже смерть свободы: человек, выражаясь языком Спинозы, из res cogitans превращается в asinus turpissimus. Разве живой, свободный человек может «принять», разве он может присутствовать при том, как позорят его дочерей, убивают сыновей, разрушают родину? Не только люди, камни, говорил нам Киркегард, рыдали бы, если бы они знали, какими ужасами была полна его душа, а люди, слушая его, смеялись. Если только забытое нами слово «грех» имеет какой-нибудь смысл, то самый страшный, непростительный, смертельный грех в этом «принятии» и еще в большей мере в тех назиданиях, в тех aequo animo, которые нам приносит «истинная философия» и которыми, в свой черед, она держится. Здесь нужно искать того «дикого зверя, не убив которого человек не может жить». Зачарованные лживым «будете, как боги, знающие добро и зло», ставшим после Сократа принципом мышления для всех будущих времен, даже Киркегард и Ницше все свои силы устремили к тому, чтобы убедить человека отречься от res quae in sua potestate non sunt и внушить ему убеждение, что beatitudo non est proemium virtutis, sed ipsa virtus.
И никакими «доводами» не рассеять уверенность человека во всевластии необходимости. Но под ударами malleus Dei пренебреженные lugere et detestari претворяются в новую силу, которая пробудит нас от векового оцепенения и даст нам смелость вступить в борьбу со страшным чудовищем. Ужасы, которыми держалась необходимость, обратятся против нее самой. И в этой последней борьбе, борьбе на жизнь и на смерть, быть может, человеку удастся, наконец, вернуть себе истинную свободу, свободу неведения, свободу от ведения, которая была утрачена первым человеком.
Третья часть
О средневековой философии
(Concupiscentia irresistibilis)
(Непобедимое стремление)
Si vis tibi omnia subjicere, te subjice ratione.
Если ты хочешь все подчинить себе, подчинись разуму.
Seneca
Наес omnia tibi dabo, si cadens adoraveris me.
Все это дам тебе, если, падши, поклонишься мне.
Vade, Satan: scriptum est enim Dominum tuum adorabis et illi soli servies.
Отойди от меня, Сатана: ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.
Mat. IV, 9—10
I
Одна из последних работ Э.Жильсона, знаменитого историка средневековой философии, называется «L’esprit de la philosophie mеdiеvale».[64 - «Дух средневековой философии» (фр.).] Но задача его значительно шире, чем может показаться по заглавию. На этот раз Жильсон выступает пред нами не только как историк философии, но как философ. Пользуясь огромным, накопленным за многие годы плодотворного труда историко-философским материалом и с мастерством, свойственным немногим избранным, он ставит и разрешает один из основных и труднейших философских вопросов, не только о том, была ли иудейско-христианская философия, но – и это в особенности важно – каким образом иудейско-христианская философия оказалась возможной и что нового она дала человеческой мысли. На первый взгляд, иудейско-христианская философия кажется выражением, заключающим в себе внутреннее противоречие. В особенности в том значении, какое ей придает Жильсон. По Жильсону, иудейско-христианская философия есть философия, источником которой является библейское откровение. И он же вместе с тем считает, что всякая философия, заслуживающая названия философии, есть философия рациональная, опирающаяся на самоочевидности и потому, по крайней мере в идее своей, приводящая к доказанным, непререкаемым и бесспорным истинам. Все же истины откровения, как он не раз усиленно и как будто даже радостно подчеркивает, доказательствами пренебрегают. «La pensеe grecque, – пишет он, – n’a pas atteint cette essentielle vеritе que livre d’un seui coup et sans l’ombre de preuve (подчеркнуто мною) la parole de la Bible: Audi Isra?l, Dominus, noster Dominus unus est» (I, 49).[65 - Греческая мысль не дошла до той существенной истины, которую сразу же и без тени доказательства высказывает Библия: «Слушай, Израиль: Господь Бог наш, Господь един есть» (фр.).] И еще раз: «Ici encore pas un mot de mеtaphysique, mais Dieu a parlе, la cause est entendue. Et c’est l’Exode qui pose le principe auquel la philosophic chrеtienne tout enti?re sera dеsormais suspendue» (I, 54).[66 - И здесь еще ни слова о метафизике, но – Бог сказал, дело решенное. Именно «Исход» устанавливает принцип, которого отныне будет держаться вся христианская философия (фр.).] И в третий раз: «Rien de plus connu que le premier verset de la Bible: Au commencement Dieu crеa le ciel et la terre. Ici encore pas trace de philosophie. Dieu ne justifie pas plus par voie mеtaphysique l’affirmation de ce qu’il fait que la dеfinition de ce qu’il est» (I, 71).[67 - Нет ничего более известного, чем первый стих Библии: «В начале Бог сотворил небо и землю». Здесь еще нет ни следа философии. Бог не дает никаких метафизических обоснований, утверждая свои деяния, как не дает и определения того, кто он есть (фр.).] И так во всем Св. Писании: Бог не оправдывается, не доказывает, не аргументирует, т. е. проводит Свои истины совсем не теми путями, какими их проводит метафизика. И тем не менее, провозглашаемые Им истины оказываются по своей убедительности ничем не отличающимися от истин, добываемых нашим естественным разумом, – и прежде всего самоочевидными. Жильсон повторяет это с такой же настойчивостью, с какой он проводит свою мысль о том, что истины Библии нисколько о своей доказательности не заботятся.
«Le premier de tous les commandements est celui-ci: еcoute, Isra?l, – цитирует он Map. XII, 29 и тут сейчас же прибавляет: Or, ce credo in unum Deum des chrеtiens, article premier de leur foi, est apparu du m?me coup comme une еvidence rationelle irrеfragable» (I, 50).[68 - Самая первая заповедь такова: Слушай, Израиль… Итак, это credo in unum Deum [верую во единого Бога] христиан, первое положение их веры, явилось сразу как рационально не сокрушимая очевидность (фр.).] И еще тоже: «En livrant dans cette formule si simple (au commencement Dieu crеa le ciel et la terre) le secret de son action crеatrice, il semble que Dieu donne aux hommes un de ces mots d’еnigme longtemps cherchеs, dont on est s?r d’avance qu’ils existent, qu’on ne les retrouvera jamais ? moin qu’on nous les donne, et dont l’еvidence s’impose pourtant avec une force invincible aussit?t qu’on nous les a donnеs» (I, 71).[69 - Открывая такой простой формулой (в начале сотворил Бог небо и землю) тайну своего творческого деяния, Бог как бы произнес одно из тех загадочных, издавна искомых слов, в существовании которых никто не сомневался, как никто не сомневался и в том, что их не найти, пока они не будут произнесены, чтобы в тот же момент поразить всех своей неодолимой очевидностью (фр.).] Он ссылается на Лессинга: «Sans doute, disait profondеment Lessing, lorsqu’ elles furent rеvеlеes, les vеritеs religieuses n’еtaient pas rationnelles, mais elles furent rеvеlеes afin de le devenir».[70 - Религиозные истины, – глубокомысленно заметил Лессинг, – безусловно, не были рациональными, поскольку даны в откровении, но они были открыты, чтобы стать рациональными (фр.).] Правда, ему приходится – и это очень знаменательно – ограничить Лессинга: «Non pas toutes, peut-?tre, – так заканчивает он первую главу своего первого тома, – mais du moins certaines, et c’est l? le sens de la question dont les le?ons qui vont suivre tenteront de trouver la rеponse».[71 - Не все, может быть, но, по меньшей мере, некоторые, и в этом смысл вопроса, на который мы попытаемся найти ответ в следующих лекциях (фр.).] Можно было бы представить еще много цитат в таком роде из книги Жильсона, но вряд ли в этом есть надобность. Мне представляется, что и приведенных достаточно, чтобы понять, в каком направлении стремится Жильсон заставить работать нашу мысль. Откровенная истина ни на что не опирается, ничего не доказывает, ни перед кем не оправдывается, и все-таки в нашем разуме она превращается в истину оправданную, доказанную, самоочевидную. Метафизика стремится овладеть и овладевает откровенной истиной: эта идея, проходящая красной нитью через оба тома великолепного исследования Жильсона, дает ему возможность установить связь и зависимость между средневековой философией, с одной стороны, и античной и новой – с другой.
Философия оказывается, как у Гегеля, единой на всем продолжении ее тысячелетнего существования: греки искали того же, чего искали схоластики; отец новой философии Декарт и все, кто шел за Декартом, никогда не могли и не хотели освободиться от влияния средневековья. Жильсон приводит суждение Климента Александрийского, что для ранней христианской мысли было уже два ветхих завета – библейский и греческая философия (можно было бы еще указать на то место из «Стромат» Климента, где он говорит, что, если бы можно было отделить познание Бога от вечного спасения и ему нужно было бы выбрать между ???? ??????? ???? ????? (познанием Бога) и ???? ???????? ???? ???????? (вечным спасением), он бы выбрал ??????? ???? ?????). Он уже указывает, что средневековые мыслители считали дельфийское «познай самого себя» «упавшим с неба». Поэтому он считает ошибкой думать, вслед за Hamelin, что Декарт мыслил так, как если бы между ним и греками в области философии не было бы ничего сделано. Не только Декарт, но и все великие представители новой и новейшей философии находились в тесной связи со схоластиками: Лейбниц, Спиноза, Кант и все немецкие идеалисты шли по руслу, проложенному схоластической мыслью. И для них, конечно, греческая философия была вторым ветхим заветом. Но без схоластики, которая умела соединить Библию и открытые Библией истины с истинами самоочевидными, добытыми греками, новая философия никогда не могла бы сделать того, что она сделала. Заглавие основного произведения Декарта: «Mеditations sur la mеtaphysique, o? l’existence de Dieu et l’immoralitе de l’?me sont dеmontrеes» – и «la parentе de ces preuves de l’existence de Dieu avec celles de Saint Augustin et m?me celles de Saint Thomas»[72 - Родство этих доказательств бытия Бога с доказательствами св. Августина и даже св. Фомы (фр.).] – уже достаточно говорят в подтверждение этого положения. В особенности же важно указать, что вся картезианская система «est suspendue ? l’idеe d’un Dieu tout-puissant, qui se crеe en quelque sone soi m?me, crеe ? plus forte raison les vеritеs еternelles, у compris celles des mathеmatiques, crеe l’univers ex nihilo».[73 - Держится идеей всемогущего Бога, который, некоторым образом, создал сам себя, на еще более прочном основании создал вечные истины, включая математические, а также сотворил мир ex nihilo [из ничего (лат.)] (фр.).] Это действительно чрезвычайно важное указание. Не менее важно и указание Жильсона на заключительные слова лейбницевского «Discours mеtaphysique», которые он приводит полностью и сопровождает следующим замечанием: «се ne sont point l? les paroles d’un homme qui croit venir apr?s les Grecs comme si rien n’avait existе entre eux et lui».[74 - Это вовсе не речь человека, считающего себя прямым наследником греков, как будто между ними и им ничего не было (фр.).] И, наконец, по мнению Жильсона, то же можно было бы и о Канте сказать: «si l’on n’oubliait pas si souvem de complеter sa Critique de la Raison pure par sa Critique de la Raison pratique. On pourrait m?me en dire autant de tel de nos contemporains».[75 - Если бы частенько не забывали, что его «Критика чистого разума» дополняется «Критикой практического разума». То же можно было бы сказать и о наших современниках (фр.).] Так заканчивает он свои вводные замечания о роли средневековой философии в истории развития новейшей философской мысли. В заключительной же главе второго тома он с не меньшей энергией заявляет: «Il ne suffira pas qu’une th?se mеtaphysique ait oubliе son origine religieuse pour qu’elle devienne rationnelle. Il faudra donc expulser de la philosophie en m?me temps que de son histoire, avec le Dieu de Descartes, celui de Leibniz, de Malebranche, de Spinoza et de Kant, car pas plus que celui de saint Thomas, ils n’existeraient sans celui de la Bible et de l’Evangile».[76 - Чтобы метафизическое положение стало рациональным, недостаточно забыть о его религиозном происхождении. Нет, для этого нужно будет изгнать из самой философии и из всей ее истории Бога Декарта, Бога Лейбница, Мальбранша, Спинозы и Канта, ибо без Бога Библии и Евангелия Бог этих философов мог бы существовать не более, чем Бог св. Фомы (фр.).]
Причем, Жильсон менее всего склонен затушевывать или даже преуменьшать влияние греческой философии на философию средневековья, как мог бы соблазниться человек менее подготовленный и более озабоченный апологетическими заданиями, чем самой сущностью поставленной им себе философской проблемы. Этим я не хочу сказать, что у самого Жильсона нет определенного взгляда на смысл и значение того, что сделано иудейско-христианской философией, и что, прикрываясь историческими вопросами, он уклоняется от тяжкой ответственности, связанной с необходимостью открыто высказаться по существу дела. Наоборот – повторю еще раз, – он с благородной смелостью подходит к представшим пред ним принципиальным проблемам, и если он пользуется историческим материалом, то лишь постольку, поскольку он рассчитывает, что в истории можно найти данные, которые нам помогут разобраться в трудном, сложном и запутанном положении, создавшемся для европейского человечества перед лицом необходимости сочетать добытые тысячелетней творческой мыслью античного мира истины с «откровениями», внезапно, точно с неба упавшими на него в тот момент, когда из дальних стран была ему принесена Библия. Он не колеблясь заявляет: «En se faisant plus vraiment philosophie, la philosophie devient plus chrеtienne».[77 - Чем более философия становится истинно философией, тем более она становится христианской (фр.).] И в этом заветная мысль всего его исследования, мысль, которую он не только не скрывает, но всегда выдвигает на первый план. «La conclusion qui se dеgage de cette еtude ou plut?t l’axe qui la traverse de bout en bout, c’est que tout se passe comme si la rеvеlation judеo-chrеtienne avait еtе une source religieuse de dеveloppement philosophique, le moyen-?ge latin еtant, dans le passе, le tеmoin par excellence de ce dеveloppement» (II, 205–206).[78 - Вывод, к которому подводит наше исследование или, лучше сказать, пронизывающая его основная идея, заключается в том, что все идет так, как если бы иудео-христианское откровение было религиозным источником философского развития, а главным свидетельством такого развития была в прошлом эпоха латинского средневековья (фр.).] И все же он остается настолько объективным и вместе с тем настолько уверенным в правильности защищаемого им положения, что с такой же решительностью заявляет: «On peut lеgitimement se demander s’il у aurait jamais eu une philosophie chrеtienne si la philosophie grecque n’avait pas existе» (I, 213).[79 - Можно с полным правом задать вопрос, возникла бы когда-либо христианская философия, если бы не существовала философия греческая (фр.).] И еще раз: «Si c’est ? l’Ecriture que nous devons d’avoir une philosophie qui soit chrеtienne, c’est ? la tradition grecque que le christianisme doit d’avoir une philosophie» (I, 224).[80 - Если мы обязаны Писанию тем, что обладаем философией христианской, то греческой традиции христианство обязано тем, что обладает философией (фр.).] В то время как Платон и Аристотель ушли в прошлое истории, «le platonisme et l’aristotеlisme allaient continuer de vivre d’une vie nouvelle en collaborant ? une Cuvre pour laquelle ils ne se savaient pas dеsignеs. C’est gr?ce ? eux que le moyen ?ge a pu avoir une philosophie. Ils lui ont enseignе l’idеe-perfectum opus rationis; – ils lui ont signalе, avec les ma?tres probl?mes, les principes rationnels qui commandent leur solution et les techniques m?me par lesquelles on les justifie. La dette du moyen-?ge ? l’еgard de la Gr?ce est immense…» (II, 224).[81 - Платонизм и аристотелизм продолжали жить новой жизнью, соучаствуя в работе, на которую сами не были способны. Именно благодаря им средневековье смогло создать философию. Они преподали ему идею perfectum opus rationis [совершенное произведение разума (лат.)]. Они не только озадачили средневековье проблемами, но и сообщили ему разумные принципы, задающие пра-вила решения подобных проблем, а также – саму технику их обоснования. Долг средневековья Греции огромен (фр.).]
Вот в кратких словах основные идеи замечательного исследования Жильсона. Без древней философии, исходившей из самоочевидных истин, добываемых естественным разумом, не было бы средневековой философии, без средневековой философии, принявшей и впитавшей в себя откровения Писания, не было бы новой и новейшей философии. Ясно, что поставленная себе и разрешенная Жильсоном задача выходит далеко за пределы того, что обещает ее сравнительно скромное заглавие. Речь идет не о духе средневековой философии, т. е. не о том, чтобы с более или менее исчерпывающей полнотой очертить и охарактеризовать то, что делали и сделали наиболее выдающиеся и влиятельные мыслители средневековья. Конечно, и такая задача имела бы большой и даже исключительный интерес, и у такого знатока средневековой философии и мастера своего дела, как Жильсон, мы бы могли многому поучиться, если бы он оставался в пределах, ограниченных заглавием. Но в еще большей степени захватывает нас вопрос, который он на самом деле себе поставил. Откровение, он нам сам это сказал, ничего не доказывает, ни на чем не основывается, никогда не оправдывается. Самая же сущность рационализма в том, что он всякое положение свое обосновывает, доказывает, оправдывает. Как же случилось, что в библейском «Исходе» средневековые философы отыскали метафизику? Может ли еще быть метафизика, которая видит свою сущность не только в том, что она дает нам истины, но главным образом в том, что ее истины неопровержимы и не допускают наряду с собой истин, им противуположных, – может ли быть метафизика там, где всякие доказательства принципиально, раз навсегда, отвергаются? – «Sans ombre, sans trace de preuve»,[82 - Без тени, без следа доказательства (фр.).] как сам Жильсон от своего имени и от имени средневековой философии нам сказал, пришли к людям все основоположные истины откровения. Больше того, в заключительных строках третьей главы 2-го тома мы читаем: «La mеtaphysique de l’Exode pеn?tre au cCur m?me de l’еpistеmologie, en ce qu’elle suspend l’intellect et son objet au Dieu dont l’un et l’autre tiennent leur existence. Ce qu’elle apporte ici de nouveau, c’est la notion, inconnue aux anciens, d’une vеritе crее, spomanеment ordonnеe vers l’Etre qui en est ? la fois la fin et l’origine, car c’est par lui seui qu’elle existe, comme lui seui peut la parfaire et la combler».[83 - Метафизика «Исхода» подчиняет разум и его предмет Богу, от которого зависит их существование, она, стало быть, пронизывает эпистемологию до основания. Она вносит в нее новое, неведомое древним понятие сотворенной истины, свободно подчиненной Существу, образующему ее начало и ее конец, ибо она существует только благодаря ему, и только оно одно может ее совершенствовать и восполнять (фр.).] Что метафизика «Исхода» такова – в этом сомнений быть не может: Бог Св. Писания стоит и над истиной и над добром: когда Декарт это говорил, он только выразил то, о чем твердит нам каждая строка Библии. Но может ли это «новое», принесенное в мир Библией, вместиться в то понятие о метафизике, которое выработал античный мир? И может ли греческая философия помочь средневековому мыслителю приобщиться к такой истине? Греческая философия имела своей задачей разыскание самоочевидных и в своей самоочевидности неопровержимых истин. Когда Кант в самом начале своей «Критики чистого разума» (1-го издания) пишет, что «опыт рассказывает нам, что существует, но не говорит, что существующее должно существовать так, а не иначе, и что поэтому он (т. е. опыт) не дает нам истинной всеобщности, и разум, жадно стремящийся к такого рода познанию, скорее раздражается, чем удовлетворяется опытом», он только резюмирует в немногих словах, что новая философия унаследовала от древней. Это то же, о чем говорит Аристотель в «Метафизике» (Мет. 981а 26): ??? ???? ???? ????????? ?? ???? ??????, ????? ?’???? ???????, ??? ??? ?? ????? ???? ??? ??????? ??????????? (эмпирическое знание есть знание того, как происходит что-либо в действительности (?? ????), и оно не есть еще познание того, почему (?? ????? ???? ?? ??????) то, что происходит, должно было произойти именно так, а иначе произойти не могло[84 - См. Эт. Ник. 1140b 31: ????????? ????? ??? ??????? ?????? ????????? ???? ???? ??? ???????? – знание есть восприятие всеобщего и необходимого, – оттого (Ibid., 1139 b 25) всякому познанию можно обучить и всякое содержание познания может быть передано другим.]). Идея знания у греков была неразрывно связана с идеей необходимости и принуждения. И то же у Аквината: De ratione scientiae est quod id quod scitur existimitur impossibile aliter se habere (Summa Th.
II Qu. I, art. V ad quartum – разумное знание есть то, благодаря которому известно, что существующее не могло бы быть иным). Можно ли рассчитывать, что метафизику «Исхода», которая ставит истину в зависимость от воли (греки бы сказали – и были бы правы – от произвола) Божьей, удастся подчинить и согласовать с основными принципами греческого мышления? И затем – кто решит, кому дано решить вопрос: нужно ли подчиниться метафизике «Исхода» и принять его эпистемологию или, наоборот, проверить и исправить эпистемологию «Исхода» теми рациональными принципами, которые нам завещала греческая философия? Декарт, мы знаем, целиком принял то новое, что принесла людям Библия: он утверждал, что самоочевидные истины сотворены Богом. Забегая вперед, я тут уже, однако, напомню, что Лейбниц, который имеет такие же права называться христианским философом и притом не менее гениально-философски одаренный, чем Декарт, приходил в ужас от декартовской готовности подчинить истину «произволу», хотя бы и Бога. Уже этого достаточно, чтобы убедиться, на какие трудности мы наталкиваемся при попытке навязать библейской философии те принципы, которыми держалась рациональная философия греков и держится рациональная философия нового времени. Кто рассудит между Декартом и Лейбницем? Философия «Исхода» говорит нам, что истина, как и все в мире, сотворена Богом, всегда находится в его власти и что в этом именно ее великая ценность и преимущество пред несотворенными истинами эллинов. Декарт присоединяется к этому, Лейбниц – негодует. Положение совершенно безысходное и как будто бы обрекающее нас на необходимость навсегда отказаться от иудейско-христианской философии. Рассудить между Лейбницем и Декартом некому. Для Лейбница, который всю жизнь свою хлопотал о примирении разума с откровением, было совершенно самоочевидно, что декартовское решение в корне отрицает все права разума, Декарт же, который проницательностью ума нисколько Лейбницу не уступал, не подозревал даже, что он посягает на державные права разума.
Положение осложняется еще тем обстоятельством, что средневековая философия, стремившаяся по выработанным в Греции принципам добыть в Св. Писании нужную ей метафизику, когда ей пришлось коснуться эпистемологического вопроса (я бы предпочел сказать, когда она подошла к метафизике познания), как бы совершенно позабыла о тех местах из книги Бытия, которые имеют к нему непосредственное отношение. Я имею в виду рассказ о грехопадении первого человека и о дереве познания добра и зла. Если мы хотим приобщиться библейской эпистемологии или, точнее, метафизике познания, нам прежде всего нужно вдуматься и, насколько возможно, дать себе отчет в смысле того, что там рассказано.
II
Задача эта, однако, гораздо труднее, чем может показаться с первого взгляда. Жильсон бесспорно прав: не только средневековье, но и мы, современные люди, унаследовали от греков и основные философские проблемы, и рациональные принципы, из которых нужно исходить при их разрешении, и всю технику нашего мышления. Как добиться того, чтобы, читая Писание, толковать и понимать его не так, как нас приучили это делать великие мастера Греции, а так, как того хотели и требовали от своих читателей те, которые передали нам через книгу книг то, что они называли словом Божиим? Пока Библия еще находилась только в руках «избранного народа», этот вопрос мог не возникать: во всяком случае, допустимо, что, воспринимая слова Писания, люди не всегда были во власти тех разумных принципов и той техники мышления, которые стали как бы нашей второй природой и которые, не давая даже себе в том отчета, мы считаем непреложными условиями постижения истины. Жильсон тоже прав, утверждая, что средневековые мыслители всегда стремились держаться духа и буквы Писания. Но достаточно ли тут одной доброй воли? И может ли человек эллинского воспитания сохранить ту свободу восприятия слов Писания, которая является залогом правильного понимания того, о чем в нем повествуется? Когда Филону Александрийскому выпало на долю представить Библию образованному миру греков, он принужден был прибегнуть к аллегорическому методу толкования: только таким образом он мог рассчитывать убедить своих слушателей. Нельзя же было пред лицом просвещенных людей оспаривать те принципы разумного мышления и те великие истины, которые греческая философия в лице ее великих представителей открыла человечеству. Да и сам Филон, приобщившись эллинской культуре, уж не мог принимать Писания, не проверяя его теми критериями, по которым греки научили его отличать истину от лжи. В результате Библия была «вознесена» на такой философский уровень, что стала вполне отвечать требованиям эллинской образованности. То же сделал и Климент Александрийский, которого Гарнак недаром называл христианским Филоном: греческую философию он уравнил с Ветхим Заветом и не только, как мы помним, получил право утверждать, что гнозис неотделим от вечного спасения и что если бы он и был отделим, то, будь ему предоставлен выбор, он отдал бы предпочтение не вечному спасению, а гнозису. Если вспомнить только Филона и Климента Александрийских, то, конечно, вперед должно быть ясно, что сказание о грехопадении первого человека не могло быть принято ни отцами церкви, ни средневековыми философами таким, каким оно представлено в книге Бытия, и что испытующей мысли верующих перед лицом этого повествования пришлось стать пред роковой дилеммой: либо Библия, либо греческое «познание» и держащаяся на этом познании мудрость.
И точно: каково содержание повествования книги Бытия в той его части, которая относится к падению первого человека? Бог насадил среди рая дерево жизни и дерево познания добра и зла. И сказал человеку: от всякого дерева в саду ты можешь есть; а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; потому что в день, в который ты вкусишь от него, умрешь. В противоположность тому, как обыкновенно Бог возвещал свои истины «sans aucune trace de preuve», на этот раз наряду с заповедью есть не санкция, как мы склонны думать, чтоб облегчить себе задачу, а мотивировка: в тот день, когда ты отведаешь от плодов дерева познания – смертью умрешь. Устанавливается связь между плодами дерева познания и смертью. Смысл слов Божиих не в том, что человек будет наказан, если ослушается заповеди, а в том, что в познании скрыта смерть. Это станет еще несомненнее, если мы восстановим в памяти, при каких условиях произошло грехопадение. Змей, хитрейшее из всех созданных Богом животных, спросил женщину: почему Бог запретил вам есть плоды со всех деревьев рая? И когда женщина ему ответила, что только с одного дерева плоды Бог запретил есть и не касаться их, чтобы не умереть, змей ответил: не умрете, но Бог знает, что в тот день, как вы вкусите от плодов, aperientur oculi vestri et eritis sicut dei scientes bonum et malum (откроются ваши глаза и будете, как боги, знающие добро и зло). Откроются ваши глаза: так сказал змей. Умрете: так сказал Бог. Метафизика познания книги Бытия теснейшим образом связана с метафизикой бытия. Если Бог сказал правду, то от знания идет смерть, если змей сказал правду – знание равняет человека с богами. Так стал вопрос перед первым человеком, так вопрос стоит и сейчас пред нами. Нечего и говорить, что благочестивые мыслители средневековья ни на минуту не допускали и мысли, что правда была на стороне искусителя-змея. Но гностики думали и открыто говорили иначе: не змей обманул человека, а Бог. В наше время Гегель нисколько не стесняется утверждать, что змей сказал первому человеку правду и что плоды с дерева познания стали источником философии для всех будущих времен. И если мы спросим у нашего разума, на чьей стороне была правда, и если мы вперед согласимся, что наш разум есть последняя инстанция, в которой разрешается спор между змеем и Богом, то двух мнений быть не может: делу змея обеспечено полное торжество. И пока разум остается princeps et judex omnium (начальник и судья над всеми), другого решения ждать нельзя. Разум есть сам источник знания; может ли он знание осудить? Причем – и этого забывать нельзя – у первого человека знание было. В той же книге Бытия передается, что, когда Бог создал всех животных и всех птиц, Он привел их к человеку, чтобы видеть, как он их назовет – «а как назовет человек всякую душу живую, так и имя ей». Но человек, соблазненный змеем, этим уже не довольствовался: ему недостаточно было ???, он хотел ????? (почему), ??? его раздражало, как и Канта; его разум жадно стремился ко всеобщим и необходимым суждениям, он не мог успокоиться, пока ему не удалось истину «откровенную», стоящую и над всеобщностью, и необходимостью, превратить в истину самоочевидную, которая хотя и отнимает у него самого свободу, но зато обеспечивает его от произвола Бога. Некоторые богословы, тоже очевидно добросовестно озабоченные тем, чтобы защитить человека от Божьего произвола, производят греческое слово ???????? (истина) от ??-??????? (приоткрывать). Таким образом, откровение внутренне роднилось с истиной. Оно становилось приоткрытием истины, и все опасения что Бог может злоупотребить своей ничем не ограниченной свободой, отпадали: всеобщая и необходимая истина стояла равной и над Богом, и над человеком. Выходило, конечно, как у Гегеля: змей человека не обманул; но выходило не explicite, a implicite: теологи избегали гегелевской откровенности. Положение средневековых философов, поставивших себе задачей превратить полученные ими от Бога «sans aucune ombre de preuve» истины в истины доказанные, в истины самоочевидные, как того требовали от них заветы греков, в сущности, ничем не отличалось от положения первого человека, стоявшего перед деревом познания. Книга Жильсона с необыкновенной силой и яркостью изображает нам, с каким огромным, порой почти сверхчеловеческим напряжением средневековые философы преобороли в себе соблазн «познания» и о том, как этот соблазн все больше и больше овладевал их душами. Мысль Ансельма, пишет он, «fut longtemps obsеdеe par le dеsir de trouver une preuve directe de l’existence de Dieu, qui fut fondеe sur le seui principe de contradiction».[85 - Чрезвычайно поучительны в этом отношении замечательные исследования покойного Мейерсона. У него человеческий разум тоже изображается «одержимым» желанием все подчинить закону противоречия. Разум знает, что эта задача невыполнимая, и также знает, что стремиться к невозможному – это безумие, но преодолеть себя ему не дано. Это уже даже не raison dеraisonnable Монтеня, это уже как бы сошедший с ума разум.][86 - Долго была одержана желанием найти прямое доказательство бытия Божия, которое основывалось бы единственно на принципе противоречия (фр.).] В другом месте он говорит о том, какое волнение испытывали тот же Ансельм, Августин или Аквинат, вспоминая моменты, когда «l’opacitе de la foi cеdait soudainement en eux ? la transparence de l’intelligence» (I, 43). И даже ingenium subtilissimum[87 - Изощренная изобретательность (лат.).] Дунса Скота, который с такой несравненной смелостью отстаивал независимость Бога от каких бы то ни было высоких и неизменных принципов, не была в силах выкорчевать из его души непобедимого стремления (concupiscenda irresistibilis) заменить веру знанием. Жильсон приводит из его De rerum prima principia следующее замечательное признание, которое стоит того, чтобы быть здесь полностью воспроизведенным: «Seigneur notre Dieu, lorsque Mo?se vous demanda comme au Docteur tr?s vеridique quel nom il devrait vous donner devant les enfants d’Isra?l… vous avez rеpondu: Ego sum qui sum: (я тот, который есть) vous ?tes donc l’Etre vеritable, vous ?tes l’Etre total. Cela, je le crois, mats c’est cela aussi s’il m’est possible que je voudrais savoir». Можно было бы привести еще много таких же утверждений из цитированных Жильсоном и не цитированных им схоластических мыслителей: «знание», которым соблазнил змей первого человека, продолжает влечь их к себе с неотразимой силой. «Опыт» их не удовлетворяет, а, как Канта, – раздражает: они хотят знать, т. е. убедиться, что то, что есть, не только есть, но не может быть иным и по необходимости должно быть таким, как оно есть. И ищут гарантии тому не у пророка, который принес им с Синая слово Божие, и даже не в этом слове Божием: их «пытливость» получит удовлетворение только тогда, когда возвещенное пророком слово Божие получит свое благословение от закона противоречия или от какого-нибудь другого «закона», столь же незыблемого и столь же безвольного, как и закон противоречия. Но ведь того же хотел, точнее, тем же соблазнился и первый человек, когда протянул руку свою к дереву познания. И он хотел не верить, а знать. В вере он увидел умаление, ущерб своему человеческому достоинству и совершенно убедился в этом, когда змей сказал ему, что, вкусивши от плодов запретного дерева, он станет, как боги, – знающим. Повторяю еще раз: средневековые философы, стремясь превратить веру в знание, менее всего подозревали, что они повторяют то, что сделал первый человек. И все-таки нельзя не согласиться с Жильсоном, когда он пишет об отношении схоластиков к вере: «En tant que telle, la foi se suffit, mais elle aspire ? se transmuer en intelligence de son propre contenu, elle ne dеpend pas de l’еvidence de la raison, mais au comraire, c’est elle qui l’engendre». И что «Cet effort de la vеritе crue pour se transformer en vеritе sue, c’est vraiment la vie de la sagesse chrеtienne, et le corps des vеritеs rationnelles que cet effort nous livre, c’est la philosophie chrеtienne elle-m?me» (I, 35–36).[88 - Вера как таковая самодостаточна, но она стремится стать разумением своего собственного содержания; она не зависит от очевидностей разума, наоборот, именно она и порождает эти очевидности… Это усилие преобразовать истину веры в истину знания и составляет настоящую жизнь христианской мудрости; совокупность рациональных истин, которые доставляет нам это усилие, и образуют саму христианскую философию (фр.).]
Надо полагать, что и первый человек, слушая речь искусителя, так думал: и ему казалось, что в его желании знать не было ничего опасного и предосудительного, что в этом было только одно хорошее. Поразительно, что никто почти из значительных средневековых мыслителей (исключение были: Петр Дамиани, напр., и те, которые шли за ним: об этом у нас речь впереди) никогда не хотел и не умел разглядеть первородный грех в том, что человек вкусил от плодов познания: в этом отношении мистики нисколько не отличались от философов. Неизвестный автор «Theologia deutsch» прямо говорит: Адам мог бы хоть бы и семь яблок съесть, никакой беды бы не было. Беда была в том, что он ослушался Бога. Не так резко, но почти то же писал и бл. Августин: «Neque enim quidem mali Deus in illo tantae felicitatis loco crearet atque plantaret. Sed oboedientia commendata est in praecepto, quae virtus in creatura rationali mater quodammodo est omnium custoque virtutuum quandoquidem ita facta est, ut ei subditam esse sit utilis, perniciosum autem suam, non ejus a quo creata est, facere voluntatem» (St. Augustin. De Civ. Dei XIV. 12).[89 - Ничего, конечно, дурного не сотворил и не насадил Бог в оном месте такого счастья. Но в заповеди требовалось повиновение. Добродетель эта в твари разумной есть некоторым образом мать и хранительница всех добродетелей. Ибо тварь эта создана так, что для нее полезно быть подчиненною, а гибельно творить волю свою, а не Того, Кем создана (лат.).] (Ибо в этом месте такого блаженства Бог не мог бы создать и посадить что-нибудь злое. Но послушание было предписано, добродетель, до известной степени мать и страж всех добродетелей для всякого разумного существа, так как оно так создано, что ему полезно подчиниться и гибельно следовать своей воле, а не своего творца.) И проницательный глаз Дунса Скота не умел или, может, не смел расслышать в библейском повествовании то, что составляет его сущность. «Primum peccatum hominis… secundum quern dicit Augustinus, fuit immoderatus amor amicitiae uxoris». (Первородный грех человека был, по Августину, неумеренная любовь к дружбе жены.) Сам по себе его поступок, т. е. то, что он ел плоды с дерева познания, не заключал в себе ничего дурного. Жильсон очень тонко и верно характеризует отношение средневековья к библейскому сказанию о грехопадении: «C’est pourquoi le premier mal moral re?oit dans la philosophie chrеtienne un nom spеcial, qui s’еtend ? toutes les fames engendrеes par la premi?re le p?chе. En usam de ce mot, un chrеtien emend toujours signifier que, tel qu’il l’entend, le mal moral introduit par la volontе libre, dans un univers crее, met directement en jeu la relation fondamentale de dеpendance qui unit la crеature ? Dieu: L’interdiction si lеg?re et pour ainsi dire gratuite dont Dieu frappe l’usage parfaitement inutile ? l’homme d’un des biens mis ? sa disposition,[90 - Подчеркнуто мною.] n’еtait que le signe sensible de cette dеpendance radicale de la crеature. Accepter l’interdiction, c’еtait reconna?tre cette dеpendance; enfreindre l’interdiction, c’еtait nier cette dеpendance et proclamer que ce qui est bon pour la crеature, est meilleur que le bien divin lui-m?me» (1,22).[91 - Вот почему первичное моральное зло получает в христианской философии специальное наименование, объемлющее все заблуждения, порождаемые первородным грехом. Используя это слово, христианин каждый раз имеет в виду, что в его понимании моральное зло, совершенное свободной волей в сотворенной вселенной, непосредственно затрагивает фундаментальное отношение зависимости, соединяющее тварь и Бога: столь легкий и, так сказать, беспричинный запрет, которым Бог отметил одно из благ, находившихся в распоряжении человека, совершенно бесполезное для него, – это всего лишь чувственный знак радикальной зависимости твари. Послушаться запрета значило признать эту зависимость; нарушить запрет значило отрицать эту зависимость и объявить, что то, что хорошо для твари, лучше самого божественного добра (фр.).] Средневековые философы много размышляли, и не только размышляли, но мучились и терзались грехом, но никогда не решались связывать падение человека с плодом от дерева познания добра и зла. Да и как могли они решиться, когда у всех у них – как, впрочем, и у нас теперь – и на душе, и на языке была всегда одна мысль, одна забота: «Je crois, Seigneur, mais c’est cela aussi s’il est possible que je voudrais savoir». Они твердо знали, что oboedientia mater custosque est omnium virtutuum (послушание мать и страж всех добродетелей), но не допускали ни на мгновение, что в познании, к которому они так жадно стремились, мог таиться грех, и только дивились, почему первый человек не покорился столь незначительному и легко исполнимому требованию – воздержаться от плодов с одного только из множества деревьев, произраставших в саду Эдема. А ведь о дереве познания им ясно и определенно говорил рассказ Св. Писания, а об oboedientia свидетельствовали только истины, дошедшие до них от греков. Греки выше всего ставили повиновение. Известно изречение Сенеки: Ipse Creator et conditor mundi semel jussit semper paret (сам создатель и водитель мира однажды приказал, всегда повинуется). Jubere всегда был у греков под подозрением: в нем видели зародыш и прообраз ничем не ограниченной свободы, т. е. ненавистного произвола.
В раrеrе же они видели начало и залог добра, из раrеrе выводили знание, полагающее конец необузданности свободы (подробно об этом в I части, «Скованный Парменид»). Достаточно вспомнить спор Калликла с Сократом в платоновском «Горгии», чтобы убедиться, из каких источников бл. Августин, Д.Скот, равно как и вся святоотеческая средневековая философия, почерпнули свою исключительно высокую оценку как раrеrе, так и познания, которое этим раrеrе держится, и вместе с познанием и противоположность между добром и злом, которое, как мы сейчас слышали от Жильсона, без идеи повиновения не может продержаться ни на одно мгновение. В центральной, в основоположной идее средневековой философии, так безудержно и страстно стремившейся стать иудео-христианской, образовалась трещина. Св. Писание грозно предостерегало против плодов с дерева познания, греческая философия видела в ??????? (познании) высшую духовную пищу и в умении отличать добро и зло лучшее качество человека. Средневековая философия не могла отречься от эллинского наследия и принуждена была в основоположной философской проблеме, в проблеме метафизики познания, игнорировать Св. Писание.
III
Но не только библейское сказание о грехопадении предостерегало иудейско-христианскую философию от доверия к «знанию» античного мира. С огромной силой и подъемом восставали против греко-римской «мудрости» пророки и апостолы. Средневековые философы это знали, конечно, превосходно. Жильсон цитирует in extenso знаменитое место из первого послания ап. Павла к Коринфянам (XIX, 25), где говорится о непримиримости между истиной Откровения и человеческими истинами. Я думаю, что будет кстати напомнить здесь центральные строки: «Car il est еcrit (Is. XXIX, 14): je perdrai la sagesse des sages et je rеprouverai la prudence des prudents. O? est le sage? o? est le savant? ?u est la philosophic du si?cle? Dieu n’a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Car puisque le monde n’a pas su par la sagesse conna?tre Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu ? Dieu de sauver ceux qui croient par la folie de la prеdication… La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes».[92 - Ибо написано (Ис. XXIX, 14): «погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо, когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих… Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков (фр.).] Приводя эти слова и указывая в примечании, что они всегда давали пищу противникам «христианской философии», среди которых Тертуллиан со своим противуположением Афин и Иерусалима (quid ergo Athenis et Hierosolymis?) занимает первое место, Жильсон, однако, не считает, что они могли и должны были удержать средневековую философию в ее стремлении превращать истины Откровения в истины разумного познания. По его мнению, ни пророк Исаия, ни ап. Павел не могут служить опорой для тех, кто оспаривает возможность рациональной иудейско-христианской философии. Их нужно прежде всего понимать в том смысле, что апостол в Евангелии видел только путь к спасению, а не к познанию. А затем «Au m?me moment о? Saint Paul proclame la banqueroute de la sagesse grecque, il propose de lui en substituer une autre qui est la personne m?me de Jesus-Christ. Ce qu’il entend faire, c’est еliminer l’apparente sagesse grecque qui n’est en rеalitе que la folie au nom de l’apparente folie chrеtienne qui n’est que la sa-gesse».[93 - В тот самый момент, когда св. Павел объявляет о банкротстве греческой мудрости, он предлагает заменить ее другой мудростью, заключающейся в самой личности Иисуса Христа. Он считает, что необходимо устранить мнимую греческую мудрость, которая в действительности не более чем безумие, во имя мнимого безумия христиан, которое и есть не что иное, как мудрость (фр.).] Все это так. Но это не только не является возражением против тертуллиановского противупоставления Афин и Иерусалима, но скорее его истолкованием, ибо апостолы все-таки proclame la banqueroute de la sagesse grecque. To, что для Афин есть мудрость, то для Иерусалима есть безумие: Тертуллиан ничего другого и не говорил. Нельзя даже утверждать, что Тертуллиан отрицал возможность иудейско-христианской философии: он только хотел обеспечить ей свободу и независимость мысли, полагая, что у нее должны быть не эллинские принципы, и не эллинские задачи, и не эллинский источник истины, а свои собственные. И что откровенная истина, если она станет искать оправдания перед нашим разумом посредством тех приемов, которыми греки оправдывали свои истины, – искомого оправдания не добьется, либо, если добьется, то только отрекшись от себя самой: ибо что для Афин – безумие, то для Иерусалима – мудрость, и что для Иерусалима – истина, то ложь для Афин. В этом смысл его знаменитых слов из De carne Christi, которые долгое время, да и сейчас известны, хотя в сокращенном и потому ослабленном выражении, credo quia absurdum (верю, потому что бессмысленно), у большой публики. У Тертуллиана мы читаем: «Crucifixus est Dei filius: non pudet quia pudendum est; et monuus est Dei filius – prorsus credibile quia ineptum est; et sepultus resurexit; certum est quia impossible». (Сын Божий был распят: не стыдно, потому что стыдно; умер сын Божий: еще более вероятно, потому что бессмысленно; и погребенный воскрес: достоверно, потому что невозможно.) Здесь то же, что у пророка Исаии и ап. Павла, только более приспособленное к школьной философской терминологии. Но настолько возмущающее «мудрость века», что Лейбниц, приводя эти слова, не находит даже нужным подвергнуть их обсуждению: это только, говорит он, остроумная фраза. Причем первое положение, заканчивающееся словами: non pudet, quia pudendum est, Лейбниц совсем опускает: рука, видно, не поднялась такие безнравственные слова переписывать. А между тем, если Исаия и Павел правы, то изречение Тертуллиана является как бы вступлением или пролегоменами к органону иудейско-христианской философии, призванной возвестить миру новое и дотоле не известное никому понятие о «сотворенной истине». Прежде всего, нужно навсегда отбросить основные категории эллинского мышления, вырвать из себя с корнем все предпосылки нашего «естественного познания» и нашей «естественной морали». Там, где просвещенный грек приходит со своим властным pudet, стыдно, – мы скажем: именно потому не стыдно. Там, где разум провозглашает «нелепо», мы скажем, что это и заслуживает доверия по преимуществу; и, наконец, там, где он воздвигает свое «невозможно», мы ему противопоставим свое «несомненно». И, когда разум и мораль потребуют к своему суду пророков и апостолов, а вместе с ними и Того, именем Которого они дерзнули бросить вызов греческой философии, – вы думаете, что Тертуллиана вы этим испугаете, как Лейбница?
Мне уже не раз приходилось говорить о Тертуллиане и его безоглядном натиске на древнюю философию.[94 - См. мою книгу «Власть Ключей».] Но здесь, прежде чем перейти к рассмотрению того, к чему привела попытка средневековых мыслителей устроить симбиоз между греческим знанием и откровенной истиной, я хотел бы отметить два момента в истории развития европейской мысли, в надежде, что это поможет нам ориентироваться в занимающем нас вопросе о сущности иудейско-христианской философии.
Историю философии обычно делят на три периода: древний, заканчивающийся Плотином, средний – заканчивающийся Д.Скотом и Вильгельмом Оккамом, после которых начинается «разложение схоластики», и новый, начинающийся с Декарта и продолжающийся до наших дней, об исходе которого мы можем только гадать. И вот факт поразительный: Плотин знаменует собой не только конец почти тысячелетнего развития эллинского мышления, но и вызов ему. Целлер был прав: Плотин потерял доверие к философскому мышлению: основные принципы и вечные истины его предшественников перестали его удовлетворять, стали ему казаться не освобождающими, а порабощающими дух человеческий. И это после того, как он всю жизнь держался их и всех, кого мог, учил им следовать. Его «Эннеады» представляют загадочную смесь двух противоположных течений мысли. Если Целлер был прав, утверждая, что Плотин потерял доверие к мышлению, то не менее прав и тот современный историк, который именно потому так ценил философские заслуги Плотина, что он, как того требовала эллинская традиция, основывал все свои разыскания истины на ???? (должно) и ??? ???????? (по необходимости), т. е. добивался строго доказанных и проверенных, принуждающих суждений. Но, очевидно, добивался только затем, чтобы потом собственной властью отбросить их. «Знание», завещанное ему его предшественниками, выросшее на почве принуждающей необходимости, стало его тяготить, стало ему невыносимым именно своей принудительностью.
В знании он почувствовал оковы, цепи, из которых нужно какой угодно ценой вырваться. Знание не освобождает, а порабощает. Он стал искать выхода, спасения вне знания. И он, который учил, что ????? ???? ????? ???? ????? ????? (начало было слово и все есть слово), вдруг почувствовал, что смысл философии – ?? ?????????? (самое ценное), как он выражался – в свободе от знания: в этом и состоял его ????????? (выхождение). Прежде всего ???????? ?????? ???? ????????? (взлететь над знанием), взлететь над знанием и пробудиться от наваждения всех ???? (должно) и ??? ???????? (по необходимости). Откуда взялось это «должное», откуда пришли необходимости, насквозь пропитавшие человеческое мышление? Чем держится их сила и власть? Высшее начало, то, что Плотин назвал «единым», не знает ни должного, ни необходимого, нисколько в их поддержке не нуждается. Оно вообще не нуждается ни в какой поддержке, ни в какой опоре: ??? ???? ??????? ????????, ?????? ????? ?????? ??? ????????? (оно не нуждается в опоре, как если бы оно не могло само поддержать себя). Оно находится ????????? ???? ???? ??????? (no ту сторону разума и познания), оно свободно от всех ограничений, которые изобрел «пришедший после» ?????.[95 - См. Enn. V, 3,12: ?? ??? ?????? ????????? ????, ?????? ???? ????????? ???????, ??????? ???????? ?????? ????????, ?????? ?????? ????????????????’?????? ??? ??????? ????? ?? ????????, т. е. точно так же, как оно выше разума, оно выше познания, но само познание принадлежит вторичной природе.] И как «единое» не нуждается ни в почве, ни в опоре, так и человек, «пробудившийся к самому себе», не нуждается ни в какой почве и ни в какой опоре; он чувствует себя ?????????? ??????? (предназначенным более высокому жребию), сбрасывает с себя все тяжеловесные «должен» и «по необходимости», как мифические боги греков, не тяготеет к земле и не прикасается к ней. Едва ли нужно прибавлять, что Плотин, поскольку он пытался ???????? ?????? ???? ????????? (взлететь над знанием), не оставил следов в истории. Это «взлетание над знанием» и эта «ненужность всякого основания» обозначали разрыв с традицией античной мысли, которая всегда искала знания и прочных оснований. Редко кто решался, вслед за Целлером, открыто говорить о том, что Плотин потерял доверие к мышлению. Плотином интересовались лишь постольку, поскольку находили в нем привычную и всех убеждающую аргументацию, коренящуюся в непреодолимости вечного закона необходимости. Даже бл. Августин, всегда вдохновлявшийся Плотином (иные страницы из его сочинений представляются почти переводом «Эннеад»), не хотел или не смел следовать за Плотином беспочвенности и брал у него лишь то, что можно было усвоить, не отрекаясь от основоположений эллинского мышления. Но, вместе с тем, с Плотином остановилось дальнейшее развитие греческой философии; или даже лучше сказать, что после Плотина начинается ее «разложение», как после Д.Скота и Оккама началось разложение средневековой схоластики. Человеческая мысль застыла в неподвижности и предпочла вязнуть в тине бесконечных комментариев того, что было сделано раньше, чем за свой страх идти к тому загадочному неизвестному, к которому ее звал Плотин. Недаром сам Плотин говорил, что, когда душа приближается к окраинам бытия, она останавливается: ????????? ??? ??????? ????? (она боится, что ничего нет). Ей страшно стряхнуть с себя принуждающие «должно» и «по необходимости». Она так долго несла на себе их ярмо, что свобода от принуждения ей представляется уже всеуничтожающим и всеразрушающим началом. За Плотином не пошли. История нашла способ отвлечь внимание потомства от того, что в нем было наиболее оригинального и дерзновенного – его непостижимый культ беспочвенности (обычно говорят об азиатских влияниях, может быть, точнее было бы вспомнить об «азиатском» ex auditu[96 - На слух (лат.).]), – но тот факт, что последний греческий философ решился поколебать устои, на которых покоилось античное мышление, оспаривать уже нельзя, и даже объективный Целлер вынужден, как я указал, свидетельствовать о нем.
Таков же был конец и второго периода развития европейской философии. Последние великие схоластики, почти непосредственно за гениальным Аквинатом и словно в ответ ему, восстали с неслыханной энергией против всех «должно» и «по необходимости», которыми держалась и двигалась мысль их предшественников и с которыми связывались обещанные разумом человеку блага. В этом смысл того, что принято называть их «волюнтаризмом». Большинство историков теологии (особенно протестантских), как и историков философии, пытается тем или иным способом смягчить резкость вызова, брошенного последними великими схоластиками своим предшественникам, поскольку последние пытались связать откровенные истины Писания с истинами, добываемыми разумом. И, с своей точки зрения, историки правы, как правы они, когда стараются «защитить» Плотина от упреков в разрушительном влиянии его учения. История обязана считаться только с тем, чему было дано предопределять собой дальнейшее развитие. Но суд истории не есть единственный суд и не есть суд окончательный.
Если захотеть свести к коротким формулам то, что античная мысль завещала человечеству, вряд ли можно придумать что-либо лучшее, как мне представляется, чем то, что сказал в «Федоне» и в «Эвтифроне» Платон о разуме и морали. Нет большей беды для человека, читаем мы в «Федоне», чем стать ?????????’ом (ненавистником разума). Не потому святое свято, что его любят боги, а потому боги любят святое, что оно свято, говорит в «Эвтифроне» Сократ. Не будет преувеличением сказать, что в этих словах отчеканены две величайшие заповеди эллинской философии, что в них ее альфа и омега. Если мы и сейчас так «жадно стремимся» ко всеобщим и обязательным истинам, – мы только выполняем требования, предъявленные человечеству «мудрейшим из людей». Я говорю «мудрейшим из людей», так как преклонение перед разумом и моралью, равно обязательное и для смертных, и для бессмертных, несомненно было внушено Платону его несравненным учителем, «праведником» Сократом. И тут же прибавлю: если бы Сократу пришлось выбирать, от чего отказаться: от разума или морали, и если бы он согласился допустить, хотя бы гипотетически, что разум можно отделить от морали – хотя бы для Бога, – он отказался бы от разума, но от морали не отступился бы ни за что на свете. И в особенности он не пошел бы на то, чтоб освободить от морали богов. Пусть, на худой конец, боги возлегают с Плотином над знанием, но Бог, возлетевший над моралью, есть уже не Бог, а чудовище. Это убеждение можно было вырвать из Сократа только разве с его душой. И я думаю, то же можно о каждом из нас сказать: великое несчастье – возненавидеть разум, но лишиться покровительства морали, отдать мораль в чью-либо власть – это значит опустошить мир, обречь его на вечную гибель. Когда Климент Александрийский учил, что гнозис и вечное спасение неотделимы одно от другого, но что, если они были бы отделимы и ему пришлось выбирать, он предпочел бы гнозис, он только повторил заветнейшую мысль Сократа и греческой мудрости. Когда Ансельм мечтал о том, чтобы вывести бытие Божие из закона противоречия, он добивался того же, что и Сократ: слить в одно познание и добродетель, и в том усматривал высшую задачу жизни. Мы теперь легко критикуем Сократа: по-нашему – знание есть одно, а добродетель другое. Но древние, ???????? ???? ????????? ??????? – старые, отошедшие мужи, которые были лучше нас и стояли ближе к Богу, – выносили в своих душах «истину», которая нашей критики не боялась и с ней не считалась. И если уже говорить все, то нужно признаться: хоть мы и критикуем Сократа, но от его чар и доныне не освободились. «Постулатом» современного, как и античного, мышления продолжает оставаться убеждение: знание равняется добродетели, равняется вечному спасению. О средневековье же и говорить нечего. Hugues de Saint-Victor открыто утверждал, что сократовское ?????? ???????, «познай самого себя», упало с неба, как упала с неба и Библия. Нам еще не раз придется касаться этого загадочного тяготения и современной, и средневековой мысли к греческой мудрости. Пока я только скажу, что схоластическая философия не только не могла, но и не хотела бороться с чарами греческой мудрости, как не хотим бороться и мы. И для нас Сократ – лучший из людей, мудрейший из людей, праведник. И для нас приговор дельфийского оракула остается окончательным и навеки нерушимым. Раз только – и то в стороне от большой дороги, которой шла философия, – было высказано подозрение в законности суда оракула и истории над Сократом: Ницше почувствовал в Сократе dеcadent’a, т. е. падшего человека ???’?????? (по существу). И как раз в том, в чем и сам Сократ, и оракул, и история видели огромную заслугу Сократа: в его готовности отдать не только жизнь, но и душу познанию, Ницше увидел его падение, словно вспоминая рассказ из книги Бытия. До Ницше все думали, что «познай самого себя» упало к нам с неба, но никому и на ум не приходило, что запрет прикасаться к плодам с дерева познания упал с неба. В «познай самого себя» видели истину, в дереве познания – метафору или аллегорию, от которой, как и от многих других библейских аллегорий, необходимо отделаться, профильтровав ее через греческий «разум». Основоположенными истинами, упавшими людям с неба еще до того, как греко-римский мир встретился с Библией, были положения, высказанные Платоном в приведенных мною выше отрывках из «Федона» и «Эвтифрона». Все, что читало средневековье в Св. Писании, преломлялось через эти истины, и ими же оно очищалось от неприемлемых для просвещенных людей элементов. И вдруг Дунс Скот и Оккам обрушились – и с какой при этом безудержностью! – именно против этих незыблемых истин. Точно вперед защищаясь от миролюбивого Лессинга, они все свое изумительное диалектическое искусство направили к тому, чтобы изъять из ведения разума и перевести в область credibilia почти все, что в Библии рассказано о Боге, – что Deum esse vivum, sapientem, volentem (Бог есть живой, мудрый, хотящий), что Бог есть causa efficiens (движущая причина), что Бог неподвижен, неизменен и что, создавши мир, он сам не перестал существовать. «In theorematibus, – заявляет Скот, – ponentur credibilia, quibus vel ad quorum assensum ratio captivatur, quae tamen eo sunt catholicis certiora, quo non intellectui nostro caecutiente et in plurimis vacillante, sed tuae solidissimae veritati firmiter inni tuntur». (Достоверности покоятся на теориях, к приятию которых принужден разум, но которые для католиков тем достовернее, чем меньше они опираются на шаткий и во многих вещах колеблющийся разум и крепче стоят на твоей прочнейшей истине.) Таким языком мог говорить Д.Скот, тот Д.Скот, который, как мы помним, подменил «верую Господи, помоги моему неверию», пришедшее из Иерусалима, «верую Господи, но, если можно, я бы хотел знать», усвоенным людьми в Афинах. Intellectus (разум) у него уже не princeps et judex omnium (глава и судья всего), а слепой и колеблющийся вожатый слепых. И Оккам выражается не менее решительно: «et sic articuli fidei non sunt principia demonstrationis, nec conclusionis, nec sunt probabiles, qua omnibus, vel plurimis, vel sapientibus apparent falsi, nec hac accipiendo sapientes pro sapientibus mundi et praecipui innitentibus rationi natural!»[97 - Таким образом, положения веры не являются ни принципами доказательств или умозаключений, не являются они также и вероятными утверждениями, которые для всех, для большинства или для разумных, представляются ложными, их следует принимать не так, как разумные принимают свои положения перед лицом разумных, преимущественно опираясь на доводы естественного разума (лат.).] Дунс Скот и Оккам не ждут от разума оправдания того, что им принесла откровенная истина. Но этого им показалось недостаточно. Они посягают на то, что представлялось грекам и до сих пор представляется нам незыблемейшим из принципов: на провозглашенную Сократом автономию, самозаконность морали. «Dico quod omne aliud a Deo est bonum quia a Deo volitum et non ex converse». (Я говорю, что все другое, что от Бога хорошо, потому, что Богу угодно, а не наоборот.) Или: «Ideo sicut potest (Deus) aliter agere, ita potest aliam legem statuere rectam, qui si statueretur a Deo, recta esset, quia nulla lex est recta, nisi quatenus a voluntate divina acceptatur». (И так как Он может действовать иначе. Он может объявить справедливым другой закон, который и стал бы справедливым, так как Богом установленный, ибо никакой закон не может быть справедливым, если он не исходит от Божественной воли.) Ибо: «non potest Deus aliquid velle, quod non possit recte velle, quia voluntas sua est prima regula» (Бог не может желать того, чего бы он не мог желать справедливо, ибо воля Его есть высшая мера). Если припомнить еще по учению Скота «hujus quare voluntas voluit hoc, nulla est causa, nisi quia voluntas voluntas est» (почему Его воля пожелала этого, для этого нет оснований, ибо именно Его воля есть Его воля), то едва ли можно сомневаться, что попытки тех богословов или историков, которые, чтобы спасти философское доброе имя Скота, стараются всячески доказать, что в Боге Д.Скота все же нельзя видеть воплощение произвола, своих целей не достигают.
У нас, может быть, кровь стынет и волосы на голове подымаются дыбом от этой мысли, но тот, кто, как Д.Скот, заявляет, что «omne est bonum quia a Deo volitum est et non ex converse»,[98 - Все хорошо, потому что угодно Богу, а не наоборот (лат.).] или как Оккам: «Deus ad nullum potest obligari, et ideo quod Deus vult, hoc est justum fieri» (Бог ничем не может быть обязан, и поэтому что Бог хочет, то справедливо), тот утверждает в Боге schlechthinnige und regellose Willkur (несдержанный и беспорядочный произвол), сколько бы теологи ни протестовали против этого.[99 - См., напр., R. Seeberg. Die Theologie des D.Scotus, которому и принадлежит выражение «schlechthinnige und regellose Willkur». По его мнению, «хотя Д.Скот сам дает повод к этому, когда он отрицает, что что-либо может быть для твари само по себе хорошим и тому подобными школьными остротами», у него все же произвол Бога ограничен его bonitas.] Над Богом нет никаких правил, воля Его не ограничена никаким законом: наоборот – Он единственный источник, Он же и господин над всякими правилами и законами. Как у Плотина: «Оно не нуждается в опоре, как если бы оно не могло само поддержать себя». Та же «беспочвенность» – но еще более страшная и еще менее приемлемая для разумного человека. Можно ли ввериться такому Богу, сколько бы Св. Писание ни повторяло нам свое audi, Isra?l? И, если таков Бог Св. Писания, Бог, который все, не исключая вечных истин. Сам творит и Сам уничтожает, – то что общего у Него с разумными и этическими началами античной мудрости? И возможен ли тогда дальнейший симбиоз греческой и иудео-христианской философии? Ясно, что неизбежен полный разрыв, а вместе с разрывом и конец средневековой философии, если она не найдет в себе достаточно сил и дерзновения, чтобы пуститься в дальнейший путь не на поводу у древних, а за свой страх и на свою ответственность. На последнее она не отважилась: она хотела во что бы то ни стало сохранить свою связь с «родиной человеческой мысли», с Грецией. И наступил конец. «Elle est morte, – так описывает ее конец Жильсон, – de ses propres dissensions et ses dissensions se multipli?rem d?s qu’elle se prit pour une fin au lieu de s’ordonner vers cette sagesse qui еtait en m?me temps sa fin et son principe. Albertistes, thomistes, scotistes, occamistes ont contribuе ? la ruine de la philosophie mеdi?vale dans la mesure exacte o? ils ont nеgligе la recherche de la vеritе pour s’еpuiser en luttes stеriles… La pensеe mеdi?vale n’est plus devenue qu’un cadavre inanimе, un poids mort, sous lequel s’est effondrе le sol qu’elle avait prеparе et sur lequel seui elle pouvait construire».[100 - Она умерла в распрях с самой собой, и распри эти начали множиться, как только она посчитала целью саму себя и перестала подчиняться той мудрости, в которой заключается и ее цель. Альбертисты, томисты, скотисты, оккамисты – каждый вносил свой вклад в разрушение средневековой философии ровно в той мере, в какой пренебрегал поисками истины и растрачивал себя в бесплодной борьбе… Средневековая мысль превратилась всего лишь в безжизненный труп, в мертвый груз, под которым рухнула ею самою подготовленная почва и на которой только она и могла строить (фр.).] Средневековая философия после Оккама и Д.Скота, выдернувших из-под нее веками подготовленную почву, умерла, как умерла и греческая философия после Плотина от ужаса пред открытым им ??? ??????? ????????? (оно не нуждается в опоре). Она не могла вынести того «ничем не ограниченного и беспорядочного произвола», который просвечивал через скотовское «omne est bonum quia a Deo volitum et non ex converso», т. е. того, в чем заключалась «метафизика исхода» и что возвестить людям было ее назначением: «la notion inconnue aux anciens, d’une vеritе crееe, spontanеment ordonnеe vers l’Etre qui en est ? la fois la fin et l’origine»,[101 - Необходимое древним понятие истины сотворенной, свободно подчиненной бытию, в котором ее исток и ее цель (фр.).] как великолепно выразился Жильсон (II, 64). Недаром схоластики столько столетий жили под сенью греческой мудрости и ее вечных несотворенных истин. Сам Д.Скот хотел во что бы то ни стало «знать», и, когда его преемникам пришлось выбирать между откровенной истиной и истиной самоочевидной, они отвернулись от первой и протянули руку к дереву познания, зачарованные вечно соблазнительным eritis sciemis.
И – да свершится написанное: «la philosophie mеdi?vale est devenue un cadavre inanimе, un poids mort». Каков будет конец новой философии – угадать трудно. Но если и она, как учил Гегель, в плодах с дерева познания будет продолжать видеть единственный источник приобщения к истине и если написанному и дальше суждено сбываться, надо думать, что и ей не избегнуть участи древней и средневековой философии. Или Жильсон заблуждается и «vеritе сrееe» есть conradictio in adjecto, как и откровенная истина, о которой так много и так вдохновенно говорили нам отцы церкви и схоластики?
IV
Мы подошли к самому большому искушению, подстерегавшему средневековую мысль, которая поставила себе задачу разумными доводами поддержать и обосновать истину откровения. Жильсон, со свойственной ему проницательностью, превосходно разглядел и мастерски описал все перипетии той напряженнейшей борьбы, которая в средние века шла между греческой идеей о несотворенной и вечной истине и иудео-христианской идеей о Боге, единственном Творце и источнике всего существующего.