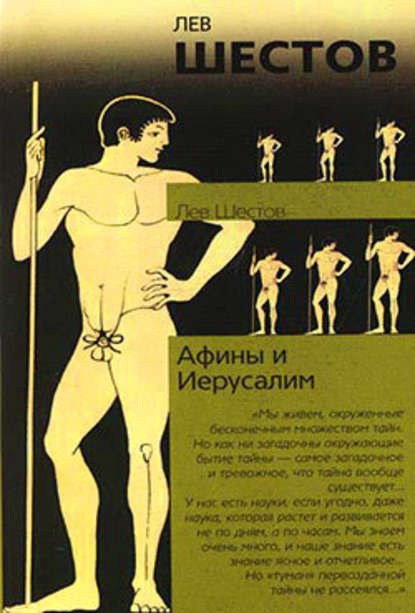По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Афины и Иерусалим
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Аристотель одержал полную победу над Платоном. И как он положил, так остается лежать до нашего времени. Николай Кузанский писал: «inter divinam mentem et nostram id interest quod inter facere et videre. Divina mens concipiendo creat, nostra concipiendo assimilat seu intellectuales faciendo visiones. Divina mens est vis effectiva, nostra est vis assimilativa» (разница между Божественным духом и нашим та же, что между деланием и видением. Божественный Дух творит, мысля, наш дух мышленьем или интеллектуальным виденьем воспринимает. Божественный Дух – творческая сила, наш дух – воспринимающая). В этих словах как будто повторяется мысль Филона, исходившего из Библии: ?? ???? ???? ????? ???? ??????, ‘? ????? ?????? ??? ??????? (Бог, говоря, в то же время творит. Слово было Его деянием). Но и Филон, как известно, в своем стремлении примирить Св. Писание с греческой мудростью достаточно ослабил смысл и значение библейского et dixit Deus.[23 - И сказал Бог (лат.).] У Николая же Кузанского, стоящего на пороге новой истории, связь между мышлением и творчеством совершенно разрывается. Он если и не говорит, то уже думает, как древние, и в приведенных сейчас его словах, если соскрести с них налет христианской, т. е. исходящей из Библии теологии, можно без труда различить знакомое нам semper paret, semel jussit (всегда повинуется, раз приказал). Николай Кузанский чувствовал, что до Бога далеко, так далеко, что лучше и не делать попыток добраться до Него, а примирившись раз навсегда со своей смертной судьбой, не facere, a videre и concipiendo assimilare,[24 - [Не] делать, [а] видеть [и] воспринимать мышлением (лат.).] и что принцип adaequatio rei et intellectus для человека есть всеобъемлющий принцип разыскания истины, все равно, станет ли он разыскивать обыкновенные положительные истины или подойдет к последним метафизическим проблемам.
И если так думал Николай Кузанский, который, хотя в нем и видят справедливо провозвестника новой философии, все-таки был еще кровно связан с библейски мыслящим средневековьем, то что сказать о новом времени? Как должно было оно ограничить права и возможности человеческого мышления? Правда, – и этого никогда не нужно забывать – страх пред свободой есть, по-видимому, основная черта нашей, может быть, и искаженной, но все же действительной природы. В глубинах нашей души живет желание даже Богу поставить хоть какие-нибудь пределы, остановить его творческую жизнь, его право на jubere, на ???? ?????? ?????????. Нам кажется, что и Богу лучше не повелевать, а повиноваться, что даже воля Бога, если ее не подчинить какому-либо «земному» началу, превратится в произвол, в каприз. Я уже не говорю о Фоме Аквинском, который мог и хотел представлять себе Св. Писание только в оправе аристотелевской философии и который приучил последующие поколения ценить оправу не меньше, чем то, что в нее было оправлено. Но даже такой свободный и такой христианский мыслитель, как Дунс Скот, мог успокоиться только тогда, когда ему начинало казаться или когда он себя убеждал, что и над Богом есть что-то, что Его связывает, что и для Бога есть невозможное: «lapidem non potest Deus beatificari nес potenda absoluta nec ordinata» (Бог не может благословить камня ни абсолютной, ни ограниченной властью). Зачем ему было такое утверждать? Он мог бы, если бы захотел, без труда вспомнить, что рассказывается в книге Бытия: Бог создал человека из праха и созданного Им из праха человека благословил. Сделал ли Он это potentia ordinata или роtentia absoluta – все равно, вопреки Скоту, Он это сделает. Но даже и Дунс Скот боится предоставить Богу ничем не ограниченную полноту власти, пожалуй, даже считает, что сам Бог этого боится. Я думаю, что если бы допросить Дунса Скота, то выяснилось бы, что Бог не только не может beatificari lapidem, но и многого другого не может. Он наверное повторил бы за блаженным Августином: «esse potest justitia Dei sine voluntate tua, sed in te esse non potest praeter voluntatem tuam… Qui ergo fecit te sine te, non te justificat sine te. Ergo fecit nescientem, justificat volentem» (Божья справедливость может без твоей воли существовать, но в тебе она не может быть помимо твоей воли… Так тот, кто создал тебя без тебя, не оправдывает тебя без тебя. Поэтому Он создал тебя помимо твоего ведома, оправдывает же тебя согласно твоей воле). И тоже за Аристотелем слова Агафона:
????? ??? ??????? ???? ???? ????????????
????????? ??????? ????’? ?? ??????????[25 - Одно только и для Бога невозможно – сделать однажды бывшее небывшим.]
И еще много нашлось бы такого, что и для Бога «невозможно», и философия, которая исходит из положения, что наука о возможном предшествует науке о действительном, получает наконец то, что ей нужно, когда она наталкивается на препятствия, равно непреодолимые и для Бога, и для людей. Это и называется vеritеs de la raison или veritates aeternae, ибо непреодолимое для Бога есть уже окончательно и навсегда непреодолимое. И – самое важное: человеку дано не только узнать, что есть такое непреодолимое, перед которым сам Бог должен склониться, но еще дано своими (духовными, конечно) глазами это непреодолимое отличить в бытии и в сущем. Мы слышали, что Бог не может beatificari lapidem, не может человека спасти praeter voluntatem suam, не может однажды бывшее сделать небывшим. Есть много таких «не может», которые стоят равно и над Богом, и над человеком: ex nihilo nihil fit, закон противоречия и т. д. Совокупность таких «не может» и соответствующих им «может» составляет целую науку. Наука эта, предшествующая всякому другому знанию, предшествующая и действительности, есть основная философская наука. И люди, и боги должны учиться все у той же ’??????, которая сама ничему не учится, ничего не знает и знать не хочет, которой и дела вообще ни до кого и ни до чего нет и которая, несмотря на это, не желая того и не стремясь к тому, поднялась так высоко над всем существующим, что пред ее лицом боги и люди становятся равными, равноправными, точнее, равно бесправными. Гегель выразил это – со свойственной ему осторожностью или умной смелостью – бесподобно в своей «Логике»: «Логику, – пишет он, – следует поэтому понимать как систему чистого разума, как царство чистой мысли. Это царство есть истина, как она без покрова, есть сама в себе и для себя. Можно поэтому выразиться так, что ее содержание есть изображение Бога, каков Он есть в своей сущности до сотворения мира и конечного духа». Через десяток страниц Гегель, словно забывая, что он писал Бога с прописной буквы, заявляет: «Система логики есть царство теней, мир простых сущностей, свободных от всякой чувственной конкретности». Конечно, Гегель мог бы и сам соединить обе приведенные мысли и не разделять их десятком страниц. Тогда читателю виднее было бы, что такое истина без покрова и каков тот Бог, который был до сотворения мира и конкретного духа. Но Гегель – отважнейший из философских контрабандистов, был все же слишком сыном своего времени и умел, где требовалось, не договаривать, как умел избегать ненужных сопоставлений. Логика есть «изображение Бога, каким Он был до сотворения мира», «логика есть царство теней» (теней – не духов даже: ведь это умышленно сказано). Значит: Бог, каков он есть, и есть царство теней? Ничего не значит, – скажут вам многочисленные почитатели Гегеля, – Гегель был верующим человеком и проникновенным христианином. Он поклонялся Богу в духе и истине, как то и требуется Св. Писанием. Нельзя спорить: едва ли у какого другого философа так часто встречаются слова «дух» и «истина». И потом – он называл христианство абсолютной религией, учил, что слово стало плотью, говорил о троичности Бога, признавал таинства и «почти» все, что исповедует христианство, пытался «обосновать» в своих философских трудах. Все это так. И в еще большей мере правильно, что гегелевское христианство, как и вся гегелевская философия, исходившая из Аристотеля, как нельзя более соответствует современному умонастроению. Возможно, далее очень вероятно, что если бы Гегель был католиком, он был бы признан doctor’ом ecclesiae и заменил бы Фому Аквинского, который в значительной степени устарел и требует исправлений, называемых, во избежание соблазна, истолкованиями. Но вот прочтите страницу из его «философии религии», и вы узнаете, в чем сущность христианства, вернее, как должно «пресуществиться» христианство, чтоб удовлетворить «разум и совесть» воспитавшегося на аристотелевской ’?????? европейского человека или, вернее, как пресуществилось христианство, подпавшее под власть ’??????. Может быть, что вера в религии начинается с чудесного; но сам Христос говорил против чудес, обличал иудеев, требовавших от Него чудес, и говорил ученикам своим: дух будет вести вас ко всей истине. Вера, начинающаяся с таких внешних вещей, есть чисто формальная вера, и ее место должна занять вера истинная. Если этого не будет, то к людям придется предъявлять требования верить в такие вещи, в которые они, на известной степени образования, уже верить не могут (подчеркнуто мною). Такого рода вера есть вера, имеющая своим содержанием конечное и случайное, т. е. не истинная вера, ибо истинная вера имеет не случайное содержание… Выпили ли на свадьбе в Кане Галилейской гости больше или меньше вина, это совершенно безразлично; тоже чистый случай, что излечили кому-либо парализованную руку: миллионы людей ходят с парализованными руками и никто их не излечивает. Или в Ветхом Завете рассказывается, что при выходе из Египта на дверях еврейских домов были сделаны красные знаки, дабы ангел Господний мог распознать их: будто бы ангел и без этих знаков не мог распознать евреев? Такая вера не имеет никакого интереса для духа. Злейшие насмешки Вольтера направлены против такой веры. Он говорит, между прочим, что лучше бы Бог научил евреев о бессмертии души, чем учить их aller ? la selle (Второз. XXIII, 13–14). Отхожие места составляют, таким образом, содержание веры. Гегель редко говорит так откровенно. Душа, видно, не выдержала, и он сказал почти все, что накопилось в душе за долгие годы учительства. Как можно требовать от образованных людей, чтобы они серьезно верили рассказам о Кане Галилейской, излечении паралитиков, воскрешении умерших или считали Богом того, от имени которого написаны 13—14-й стихи 23-ей главы Второзакония? И Гегель прав: такого требовать нельзя, и даже не только от образованных, но и от необразованных людей. Но разве Св. Писание требует веры? Человек сам себе так же мало может добыть веру, как он мог добыть бытие. Этого Гегель не подозревает: такая «истина» не вмещается в плоскость мышления образованного человека. Гегель пишет: «знание или вера, ибо вера есть только особенная форма знания». Так думаем все мы. И, конечно, если вера есть то же знание, то Кана Галилейская или воскрешение Лазаря есть бессмысленная выдумка, от которой нужно равно оберегать и образованных, и необразованных людей. А вместе с тем и все Св. Писание, как Ветхого, так и Нового Завета, есть выдумка и ложь, ибо хотя оно не требует, правда, но предполагает веру в то, что не совместимо, совершенно не совместимо со знанием, что со знанием ужиться не может. Гегель, конечно, не договаривает до конца. Но нетрудно за него договорить – и это необходимо сделать. Речь идет тут не о Гегеле, а о всех нас, об общем для всех нас мышлении. Даже аргументация Гегеля нисколько не оригинальна – недаром он ссылается на Вольтера и защищается вольтеровскими сарказмами. Он мог бы сослаться на Цельса. который за полторы тысячи лет до Вольтера сказал все, что можно было сказать против Св. Писания, и который, как полагалось образованному человеку (полторы тысячи лет тому назад уже было достаточно людей столь же образованных, как и Гегель и мы все, у Гегеля учившиеся), приходил в бешенство при мысли, что есть люди и есть книги, где вера не отождествляется, а противуставляется знанию. В Библии мы читаем: «если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда; и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас (???? ?????? ??????????? ??????)». Гегель об этих словах не вспоминает. Ему кажется, что с ними трудней справиться, от них труднее отделаться, чем от Каны Галилейской и воскрешения Лазаря? По-моему, напрасно: одинаково легко и одинаково трудно. Сдвинется ли гора с места или не сдвинется по слову человека – все это относится к конечному, случайному и, значит, для нас интереса не имеет.
И потом – этого Гегель нигде не говорит, но он наверное так думал: ведь горы-то сдвигают как раз люди, менее всего обладающие той верой, о которой говорится в Писании. В этом тайный смысл его слов: «Das Wunder ist nur eine Gewalt ?ber nat?rliche Zusammenh?nge und damit nur eine Gewalt ?ber den Geist», – чудо есть лишь насилие над естественной связью вещей и этим самым насилие над духом. Гегель от веры не ждал ничего – все его упования были связаны с наукой и знанием. И если «дух» есть воплощение знания и науки, то нужно согласиться с Гегелем, что чудо есть насилие над духом. Но мы видели другое, мы видели, что знание и наука родились от ’??????, что рождение знания было насилием над человеком. Об этом Гегель не говорит. Он смелый и опытный контрабандист и на глазах самых бдительных надсмотрщиков умеет пронести запретную вещь. Евангельские чудеса – есть насилие над духом, а убийство Сократа произошло с согласия и изволения духа, потому что первые нарушают, а второе не нарушает естественную связь вещей. Казалось бы, наоборот – естественная связь вещей есть высшее из возможных насилий над духом. Но тут Гегель ничего поделать не может, он слаб и немощен – не смеет в этом признаться и свою слабость и немощность прикрывает торжественным словом «свобода».[26 - Эпиктет был много откровеннее, чем Гегель. «Начало философии, – говорил он, – есть сознание своей беспомощности и бессилия пред необходимостью».] Непримиримый враг Гегеля – Шеллинг так же об этом думал, как и сам Гегель. Оно и в порядке вещей: кто оглянулся, тот видит Необходимость, кто увидел Необходимость, тот превращается в камень, хотя и одаренный сознанием камень. Для того Кана Галилейская, воскрешение Лазаря, отравленный Сократ, отравленная собака – все превращается в случайное и конечное, для того не будет иного источника, кроме разума, и иной цели, кроме acquiescentia in se ipso, о ней же сказано, что она ex ratione oritur et summa est, quae dari potest.
IX
Канта считают разрушителем метафизики, а в Гегеле видят философа, вернувшего метафизике отнятые у нее Кантом права. На самом деле Гегель только довершил дело Канта.[27 - См. книгу Кронера – «От Канта к Гегелю».] Убеждение, что вера есть знание, тщательно скрытая под личиной дружбы вражда к Св. Писанию и к самой возможности иного приобщения к истине, кроме того, которое предлагает наука, достаточно свидетельствует о характере поставленной себе Гегелем задачи. Для него существует только один источник истины, он «убежден», что все, всегда и повсюду, когда хотели добыть истину, шли к тому источнику, из которого вытекала его собственная философия. В «Логике» он пишет: «Die F?higket des Begriffs besteht darin, negativ gegen sich selbst zu sein, sich gegen das Vorhandene zur?ckzuhalten und passiv zu machen, damit dasselbe nicht bestimmt von Subjekte, sondern sich, wie es in sich selbst ist, zeigen k?nne».[28 - Сила понятия состоит в способности быть негативным по отношению к самому себе, в умении сдерживать себя перед лицом существующего, сделаться пассивным, чтобы оно не определялось субъектом, а само могло обнаружить себя в том, каково оно в самом себе (нем.).] А в «Философии религии» он заявляет: «In der glaubensvollen Andacht vergisst das Individuum sich und ist von seinem Gegenstande erf?llt».[29 - В преисполненном верой благоговении индивидуум забывает о себе, он наполнен своим предметом (нем.).] А раз так, то совершенно ясно, что «in der Philosophie erh?lt die Riligion ihre Rechtfertigung vom denkenden Bewusstsein… Das Denken ist der absolute Richter, vor dem der Inhalt sich bew?hren soll».[30 - В философии религия получает свое оправдание со стороны мыслящего сознания… Мышление – это абсолютный судья, перед которым содержание должно себя оправдать и удостоверить (нем.).] И даже о христианстве, которое он называет абсолютной религией, он говорит не допускающим возражения тоном: «Der wahrhafte christliche Glaubensinhalt ist durch Philosophiе zu rechtfertigen».[31 - Истинное содержание христианской веры следует оправдывать философией (нем.).] Это значит: бытие целиком и без остатка укладывается в плоскость разумного мышления и все, что хоть отдаленно намекает на возможность иного измерения, должно быть самым решительным образом отвергнуто, как фантастическое и несуществующее. «Wie der Mensch das Sinnliche zu lernen hat – auf die Autorit?t hin, weil es da ist, weil es ist, wie er sich die Sonne gefallen zu lassen hat, weil sie da ist, so muss er sich auch die Lehre, die Wahrheit gefallen lassen».[32 - Подобно тому, как человек должен учиться чувственному миру, подчиняясь ему, как авторитету, поскольку он наличен; подобно тому, как он должен примириться с Солнцем, поскольку оно налично, – точно так же он должен примириться и с учением, с истиной (нем.).] Как ни извивается Гегель, как ни бьется он, чтоб убедить себя и других, что свобода для него дороже всего на свете, – в конце концов он возвращается к старому общепризнанному и всем понятному (т. е. разумному) средству – к принуждению. В области метафизической, где обитает философия, как и в области эмпирической, где живут положительные науки, безраздельно правит и владеет та ’??????, о которой мы столько слышали от Аристотеля и Эпиктета. Хочешь не хочешь, ты все же признаешь чувственно данное, точно так же не уйти тебе и от «истин» религии, которую Гегель называет христианством, но которая в христианстве нисколько не нуждается, ибо, как мы помним, наука логики уже сама, без всякого христианства, постигла истину, как она есть в себе и для себя, без покрова, и каков Бог в своей вечной сущности, до сотворения мира. Не берусь решить, проговорился ли Гегель, так наглядно соединив «истины» конкретной, чувственной действительности с истинами религиозными в общем понятии принуждающей истины, или он умышленно подчеркнул неразрывную связь между метафизическим и позитивным познанием. Склонен думать, что умышленно, как умышленно, конечно, он, начав говорить о Кане Галилейской и излечении паралитиков, закончил вольтеровским aller ? la selle. Но все равно, умышленно или неумышленно, – ясно, что для него ни метафизика, ни религия не могут черпать своих истин из иного источника, чем тот, из которого, говоря языком Спинозы, мы узнаем, что сумма углов в треугольнике равняется двум прямым, – и это несмотря на то, что уже в «Феноменологии духа» он говорил с крайним высокомерием и презрением о методах математики. Вот почему я и сказал, что Гегель только довершил дело Канта. Как известно, для Канта метафизика сводилась к трем основным проблемам – Бога, бессмертия души и свободы воли. Когда он поставил вопрос о том, возможна ли метафизика, он исходил из предположения, что метафизика только в том случае возможна, если на вопросы о том, есть ли Бог, бессмертна ли душа, свободна ли воля, получатся такие же ответы и, главное, от того же отвечателя, который просвещает нас, когда мы спрашиваем, можно ли вписать ромб в окружность или сделать однажды бывшее не бывшим. И вот, по убеждению Канта, на вопросы, можно ли вписать ромб в окружность или сделать бывшее не бывшим, мы имеем совершенно определенные, для всех равно обязательные или, как он выражается, всеобщие и необходимые ответы: нельзя вписать ромб в окружность, нельзя тоже однажды бывшее сделать не бывшим. А на первые вопросы таких ответов нет: может, Бог есть, а может, Бога нет, может – душа бессмертна, а может, смертна и свобода воли, может, есть, а может, ее и нет.
Вся «Критика чистого разума» сводится главным образом к этому. Причем, если бы Кант договорил до конца или, вернее, чуть-чуть менее стыдливо формулировал свои выводы, ему бы нужно было сказать: Бога нет, душа (которой тоже нет) – смертна, свобода воли – миф.
Но вместе с тем Кант наряду с теоретическим разумом допускал и разум практический. И, когда с теми же вопросами мы обращаемся к разуму практическому, все сразу меняется: и Бог есть, и душа бессмертна, и воля свободна. Почему и как Кант перенес на практический разум те полномочия, которые он так беспощадно вырвал из рук разума теоретического, рассказывать не приходится: все это знают. Сейчас важно другое: важно, что гегелевская метафизика по существу ничем от кантовского практического разума не отличается, иначе говоря, что кантовский практический разум уже всецело, только не в совсем развернутой, развернувшейся форме, заключал в себе гегелевскую метафизику. Это кажется почти парадоксальным, но это так, и иначе быть не могло – раз они оба исходили из традиционного убеждения, что есть один только источник истины и истина есть то, к чему каждый человек может быть насильственно приведен. Почти каждая страница гегелевских писаний говорит о том, что его метафизика родилась от кантовского практического разума. Таков смысл его онтологического доказательства бытия Божия: у него, как у Канта, «доказывает» не теоретический, а практический разум. Еще лучше это видно будет из следующего размышления Гегеля: «Wenn der Mensch B?ses tut, so ist dies zugleich als ein an sich Nichtiges vorhanden, ?ber das der Geist m?chtig ist, so dass der Geist die Macht hat, das B?se ungeschehen zu machen. Die Reue, Busse hat diesen Sinn, dass das Verbrechen durch die Erhebung des Menschen zur Wahrheit als ein an und f?r sich ?berwundenes gewusst wird, das keine Macht f?r sich hat. Dass so das Geschehene ungeschehen gemacht wird, kann nicht auf sinnliche Weise geschehen, aber auf geistige Weise, innerlich».[33 - Когда человек совершает что-то злое, оно присутствует одновременно как нечто в себе ничтожное, над чем властен дух, так что дух имеет власть сделать зло не бывшим. Раскаяние, покаяние имеют тот смысл, что благодаря возвышению человека к истине преступление осознается как в себе и для себя преодоленное, не имеющее само по себе силы. Такое превращение бывшего в небывшее возможно не в чувственной, а в духовной, внутренней форме (нем.).] Вся метафизика Гегеля так построена: где теоретический разум останавливается, чувствуя свое бессилие и неспособность что-нибудь сделать, там является на выручку практический разум и заявляет, что он какую угодно беду руками разведет. Только слова другие: вместо практического разума – Geist. Нельзя, конечно, нет такой силы в мире, которая могла бы сделать однажды бывшее не бывшим, и совершившееся преступление, как бы ужасно оно ни было – братоубийство Каина, предательство Иуды, – останется навеки свершившимся: оно находится в ведении теоретического разума и тем самым подчинено власти неумолимой, не слушающейся убеждения ’??????. Но нет вовсе никакой нужды, чтобы однажды бывшее стало не бывшим в чувственном, конечном мире, как нет никакой нужды в Кане Галилейской или воскрешении Лазаря: все это было бы разрывом естественных связей и, стало быть, «насилием над духом». Практический разум придумал другое, много лучшее: он «внутренне», «духовно», через раскаяние сделает однажды бывшее не бывшим. Здесь, как это часто бывает при чтении произведений Гегеля, затрудняешься решить: говорит ли он в самом деле то, что думает, или через него говорит загипнотизировавшая и превратившая его в одаренный сознанием камень ’??????. Еще можно допустить, что Каин или Иуда, если бы они не знали раскаяния, забыли бы о том, что они сделали, и их преступление утонуло бы в Лете. Но ведь раскаяние потому и есть раскаяние, что оно не может жить в мире со свершившимся. Отсюда и легенда о вечном жиде пошла. Или, если вам не по сердцу легенды, напомним вам свидетельство Пушкина:
Мечты кипят. В уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток.
Воспоминания безмолвно предо мной
Свой длинный развивают свиток.
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Пушкин не убил брата, не предал божественного учителя, но он знает, что никакой практический разум, никакая истина, даже та, которая, по словам Гегеля, существовала до сотворения мира, не может дать ему того, чего жаждет его душа. Нужно думать, что Пушкин иначе судил и о Кане Галилейской, и о воскрешении Лазаря, и ему не казалось, что повествования Св. Писания подлежат проверке «нашего мышления, которое является единственным судьей», и что разрыв естественных связей явлений есть насилие над духом. Для Гегеля, как и для Канта, вера или то, что они называют верой, находится под вечной опекой разума. «Der Glaube aber beruht auf dem Zeugnisse des Geistes, nicht von den Wundern, sondern von der absoluten Warheit von der ewigen Idee, also dem wahrhaften Inhalte; und von diesem Standpunkte aus haben die Wunder ein geringes Interesse».[34 - Вера основана на свидетельстве духа не о чудесах, а об абсолютной истине, о вечной идее, следовательно, об истинном содержании; и с этой точки зрения чудеса представляют интерес незначительный (нем.).] Я думаю, что опять следует исправить последние слова приведенной фразы и сказать не «чудеса представляют малый интерес», а «чудеса не представляют никакого интереса», как утверждали стоики: все, что не в нашей власти, ????????? (безразлично). Или – и тут бы обнажился его действительный «интерес», вернее, основная предпосылка всего его мышления – заявить: всякого рода чудеса, и те, о которых свидетельствуется в Библии, и те, о которых рассказывается в «Тысяча и одной ночи», – ничего не стоящий вздор, отвергнутый теоретическим разумом и совершенно неприемлемый для разума практического. Или, как говорил Кант, Deus ex machina является самым нелепым из возможных допущений, а идея высшего существа, вмешивающегося в человеческие дела, знаменует собой конец всякой философии. Мышление и Канта, и Гегеля целиком покоится на этих положениях. Даже невинная harmonia praestabilita Лейбница была для них предметом ужаса и отвращения, как идолы для библейских пророков. Harmonia praestabilita это все тот же Deus ex machina, признание которого рано или поздно должно выбить человека из колеи нормального мышления. Правда, Кант и Гегель были несправедливы к Лейбницу. Лейбниц никогда не покушался выбивать кого-нибудь из нормы или колеи. Если он допускал harmonia praestabilita, то только на один раз, вроде как Сенека в своем semper paret, semel jussit. И для Лейбница мышление, в основе которого лежало бы jubere, казалось диким и чудовищным. Consensu sapientium и Deus ex machina, и Высшее существо всегда изгонялись философами за ограду действительного бытия в область вечно фантастического.
Но опять спросим: почему, по какому праву Deus ex machina считается нелепейшим допущением, а Высшее существо объявляется врагом философских исканий? Когда химик, физик или геолог отворачиваются от Deus ex machina или Высшего существа, у них есть на то свои основания. Но философ, да еще философ, задумавший «Критику чистого разума», как может он не «видеть», что Deus ex machina имеет по меньшей мере такие же права, как и любое синтетическое суждение? И что во всяком случае никак уже нельзя a priori квалифицировать его как нелепейшее допущение? А между тем достаточно признать за ним хоть какие-нибудь, хоть самомалейшие права, и вся «критика» повалится. И тогда выяснится, что articulus stands et cadentis кантовской и всей следовавшей за ней философии был связан с призрачной, не имеющей никакой опоры в действительности идеей. Или лучше сказать: идея о том, что Deus ex machina (или H?heres Wesen) есть самое нелепое из возможных допущений, была внушена Канту и тем, кто за Кантом шел, все той же не слушающей убеждений ’??????, которая обладает даром обращать всякого, на нее оглянувшегося, в камень. И сила внушения была такова, что Кант в самом деле, не только наяву, но и во сне, не только пред другими, но и наедине с собой, ни на одно мгновение не мог вырваться из власти этой идеи. Вся действительность оказалась распластанной и насильно вбитой в ту двухмерную плоскость мышления, которое и в самом деле не «допускает», т. е. не вмещает в себя ни Deus ex machina, ни H?heres Wesen и потому видит величайшую нелепость во всем, что носит отпечаток неожиданности, свободы, почина, что ищет и желает не пассивного бытия, а творческого, ничем не связанного и не определяемого делания.
В этой же плоскости уместился и гегелевский «дух», который, со всей его столь прославленной свободой, оказался тоже – вероятно, еще до сотворения мира – обреченным бегать по кругу, «worin das Erste auch das Letzte und das Letzte das Erste ist».[35 - В котором первое есть также и последнее, а последнее – первое (нем.).] Для Гегеля, как и для Канта, как для Фихте и Шеллинга (особенно первого периода), идея познания и идея истины были неразрывно связаны с идеей механизма. У Фихте и Шеллинга мы встречаем даже выражения такие: механизм человеческого духа. Кант в «Критике способности суждения» упорно настаивает на том положении, что «мы никоим образом не можем доказать невозможность появления организмов – чисто механическим и естественным путем». А в «Критике чистого разума» мы читаем: «wenn wir alle Erscheinungen seiner (menschliche) Willk?r auf den Grund erforschen k?nnten, so w?rde es keine menschliche Handlung geben, die wir nicht mit Gewissheit vorhersagen und aus ihren vorhergehenden Bedingungen als notwendig erkennen k?nnen».[36 - Если бы мы могли исследовать до конца все явления его (человеческой) воли, мы не нашли бы ни одного человеческого поступка, которого нельзя было бы предсказать с достоверностью и познать как необходимый на основании предшествующих ему условий (нем.).]
Я опять спрашиваю – и нельзя перестать спрашивать, как бы ни утомляло и ни раздражало и тебя самого, и других постоянное повторение одного и того же вопроса: откуда у великих представителей немецкой философии такая верноподданническая приверженность «механизму», точно бы они еще в детстве дали ганнибалову клятву не покладать рук, пока не будет низвержен ненавистный им Deus ex machina. Откуда вообще во всей философии всех веков взялось убеждение, что в механизме, в самодвижении, в движении по кругу надо искать последнюю тайну мироздания? Немецкие идеалисты всегда любили говорить о свободе и без конца прославляли свободу. Но какая же может быть свобода там, где все «естественно», где царствует механизм? И разве не ближе к истине был Платон, рассказавший нам об узниках своей пещеры, или Лютер со своим de servo arbitrio, или Спиноза, открыто признававшийся, что все, что он пишет, он пишет не по свободному желанию, а по внешнему принуждению? Такие признания (и связанный с ними ужас – «страх Божий») знаменуют собой если не о начале, то хотя бы о предчувствии пробуждения и освобождения ???????? ??????????? – Плотина (истинного пробуждения люди, по-видимому, на земле не знают), или тоску, печаль о свободе и свидетельствуют, что мы имеем дело не с одаренными сознанием камнями, а с живыми людьми.
Х
Метафизика Гегеля и практический разум Канта питаются из одного источника и лежат в одной и той же плоскости. Новейшие попытки преодолеть кантовский формализм и обосновать материальную этику были заранее обречены на неудачу. Выдернуть из этики формализм значит уничтожить этику. Формализм есть душа этики, как «теория» есть душа «познания». Лишь благодаря «формализму» стала возможной так называемая автономная этика, т. е. то, что заслуживает название этики. Только слово автономный, или самозаконный, не следует понимать так, как если бы смысл его исчерпывался его второй частью. Конечно, ????? ?????? ??????? ???? ????????? ????????? (закон царь над всеми смертными и бессмертными) – мы это уже слышали от Платона. Но не менее существенно и другое: этика живет своими законами, не теми, которые заправляют другими областями бытия. Это никогда не следует забывать – иначе кантовские и гегелевские построения потеряют свой смысл и значение. Уже в «Критике чистого разума» роль этики в миросозерцании Канта определяется с достаточной ясностью, подобно тому как в «Феноменологии Духа» Гегеля без труда можно уже различить очертания его философии истории и философии религии. Но все-таки только в «Критике практического разума» выявляется в своем истинном и неприкрытом виде идея автономной этики. И надо думать, что Гегель, так самоуверенно и беспощадно критиковавший кантовскую этику, как раз ей наиболее всего обязан: она дала ему возможность оберечь заветы Спинозы, от которых он никогда не мог отказаться (sub specie aeternitatis seu necessitatis, которое он переводит словами «поклонение в духе и истине»), и вместе с тем сохранить ту торжественность настроения и речи, на которую дает право возвышенность и которая, на глаз торопящихся людей, сближает умозрительную философию, данницу ’??????, с религией.
И точно, если какая-нибудь этика могла претендовать на эпитет «возвышенность» – то именно этика Канта. В ее основе лежит идея чистого, никогда ни с чем не смешивающегося долга. Часто приводятся знаменитые слова, которыми Кант начинает свое заключение к «Критике практического разума»: звездное небо над нами и моральный закон в нас. Но, по-моему, много замечательнее лирическое отступление из третьего отдела первой части той же «Критики»: «Долг! Ты возвышенное, великое слово, так как в тебе нет ничего угодливого, что льстило бы людям, но ты требуешь подчинения, хотя бы чтобы привести в движение волю, и не угрожаешь тем, что возбуждало бы естественное отвращение в душе и пугало бы, ибо ты только ставишь закон, который сам проникает в душу и против воли возбуждает уважение к себе (хотя и не всегда его исполнение) и перед которым замолкают все склонности, хотя бы они исподтишка ему противодействовали, – где же твое, достойное тебя, происхождение и где корни твоего благородного появления, в них же устраняется всякое родство со склонностями и только из них возникают условия того достоинства, которое люди могут дать себе сами?» Эта несколько, пожалуй, неуклюжая по своему словесному выражению попытка составить молитву из добытых «чистыми разумами» понятий не оставляет ни малейшего сомнения в том, что, собственно говоря, разумел Кант под этическим формализмом. Формализм у Канта есть то же «поклонение в духе и истине», о котором так много говорил Гегель и те из новейших философов, которые к Гегелю возвращаются. Кант не хуже, чем наши современники, умел тоже развить идею личности, которая для него является условием и предположением возможности автономной морали. Там же, все в той же главе «О побуждениях чистого практического разума» – мы читаем: «Эта вызывающая уважение идея личности, которая ставит перед нашими глазами высокое достоинство нашей природы (по ее назначению)… легко понятна даже для самого заурядного человеческого ума… Это результат уважения к чему-то совершенно другому, чем жизнь, – в сравнении и в сопоставлении с чем даже жизнь со всеми ее удовольствиями не имеет цены. Человек живет только для долга, а не потому, что находит какое-нибудь удовольствие в жизни». Я не знаю и никто не может знать, чем «долг», пред которым молится коленопреклоненным Кант, отличается от гегелевского «духа» и почему новейшая философская критика находила недостаточным кантовское учение о личности. Идея долга, идея святости нравственного закона (das moralische Gesetz ist heilig), равно как идея автономности разумного существа (Autonomie des vern?nftigen Wesens), и все те возвышенности и торжественности, которые несут человечеству эти идеи, – все это «Критика практического разума» обеспечивает не в меньшей степени, чем «Критика чистого разума» обеспечивала науке всеобщие и необходимые суждения. Гегель мог «продумать до конца» «свою систему», только пронеся со свойственной ему дерзостью на глазах у всех (Гегелю все дерзости проходили безнаказанно, даже Шеллинг, зорко следивший за «диалектикой» ненавистного врага, не заметил этого) добытые практическим разумом Канта возвышенности за ограду разума теоретического. «Человек, – пишет он в своей „Логике“, – должен в своем настроении возвыситься до той отвлеченной общности, при которой ему действительно все равно, существует или нет он сам, т. е. существует или нет в конечной жизни (ибо тут разумеется состояние, определенное существование и т. п.). Даже si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinam (пусть рушится небесный свод, ты должен оставаться бесстрашным), – сказал один римлянин, а христианину тем более должно быть присуще такое равнодушие». Все знают эти слова Гегеля, он их не прятал, они у него в красном углу выставлены – но самоуверенность Гегеля так обезоруживает, что никому и на ум не приходит, что гегелевский дух есть тот же кантовский долг, о котором у нас сейчас шла речь. Все уверены, что Гегель преодолел кантовский формализм, и не замечают, что его онтологическое доказательство бытия Божия (откуда и взят сейчас приведенный отрывок) ничем, решительно ничем от кантовского «постулата Бога» не отличается, как не отличается гегелевский «дух» от кантовского «долга». За последней истиной и Кант, и Гегель шли в одно и то же место. Они сделали огромные напряжения, чтобы возвыситься (erheben, Erhabenheit – любимые слова Канта и Гегеля), чтобы подняться до тех областей, где текут источники бытия и жизни. Но они вперед были убеждены, что человек не может и шагу ступить, не оглянувшись назад, не вглядевшись пред собой, словом, не убедившись заранее, что путь, по которому он собирается идти, свободен. «Критика чистого разума» была оглядкой par excellence. Кант спросил – кого он спросил? – возможна ли метафизика. И, конечно, получил ответ: нет, невозможна. Но, повторяю, кого он спросил, за кем он признал право решать, что возможно и что невозможно? Опыт был отвергнут Кантом как источник метафизического познания. Уже в самом начале введения в «Критику чистого разума» (первое издание) Кант определенно заявил, что опыт показывает то, что существует, но он не говорит нам, что оно «должно быть таким, а не иным». Опыт не дает нам «истинной всеобщности и необходимости, и разум, который так жадно стремится к такого рода познанию, опыт больше раздражает, чем удовлетворяет». Слова замечательные! Кант, как мы видим, сразу обратился со своими вопросами к разуму и совершенно чистосердечно был убежден, что он пишет «критику чистого разума». Он даже не спросил себя, почему такое мы должны хлопотать о том, чтобы удовлетворить разум? Разум жадно ищет всеобщего и необходимого, мы должны на все пойти, всем пожертвовать, только бы была ему любезная его сердцу необходимость, только бы он не раздражался. Пред Кантом стоял вопрос, возможна ли метафизика, где тот источник, из которого страждущее человечество могло бы зачерпнуть воду жизни (не забудьте, что, по Канту, метафизика трактует о Боге, бессмертии души и свободе воли), а он только тем и озабочен, чтобы угодить разуму, которому ни до Бога, ни до души, ни до свободы нет никакого дела – только бы не обидели Необходимость. Положительные науки оправдали себя пред Необходимостью, если метафизика хочет получить право на существование, она должна прежде всего заручиться благосклонностью ’??????. «Notwendigkeit und strenge Allgemeinheit sind sichere Kennzeichen einer Erkenntnis a priori»,[37 - Необходимость и строгая всеобщность суть надежные признаки знания a priori (нем.).] – единственного познания, которому человек может довериться. Это для Канта самоочевидная истина, как самоочевидно, что Deus ex machina есть нелепейшее допущение или что если ein h?heres Wesen вмешивается в человеческие дела, то философии нечего делать в нашем мире. Кто и когда внушил Канту веру в эти «истины», как такого рода внушения стали возможны – ответов на эти вопросы не ищите в кантовских «Критиках»: все равно не найдете. Не найдете вы их тоже в тех системах философии, которые продолжали дело Канта. Ибо куда, к кому идти с ними? И разве можно противиться Необходимости, убеждать ее? ’?????? ????????????? ?? ??????, но за то ей дан ни на что ей не нужный дар околдовывать и покорять людей. Мы слышали сейчас молитву распростертого перед долгом Канта: практический разум только добросовестно повторяет то, что он перенял у разума теоретического. Для разума теоретического истина имеет своим источником Необходимость, для разума практического – добродетель в послушании. Такому практическому разуму не страшно и примат уступить: он не возмутится, не предаст, и его «повеления» нисколько не грозят без него и не для него заведенному во вселенной порядку. Идею целесообразности в природе (финализм), например, допустить нельзя: такого рода автономия напоминала бы о Deus ex machina или о высшем существе и являлась бы вторжением в заповедные от века владения ’??????. Но практический разум скромен и непритязателен. Он никогда не покусится на державные права Необходимости и Механизма. Если в «опыте» и наблюдаются такие явления, как организмы, которые иной раз соблазняют людей думать, что кто-то не так ко всему безразличный, как необходимость, внес свои мысли и заботы в устройство мира, то практический разум подскажет нам, что такое нужно принимать очень сдержанно и лучше говорить, что в мире кой-что происходит так, как если бы (als ob) судьбами мира был кто-то озабочен. Такое (als ob) не оскорбляет величества ’?????? и не посягает на ее суверенитет. Зато людям разрешается говорить сколько им вздумается о «мудрой соразмеренной с практическим назначением человека пропорции его познавательных способностей» (есть такая глава в «Критике практического разума»). Скажут, раз «мудрая соразмеренность», стало быть, финализм? И Deus ex machina вынырнул откуда-то, несмотря на наложенные на него запреты? Ничуть не бывало: Кант знает, что он делает. Это ведь не Кана Галилейская и не воскрешение Лазаря. Это – одно из тех естественных «чудес», которые необходимость с легким сердцем предоставляет в распоряжение философии. В метафизическую область такие чудеса вас не проведут. Наоборот, чем больше в мире будет таких чудес, тем надежнее люди будут ограждены от метафизики. Оттого-то, как я сейчас сказал, теоретический разум так охотно пожаловал практическому разуму «примат» и даже бесконтрольное право распоряжаться «метафизическими утешениями». Ведь метафизические утешения в том как раз и состоят, что человек отлично и без всякой метафизики проживет, т. е. и без Бога, и без бессмертия души, и без свободы воли обретет acquiescentia in se ipso, которую порождает разум.
У Гегеля практический разум живет не по соседству даже с разумом теоретическим, а перенесен в самое сердце последнего. «Человек должен возвыситься до отвлеченной всеобщности» – у Гегеля этот «категорический императив» исходит из «Логики». Нечего и говорить: Гегель до конца продумал Канта. Не хуже Канта он знает, что метафизика невозможна, метафизика, которая ищет Бога, бессмертия души и свободы воли, но она невозможна не потому, что разуму положены какие-то пределы, что категории нашего мышления применимы только к чувственно данному. Гегеля раздражала даже самая постановка вопроса о пределах человеческого разума, он, по-видимому, имел все основания сомневаться даже в том, что сам Кант в этом видел задачу «критики разума». Метафизика, которая открыла бы людям Бога, бессмертие души и свободу, невозможна потому, что ни Бога, ни бессмертия, ни свободы нет: все это дурные сны, которые снятся людям, не умеющим возвыситься над отдельным и случайным и не желающим поклоняться в духе и истине. От таких снов и от несчастного сознания, эти сны порождающего, нужно во что бы то ни стало избавить человечество. Все эти представления (Vorstellungen), пока человек не стряхнет их с себя и не войдет в область чистых понятий (Begriff), даваемых разумом, истина будет от него скрыта. Super hanc petram[38 - На сем камне (лат.).] держится вся философия Гегеля.
XI
Так учил Гегель, но все это нашел у Канта. Когда Кант позвал метафизику на суд разума, он знал, что она будет осуждена. И когда потом Фихте, молодой Шеллинг и Гегель стали домогаться на том же суде пересмотра процесса, они тоже знали, что дело метафизики безнадежно и навсегда проиграно. Свои огромные диалектические силы Кант напряг, чтобы очистить человеческую душу от чуждых ей элементов того, что она называет чувственностью. Но диалектики оказалось недостаточно: все, что принято называть «доказательствами», за известной чертой теряет способность принуждать и покорять себе. Можно «доказать», что сумма углов в треугольнике равняется двум прямым, но как «доказать» человеку, что, если даже небо обвалится на него, он спокойно, точно это так и полагается, будет лежать полураздавленным под обломками? Такое доказать нельзя – такое можно только внушить, как нельзя доказать, а можно только внушить себе и другим, что Deus ex machina есть нелепейшее допущение и что необходимости дано суверенное право помыкать великим Парменидом. Кант, покоряясь своему предназначению или, говоря по Гегелю, духу времени, не брезгает и внушением как способом разыскания истины. Главное – добыть «всеобщность» и «необходимость», остальное – приложится. Всеобщность же и необходимость внушение обеспечивает не меньше, чем доказательства. Казалось бы, молитве нет места там, где речь идет о критике чистого разума теоретического или о критике чистого разума практического. Но Кант, не испрашивая ни у кого разрешения, молится пред долгом, и это сходит за «доказательство». Казалось бы, старая «анафема» давно уже выведена за ограду философского мышления, но, когда нужно выкорчевать из человеческой души все «патологическое» (у Канта слово «патологическое» не значит «болезненное и ненормальное», он это слово употребляет как синоним «чувственного»), Кант не пренебрегает и анафемой, и анафема тоже сходит за доказательство. «Предположим, – пишет он, – что некто ссылается на свою сладострастную склонность, так что если ему встречается соответствующий предмет и случай для этого, то это действует на него совершенно неотразимо; но если бы поставить виселицу пред домом, где ему дается этот случай, чтобы сейчас же повесить его по удовлетворении сладострастия, он и тогда не победил бы свои склонности? Не надо гадать, что он на это ответил бы. Но спросите его, если бы князь под угрозой смертной казни заставил бы его дать ложное показание против честного человека, которого он под вымышленными предлогами хочет погубить, мог ли бы он и тогда, как бы ни велика была его любовь к жизни, преодолеть ее в себе? Сделал ли бы он это или нет, он не мог бы и сам не решился бы сказать, но без колебания мы принуждены сказать, что он мог бы это сделать. Он судит, стало быть, что он может сделать что-нибудь, потому что он сознает, что он это должен сделать и опознает в себе свободу, которая иначе, без морального закона, осталась бы ему неизвестной!» Каков смысл этой «аргументации»? И осталась ли тут хоть тень той свободы, о которой Кант так много и красноречиво говорит в этом и других местах своих сочинений и которую вслед за ним и до него провозглашали лучшие представители философии? Чтобы обосновать свой категорический императив, Кант не нашел иного средства, кроме внушения и заклинаний. Он долго и горячо молился пред иконой долга, и, когда почувствовал в себе нужные силы, вернее, когда почувствовал, что сил у него нет, что его самого уже нет, что через него действует иная сила (когда он «возвысился до отвлеченной общности», выражаясь по Гегелю), а он сам стал безвольным и слепым ее орудием, он написал «Критику практического разума». Теоретический разум не может успокоиться до тех пор, пока не убедит всех, что он диктует законы природе, практический разум природу оставляет в покое, но его воля к власти требует господства над людьми. Опять на долю людей выпадает раrеrе, jubere же целиком достается «идее», «принципу», задача же философии сводится к тому, чтобы тем или иным способом внушить людям убеждение, что живому существу полагается не повелевать, а повиноваться и что отказ в повиновении есть смертный грех, за него же наказание – вечная гибель. И это называется свободой. Человек волен выбрать вместо parere – jubere, но уже никак не может сделать, чтобы тому, кто выберет jubere, полагалось спасение, а за раrеrе – гибель. Тут свобода кончается, тут все предопределено. Даже ipse creator et conditor mundi тут ничего переменить не может. И его свобода сводится к тому, чтобы повиноваться. Кант идет дальше, чем Сенека: он даже не согласен допустить, что Бог однажды приказал. Никто никогда не приказывал, все всегда повиновались. Всякое приказание есть Deus ex machina, знаменует конец философии. Это ему a priori известно. Но он и a posteriori, как мы сейчас видели, доказывает, что нравственный закон осуществляется, – правда, иначе, чем веления теоретического разума, но все-таки осуществляется: «сладострастника» виселица напугает, а человек, повинующийся моральному закону, и перед виселицей не спасует. Для чего было Канту хлопотать еще о таком «осуществлении»? Зачем грозить «сладострастнику» виселицей? Отчего не предоставить ему «свободу» следовать своим склонностям, раз свобода признается основной прерогативой человека? Но такая свобода для философа еще ненавистнее, чем Deus ex machina, и, чтобы убить ее. Кант не брезгает даже эмпирической виселицей, которой как будто совсем и не пристало вмешиваться в дела чистых априорных суждений. Но есть, видимо, предел философскому терпению. Благородный Эпиктет обрезывал носы и уши своим идейным противникам – Кант готов их вздернуть на виселице. И они, конечно, правы: иным способом, без помощи эмпирического принуждения (??? у Аристотеля), «чистым» идеям никогда не добиться победы и торжества, которое они так ценят.
И все же Кант считал без хозяина. Виселица ему не поможет, по крайней мере, не всегда поможет. Он говорит о «сладострастнике», т. е., прежде чем решилась судьба человека, надевает на него саван. «Сладострастнику» не грех обрубить нос или уши, не грех и повесить его, и уж никак нельзя предоставить ему свободу. Но попробуйте на минуту спуститься с «высот» чистого разума и спросить себя: кто такой этот сладострастник, с которым мы так беспощадно расправились? Кант вам ничего не ответит – он предпочитает оставаться или прятаться в общем понятии. Но недаром все стремятся сделать общее понятие прозрачным. В понятии «сладострастник» нетрудно, при желании, различить и Пушкина, написавшего «Египетские ночи», и Дон-Жуана испанской легенды, и Орфея и Пигмалиона древней мифологии, и даже бессмертного автора «Песни Песней». Если бы Кант об этом вспомнил или, лучше сказать, если бы, прежде чем выступать в роли гипнотизера, он сам не был загипнотизирован всесильной ’??????, он бы почувствовал, что тут дело не такое простое и самоочевидности не такие самоочевидные и что ни его саван, ни его виселица ничего не предрешают и ничего не решают. Орфей не побоялся спуститься в самый ад за Эвридикой, Пигмалион вымолил для себя у богов чудо, Дон-Жуан подал руку ожившей статуе, у Пушкина даже скромный юноша отдает жизнь за одну ночь Клеопатры. А в «Песне Песней» мы читаем: любовь сильна, как смерть. Что осталось от внушений Канта? И какие вечные истины может дать его практический разум и тот нравственный закон, который этот разум несет с собой? И разве не ясно, что настоящая свобода лежит бесконечно далеко от тех областей, которые облюбовал себе и в которых живет практический разум? Что там, где закон, там, где раrеrе, там свободы нет и быть не может, что свобода неразрывно связана с тем jubere, в котором нас приучили видеть источники всех заблуждений, всех нелепостей и всего недозволенного? Пигмалион ни у кого не спрашивал, можно ли ему требовать чуда для самого себя, Орфей нарушил вечный закон и спустился в ад, хотя туда не мог и не должен был спускаться и никогда не спускался ни один смертный. И боги приветствовали их дерзания, и даже мы, образованные люди, когда слышим рассказы об их делах, порой забываем все, чему нас учили, и радуемся вместе с богами. Пигмалион захотел, и потому, что он захотел, невозможное стало возможным, статуя превратилась в живую женщину. Если бы в наше «мышление» вошла как новое его измерение пигмалионовская безудержная страсть, многое, что мы считаем «невозможным», стало бы возможным и что кажется ложным, стало бы истинным. Даже такое невозможное стало бы возможным, что Кант перестал бы клеймить Пигмалиона сладострастником, а Гегель признался бы, что чудо не есть насилие над духом, что, наоборот, невозможность чуда есть самое ужасное насилие над духом. Или я ошибаюсь: они все продолжали бы твердить свое? Продолжали бы внушать нам, что всякие страсти и желания (Neigungen) должны склониться пред долгом и что истинная жизнь есть жизнь умеющего возвыситься над «конечным» и «преходящим»? И Кальвин был прав: non omnes pari conditione creantur, sed aliis vita aeterna, aliis damnatio aeterna praeordinatur? Как ответить на этот вопрос?
XII
Так или иначе, теперь нам понятно, почему Гегель так боялся «порвать естественные связи явлений» и почему Кант без всякой предварительной «критики», т. е. не только без обсуждения вопроса, но даже без указания, что здесь возможны или допустимы какие-нибудь вопросы или сомнения, привел метафизику на суд оправдавших себя положительных наук и лежащих в их основе синтетических суждений a priori. «Alles Interesse meiner Vernunft (das speculative sowohl als das praktische) vereinigt sich in folgenden drei Fragen: 1. Was kann ich wissen; 2. Was soll ich thun; 3. Was darf ich hoffen»,[39 - Все интересы моего разума, и спекулятивные и практические, объединяются в следующих трех вопросах: 1. Что я могу знать? 2. Что я должен делать? 3. На что я могу надеяться? (нем.).] – пишет Кант в одной из последних глав «Критики чистого разума». К кому обращены эти вопросы – Кант этим так же мало озабочен, как и Гегель. Ему тоже, очевидно, представлялось нелепейшим допущением, что готовность спрашивать связывает человека по рукам и ногам. Когда он обучался положительным наукам, он спрашивал, какие на земле самые высокие горы, чему равняется диаметр солнца, какова быстрота движения звука или света и т. д. И приучился думать, что всегда уместно спрашивать и что есть у кого спросить. И что спрашивать полагается обо всем у одного и того же отвечателя, у того, к которому обращался с вопросами о горах, солнце, свете и звуке, в его же распоряжении находятся все kann, soll и darf. Если метафизика не пойдет за этим в то же место и не получит это из тех же рук, которые до сих пор раздавали все kann, soil и darf, то у нее никогда ничего настоящего не будет. Прежняя докритическая метафизика ходила куда-то и откуда-то приносила свои истины, но она не туда ходила, куда нужно, и ее истины не истины, a Hirngespinst и Grille.[40 - Химеры и капризы (нем.).] Но когда она после «критики» пошла, куда ее направил Кант, она вернулась с пустыми руками: все kann, soll и darf уже были розданы и на ее долю ничего не досталось. Казалось бы, естественно спросить: раз до «критики» метафизика что-то все же приносила, а после «критики» не стала приносить ничего, не значит ли это, что в «критике» нужно видеть причину того, что метафизические источники внезапно и навсегда иссякли? Т. е. что не метафизика невозможна, как заключил Кант, а невозможна и ни на что не нужна критическая метафизика, т. е. оглядывающаяся назад, загадывающая вперед, всего боящаяся, всех и вся спрашивающая и ни на что не дерзающая метафизика, – в терминах Канта: метафизика как наука. Кто внушил нам мысль, что метафизика хочет или должна хотеть быть наукой? Как случилось, что, спрашивая, есть ли Бог, бессмертна ли душа, свободна ли воля, мы вперед изъявляем предательскую готовность принять ответ, какой нам дадут, не справляясь даже, каковы природа и сущность того, кто этот ответ нам готовит? Скажут, Бог – есть, значит есть, скажут – нет, значит нет, и нам уже ничего не остается, как покориться. Метафизика должна быть таким же раrеrе, как и положительные науки. Парменид, Платон, Спиноза, Кант, Гегель ?????????????? ??’??????? ???? ????????? не выбирают, не решают. Без них выбрали, без них решили, без них приказали. И это называется истиной, т. е. считается, как учили Кант и Сенека, что тут надо не только повиноваться, но благоговейно и радостно принимать, или, как учили Кант и Гегель, что тут нужно коленопреклонно молиться и других звать на молитву. Все разумы, теоретические и практические, человеческие и сверхчеловеческие, в течение многотысячелетнего развития философской мысли неизменно твердили нам: надо слушаться, надо покоряться – каждому человеку в отдельности и всем людям вместе. Метафизика, которая идет к тому засыпанному с незапамятных времен источнику, из которого течет jubere, всех отталкивает и отпугивает от себя. Сам Бог, помним мы, только всего раз решился проявить своеволие – иначе, видно, и ему нельзя было, как нельзя было эпикуровским атомам не отклониться однажды от естественного пути – но после этого раза и Бог и атомы уже смиренно повинуются… Для нашего мышления jubere (???? ?????? ?????????) совершенно невыносимо. Кант приходил в ужас от одной идеи Deus ex machina или ein h?heres Wesen, вмешивающихся в жизнь человека. В гегелевском боге, каким он был до сотворения мира, в спинозовской causa sui нет и следа вольного jubere. Под jubere нам чудится произвол и фантастика, что может быть отвратительнее и страшнее этого? Лучше уже ’??????, которая не слушает убеждений, которой ни до чего дела нет, которая не различает Сократа от бешеной собаки. И если теоретический разум не может, когда дело доходит до метафизических вопрошаний, обеспечить нам неприкосновенность ’??????, т. е. дать всеобщие и необходимые, принуждающие и принудительные истины, мы все же не пойдем за метафизикой к тому источнику, из которого течет jubere. Мы хотим во что бы то ни стало повиноваться и, по образу и подобию теоретического разума, создадим разум практический, который будет неусыпно бдеть, чтобы не погас огонь на алтаре извечного раrеrе.
Таков смысл философских заданий, которые ставило себе и осуществляло наше «мышление» начиная с древнейших времен и кончая Кантом и нашими современниками. Вид человека, готового и способного за свой страх и по-своему направлять свою судьбу, отравляет существование нашего разума. Даже Бог, отказывающийся повиноваться, нам представляется чудовищем. Философия может делать свое дело, если все навсегда забудут о jubere (???? ?????? ?????????) и станут воздвигать алтари раrеrе. Один Александр Македонский или один Пигмалион могут свалить построения Аристотеля или Канта, если не принудить их отречься от своеволия. Еще в большей мере Кана Галилейская. Если бы даже удалось исторически и фактически установить, что Иисус превращал воду в вино, то пришлось бы во что бы то ни стало найти способ, чтобы уничтожить исторический факт. Конечно, теоретическому разуму таких задач ставить нельзя, он не согласится признать, что однажды бывшее стало небывшим, но у нас есть разум практический (его задолго до Канта знал уже Аристотель), который «в духе» осуществит то, на что разум теоретический не отважится. Кана Галилейская была бы, как нам объяснил Гегель, «насилием над духом», над духом тех людей, которые не «свободно», правда, хоть они и стараются уверить себя и других, что свободно, а нудимые Необходимостью обоготворили раrеrе. Значит, можно и должно Кану Галилейскую в духе же преодолеть: все «чудесное» во что бы то ни стало должно быть извержено из жизни, равно как должны быть извержены люди, ищущие спасения от ’?????? в разрыве естественных связей явлений. ?????????? ????????, ?????????? ?????????????? (скованный, нудимый Парменид), Парменид, обращенный ’?????? в одаренный сознанием камень, являет собой идеал философствующего человека, каким он является нашему «мышлению».
Но окаменевшему Пармениду не дано вынести человека за пределы его ограниченности. И оглядывающееся мышление не приведет нас к истокам бытия. Аристотель оглянулся, Кант оглянулся, все, кто шел за Кантом и Аристотелем, оглядывались и стали вечными пленниками ’??????. Чтобы вырваться из ее власти – нужно на все дерзнуть (????? ???????), нужно принять великую и последнюю борьбу, нужно идти вперед, не загадывая и не спрашивая, что ждет нас. И только рождаемая неизбывной тревогой готовность сдружиться со смертью (?????? ???????) может вдохновить человека на неравную и безумную борьбу с Необходимостью. Перед лицом смерти и человеческие «доказательства», и человеческие «самоочевидности» тают, расплываются и превращаются в иллюзии и призраки. Эпиктет со своими угрозами, Аристотель с принуждающими истинами, Кант и Гегель с их императивами и гипнотизирующими практическими разумами страшны лишь тем, кто судорожно цепляется за ?????? (удовольствие), хотя бы за то удовольствие, которое дается «созерцанием» и называется высоким именем acquiescentia in se ipso. Жало смерти не щадит ничего: нужно овладеть им, чтобы направить его против самой ’??????. И когда ’?????? будет свалена, вместе с ней упадут и те истины, которые ею держались и ей служили. По ту сторону разума и познания ????????? ???? ??? ???????, там, где кончается принуждение, скованный Парменид (?????????? ????????), причастившись Тайне вечно сущего и вечно повелевающего (???? ?????? ?????????), обретет вновь изначальную свободу и заговорит не нудимый истиной (????????????? ???’??????? ???? ?????????), а как власть имеющий (????? ????????? ?????). Это первозданное ???? ?????? ????????? (ничем не ограниченное соизволение), не вмешивающееся ни в какое «знание», есть тот единственный источник, из которого можно зачерпнуть метафизическую истину: да исполнится обетование – ?????? ??????????? ????? (не будет для вас ничего невозможного)!
Вторая часть
В фаларийском быке
(Знание и свобода воли)
Beatitude non est proemium virtutis, sed ipsa virtus.
Блаженство не есть награда за добродетель, а сама добродетель.
Spinoza. Eth. V, 42
Eritis sicut Dei, scientes bonum et malum.
Будете, как боги, знающие добро и зло.
Gen. III, 5
I
В предисловии к своей «Феноменологии Духа» Гегель пишет: «Die Philosophie aber muss sich h?ten erbaulich sein zu wollen» (философия, однако, должна избегать назидательности). Он, как это сплошь и рядом с ним случается, повторяет в этих словах только Спинозу, утверждавшего, что он считает свою философию не лучшей, а истинной; и кажется, на первый взгляд, что это сказано, что называется, от всей души. На самом деле Гегель, повторивший Спинозу, был так же мало правдив в своем утверждении, как Спиноза в своем. Еще до Сократа, но в особенности после Сократа не было ни одного значительного философа, который бы не наставлял и не поучал своих читателей и слушателей. И те, которые особенно настойчиво назидали и поучали, большей частью так же наивно, как и Гегель, были убеждены, что их задача сводилась исключительно к тому, чтоб искать истины и только истины. Я даже не думаю, чтоб сам Сократ составлял в этом смысле исключение, хотя, как известно, он нисколько не скрывал, что хочет исправлять людей. Он только ухитрился так сплести знание с назиданием, что, когда он поучал, казалось, что он разыскивает истину, и, наоборот, когда он разыскивал истину, он на самом деле поучал. Сократу принадлежит честь и заслуга создания того, что впоследствии стало называться автономной этикой, но тоже вполне справедливо, что Сократ положил начало научному познанию. Он впервые противупоставил «хорошее» – «доброму» и «дурное» – «злому». Но и он же учил, что добродетель есть знание и что знающий человек не может не быть добродетельным. Но с Сократа же стало обычным явлением в философии то загадочное ????????? ???? ????? ????? (скачок в другую область), которое возможно при противупоставлении «хорошего и дурного» «доброму и злому». Сплошь и рядом человек начинает говорить о дурном и без всяких усилий и без умысла, незаметно для себя и других, переводит речь на злое или тоже, совершенно непринужденно, точно этому так и быть полагается, подменяет хорошее добрым или доброе хорошим…
В приведенных словах Гегеля, как и в словах Спинозы, кроется великая загадка, которая стоит того, чтоб над ней задуматься. Какого бы философского вопроса мы ни коснулись, мы повсюду увидим явственные следы того смешения понятий, которое открыто допускал Сократ, отождествляя знание с добродетелью, и которого последующие философы, не разделяющие основной предпосылки сократовского мышления, все же не могут и даже, пожалуй, не хотят избегнуть. Похоже, что такое смешение понятий является articulus stantis et cademis philosophiae (тот пункт, от которого зависит, быть или не быть философии), что философия потеряет свою raison d’?tre, если она откажется от этой подмены или – это, пожалуй, еще страшнее – признается, что только этой подменой она и живет. Утверждать, вслед за Сократом, что знание и добродетель одно и то же, никто не решится. Самому глупому человеку доподлинно известно, что можно быть знающим и в то же время порочным, равно как невежественным и вместе с тем святым. Но как же случилось, что от Сократа было скрыто то, что открыто обыкновенному здравому смыслу? Никому неохота спрашивать. И еще менее охотно останавливаются над вопросом, может ли философия продолжать свое существование, если точно правы глупые люди, постигшие, что знание не есть добродетель, и не прав мудрейший из людей, провозгласивший, что знание и добродетель одно и то же.
Принято думать, что немецкий идеализм в лице Канта и его преемников, Фихте, Шеллинга и Гегеля, есть преодоление спинозизма. В этом суждении истории правильно только, что и в самом деле немецкие идеалисты, даже те из них, которые, как Фихте и Шеллинг, могли бы назвать Спинозу своей первой философской любовью, к концу своего жизненного пути всячески старались отмежеваться от Спинозы. Спинозу уважали, но его чуждались и боялись. Лейбниц спорил с Локком почтительно и дружески, в его же возражениях Спинозе чувствуется холодная вражда: он бы не хотел, чтобы его смешивали со Спинозой. И у Канта, когда ему случается заговорить о Спинозе, слышится в тоне недоброжелательность. Фихте же, Шеллинг и Гегель держатся так, как если бы они оставили Спинозу далеко позади себя и навсегда его преодолели. На самом деле философское движение в Германии свидетельствует обратное. Дальше других от Спинозы точно был Кант. Но как раз то, что Канта наиболее отличало от Спинозы, было подвергнуто самой беспощадной критике в послекантовской философии. Каждый новый шаг вперед немецкого идеализма был возвратом к спинозизму, и в гегелевской «Философии духа» мы вправе видеть, если не по форме, то по содержанию, restitutio in integrum (восстановление первоначального состояния) спинозизма. Гегель утверждал, что философия не должна быть назидательной. Спиноза говорил, что ищет не лучшей, а истинной философии. Сократ учил, что знание и добродетель есть одно и то же, или в других только словах формулировал эту мысль: с добрым человеком не может приключиться ничего дурного, с дурным ничего хорошего. Как будто Спиноза и Гегель исходили из положений, прямо противоположных сократовским. Спиноза в «Этике» писал: повседневный опыт показывает нам, что удачи (т. е. хорошее) и неудачи (т. е. плохое) равно выпадают на долю благочестивых и нечестивых. Нечего и говорить, что Гегель, в этом отношении, целиком был на стороне Спинозы. В религиозной философии своей он утверждал, что чудо, как разрыв естественных связей явлений, было бы насилием над духом. Слова другие, но смысл еще более, если можно так выразиться, спинозовский. Спиноза ссылается на повседневный опыт: повседневный опыт убеждает его, что удачи и неудачи равно выпадают на долю хороших и дурных людей. Такое познание, как и всякое опытное познание, не есть высшее, настоящее познание, tertium genus cognitionis, cognitio intuitiva (третий род познания, интуитивное познание) – то, которое ищет философия. Гегель даже не ссылается на опыт. Он знает, что знает, до всякого опыта, опыт ему не нужен; ему нужно, как Спинозе, tertium genus cognitionis, и он не просто описывает факт, он находит для него основание в самом строе бытия. Если бы удачи выпадали только на долю благочестивых, а неудачи – на долю нечестивых, это было бы чудом, а чудо есть насилие над духом, и, стало быть, так как дух не терпит над собой насилия, то добродетель, выражаясь словами Сократа, сама по себе, а знание само по себе. Таков смысл слов Спинозы, таков же смысл слов Гегеля.
И все же и Спиноза, и Гегель в своей философии шли по проложенному Сократом пути. Во всем, что они писали, они упорно проводили мысль, что добродетель и знание есть одно и то же, что с дурным человеком никогда не может случиться ничего хорошего, а с хорошим ничего дурного, и их философия не только не могла и не хотела уберечься от назидания, но в назидании видела свою главную, можно сказать, единственную задачу. Свои размышления о Боге и духе, изложенные в первой и второй части «Этики», Спиноза вдохновенно заканчивает следующими словами: «quantum hujus doctrinae cognitio ad usum vitae conferat… I) quatenus docet nos ex solo Dei nutu agere, divinaeque naturae esse participes, et eo magis, quo perfectiores actiones agimus, et quo magis magisque Deum intelligimus… Haec ergo doctrina… nos docet, in quo nostra summa felicitas sive beatitudo consistit, nempe in sola Dei cognitione… II) quatenus docet, quomodo circa res fortunae, sive quae in nostra potestate non sum… nos gerere debeamus; nempe utramque fortunae faciem aequo animo expectare et ferre» (Eth. II, 49, Anm. – насколько познание этого учения содействует пользе жизни… I) поскольку оно учит нас действовать только по соизволению Божьему и быть участниками Божественной природы в тем большей степени, чем мы более совершенные действия совершаем и чем более и более мы Бога понимаем… Поэтому эта доктрина нас учит, что наше высшее счастье или блаженство состоит исключительно в познании Бога… II) поскольку оно учит, как мы должны вести себя по отношению к сложившейся судьбе или к тому, что не в нашей власти, вплоть до того, чтобы с одинаковым душевным спокойствием принимать и носить удачи и неудачи). Гегель, в свой черед, не отстает от Спинозы. Защищая, против Канта, онтологическое доказательство бытия Божия, он в своей «Логике» пишет: «der Mensch sich zu dieser Allgemeinheit in seiner Gesinnung erheben soll, in welcher es ihm in der Tat gleichg?ltich sei… ob er set oder nicht sei d.i. im endlichen Leben sei oder nicht sei u.s.w., selbst si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae – wie ein R?mer gesagt und der Christ soil sich noch mehr in dieser Gleichg?ltigkeit befinden» (человек должен подняться в своем образе мыслей до той всеобщности, когда ему на самом деле безразлично… существует ли он или нет, т. е. существует ли он или нет в конечной жизни, так что даже, «если обрушился свод небесный, ты должен оставаться бесстрашным», как сказал один римлянин; а христианин должен еще больше укрепиться в этом безразличии). Попробуйте отнять у Спинозы его docet и основанное на них quomodo nos gerere debeamus, что останется от его философии? Или во что превратится онтологическое доказательство бытия Божия, если человек не согласится sich in dieser Allgemeinheit zu erheben, in welcher es ihm in der Tat gleichgultig sei, ob er sei oder nicht sei, как переводит на свой язык Гегель спинозовское внушение «debeamus aequo animo utramque faciem fortunae expectare et ferre» (мы должны равнодушно ждать и выносить, что бы ни приносила нам судьба)?
II
В Гегеле и его последователях особенное раздражение вызывала кантовская «Критика практического разума», и как раз потому, что в ней они находили maximum того назидания, о котором у нас шла речь. Как известно, «Критика практического разума» вся построена на идее чистого долга, того, что Кант называет «категорическим императивом». Правда, Гегелю вообще мысль о «критике разума» – не только практического, но и теоретического – представлялась невыносимой. Он считал, что критиковать разум значит совершать смертный грех против философии. Он всячески издевался над кантовскими «Критиками» и не раз сравнивал Канта со схоластиком, который, прежде чем войти в воду, хочет знать, как плавать. Остроумие часто сходит за возражение, и гегелевская насмешка сделала свое дело. Но гегелевское сравнение все же «хромает на обе ноги» и никуда не годится. Разве Кант прежде спросил себя, как нужно философствовать, и только потом, когда получил ответ на свой вопрос, стал подходить к философским проблемам? «Критика чистого разума» была закончена Кантом на 57-м году его жизни, после того, когда он много лет подряд философствовал, не ставя себе вопроса о том, годятся ли те приемы разыскания истины, которыми он и все другие люди обычно пользовались в области положительных наук, для разрешения проблем метафизики. И только на шестом десятке – не то под влиянием юмовского «скептицизма», не то пораженный тем, что на окраинах мышления он наткнулся на свои прославленные антиномии, – Кант, как он сам рассказывает, проснулся от догматической дремоты и у него возникли те сомнения, которые и привели его к «критике» разума: что если методы разыскания истины, выработанные положительными науками и дающие всех удовлетворяющие результаты, к метафизическим проблемам не применимы? Трудно допустить, чтоб сам Гегель не понимал, как мало напоминал Кант глупого схоластика. По-видимому, он просто не умел возразить Канту и вместе с тем сознавал, что если бы «критика» разума была осуществлена, то она подорвала бы самые основания, на которых покоится человеческая мысль. Что такая тревога не совсем была чужда Гегелю, в этом нас убеждают его собственные размышления – тоже из «Феноменологии Духа» – «Inzwischen, wenn die Besorgnis in Irrturn zu gehen, ein Misstrauen in die Wissenschaft setzt, welche ohne dergleichen Bedenklichkeiten ins Werk selbst geht und wirklich erkennt, so ist nicht abzusehen, warurn nicht umgekehrt ein Misstrauen in dies Misstrauen gesetzt und besorgt werden soll, dass diese Furcht zu irren schon der Irrthum selbst ist» (между тем если боязнь впасть в ошибку полагает недоверие к науке, которая сама без такого рода сомнений приступает к своему делу и действительно познает, то непонятно, почему, наоборот, не противупоставить недоверие недоверию, допуская, что эта боязнь уже представляет собой заблуждение). Недоверие и недоверие к недоверию: разве в философии может быть место такой борьбе между недовериями? Кант и без Гегеля знал и достаточно говорил в своей книге, что положительные науки в критике разума не нуждаются и спокойно занимаются своим делом, нимало не озабоченные сомнениями и опасениями философов, и что от них дальше всего мысль о возможности недоверия к их задачам. Но не в этом суть и значение приведенного замечания Гегеля. Главное, что пред Гегелем мелькнула мысль о том, что познанию можно довериться, а можно и не довериться. Он, правда, сейчас же гонит ее от себя, ссылаясь на то, что «was sich Furcht vor dem Irrthum nennt, sich eher als Furchtvor der Wahrheit zu erkennen ist» (что называется боязнью ошибки, познается скорей как боязнь перед истиной). Но вряд ли это соображение может заставить читателя позабыть, что и самого Гегеля временами посещала тревога о том, что познанию можно доверять, а можно и не доверять и что недоверию к познанию нельзя противуставить ничего другого, кроме недоверия к недоверию. Мысль – для того, кто хочет видеть в научном познании философский идеал, – поистине потрясающая. Выходит, что познание, в последнем счете, держится на доверии к нему, и человеку предоставляется самому решать, самому свободно выбирать – заслуживает ли знание доверия или не заслуживает. Что делать с такой свободой? И даже если бы оказалось, что в этом случае страх пред ошибкой есть страх пред познанием, дело этим нисколько не упрощается: раз познание внушает страх, может статься, что в нем и точно есть что-то страшное, от чего человеку следует всеми силами оберегаться. Страх пред познанием такая же тяжкая проблема, как и недоверие к познанию. И, конечно, философ не может и шагу сделать вперед, прежде чем он не преодолеет так или иначе свое недоверие и свои страхи. Пока он наивно разыскивал истину, не подозревая того, что в самих приемах разыскивания может быть порок, который отнимает у человека возможность узнать истину, даже если она и встретится на его пути, пока он был столь же наивно убежден, что познание благодетельно для людей, – он мог спокойно предаваться своему делу. Ему казалось, что всякое возможное доверие только на знании и покоится и что знание одно разгоняет страхи. И вдруг оказывается, что знание само на себя опираться не может, оно требует еще доверия к себе и не только не разгоняет, но вызывает страх. Если бы Гегель решился углубить эту мысль, он, может быть, убедился бы, что грех Канта состоял не в том, что он позволил себе критиковать разум, а в том, что, пообещавши дать критику разума, он никогда свое обещание не решался привести в исполнение. Спиноза писал: «quam aram раrabit sibi qui majestatem rationis laedit» (какой алтарь готовит себе человек, оскорбивший величество разума). Кант мог бы взять эти слова эпиграфом к своей «критике». И в самом деле, критиковать разум – разве это не значит посягнуть на его суверенные права, т. е. совершить преступное laesio majestatis? Кто вправе критиковать разум? Где то «величество», которое дерзает поставить разум на свое место, т. е. лишить его скипетра и державы? Кант, правда, утверждал, что он ограничил права разума, чтоб открыть путь вере. Но вера Канта была верой в пределах разума, т. е. самим разумом, только переменившим имя. Так что, если угодно, Гегель, говоря о недоверии к недоверию, был радикальнее Канта и смелей его. Но, конечно, только на словах. На деле же он никогда не имел ни смелости, ни охоты остановиться и спросить себя, отчего и откуда у него такое доверие к разуму и познанию. Он не раз близко подходил к этому вопросу, но никогда долго на нем не задерживался. И так странно! Гегель не ценил Библии: Нового Завета он не любил, а Ветхий просто презирал. И все же, когда пред ним предстал основной и труднейший философский вопрос, он, забыв все, что ему приходилось говорить о Св. Писании, ищет опоры в рассказе книги Бытия о грехопадении. Он пишет: «In anderer Gestalt findet sich dies in der alten Erz?hlung vom S?ndenfall, die Schlange hat den Menschen danach nicht betrogen; denn Gott sagt: „Siehe. Adam ist worden wie unser einer, er weiss, wass Gut und B?se ist“» (Werke, XIII, 124. – В другом виде это находится в древнем рассказе о грехопадении: змей, по рассказу, не обманул человека; ибо Бог говорил: «Вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло»). И еще раз в той же истории философии, в размышлениях о судьбе Сократа мы читаем: «Die Frucht des Baums der Erkenntnis des Guten und B?sen, der Erkenntnis, das ist der Vernunft aus sich – das allgemeine Prinzip der Philosophie f?r alle folgenden Zeiten» (Werke. XIV, 49. – Плод дерева познания добра и зла, то есть познания черпающего из себя разума – общий принцип философии для всех будущих времен). Не Гегель так думает – мы все убеждены, что змей, соблазнивший нашего праотца вкусить от плодов дерева познания добра и зла, не обманул его и что обманщиком был Бог, запретивший Адаму есть эти плоды из опасения, как бы он сам не стал Богом. Пристало ли Гегелю ссылаться на Св. Писание – дело иное. Гегелю все сходило, и его последователи, возмущавшиеся Спинозой за его безбожие (или пантеизм), благоговейно прислушивались к речам Гегеля и в его философии видели чуть ли не единственно возможную апологию христианства. А между тем и на этот раз, как всегда, Гегель только повторяет Спинозу с той лишь разницей, что Спиноза мужественно и открыто заявляет, что истины в Библии нет и что источником истины является лишь разум, а Гегель говорил об откровении в то время, когда в «споре» Бога со змеем брал сторону последнего. Нет никакого сомнения, что, если бы вопрос об истине был предложен в такой форме Спинозе, он вполне бы одобрил Гегеля. Раз приходится выбирать, за кем идти: за Богом, предостерегающим против плодов с дерева познания добра и зла, или за змеем, эти плоды восхваляющим, человек европейской культуры не может колебаться: он пойдет за змеем. Повседневный опыт убедил нас, что люди знающие имеют все преимущества пред незнающими, и, стало быть, обманывает тот, кто старается скомпрометировать в наших глазах знание, а правду говорит тот, кто знание возвеличивает. Конечно, как я уже говорил, по учению Спинозы, равно как и по учению следовавшего за ним Гегеля, опыт не дает совершенного знания – tertium genus cognitionis. И, стало быть, и здесь, когда приходится выбирать между Богом и змеем, получается то же, что получилось, когда приходилось выбирать между недоверием к знанию и недоверием к недоверию. В трудную минуту разум отказывает нам в водительстве, и приходится решать за свой собственный страх, без всякой гарантии, что последствия оправдают принятые нами решения.
III
Знаю, конечно, что не только Спиноза и Гегель, но даже Кант никогда не согласились бы допустить, что разум может отказать человеку в водительстве. «Разум жадно ищет всеобщих и необходимых суждений» – так пишет он в самом начале своей «Критики чистого разума» (первое издание). И ни разу, на всем протяжении своего огромного трактата, он не ставит себе вопроса: почему такое мы должны хлопотать, чтоб добыть разуму то, чего ему так хочется? И кто такой или что такое этот жадный разум, которому дана столь неограниченная власть над человеком? Как будто бы уже одно то обстоятельство, что разум способен проявлять жадность, т. е. одержим страстями, как и самое обыкновенное конечное существо, не должно было бы заставить нас насторожиться и вселить в нас недоверие и к нему самому, и к тем всеобщим и необходимым суждениям, за которыми он гонится. Но, повторяю, даже у автора «Критики чистого разума» разум стоит вне всяких подозрений. Такова уже традиция нашего мышления: недоверие к разуму всегда рассматривалось как laesio majestatis разума. Платон учил, что величайшая беда для человека стать ?????????’ом (ненавистником разума). Для Аристотеля – ??????? ??? ??? ??????????? ??????, ??? ???????? ???? ?????? ?? ??????????, т. е. знание есть знание всеобщее и необходимое. После Сократа мы окончательно и навсегда поставили крест над проблематикой познания – и, таким образом, над всякой метафизической проблематикой. Сущность и задача сократовского мышления именно в том и состояла, чтоб охранить познание от всяких попыток критики. И как раз в том его положении, которое, на первый взгляд, является условием и началом всякой критики, в его утверждении, что он знает, что ничего не знает (за это, по свидетельству самого Сократа, хитрый оракул назвал его мудрейшим из людей), убивается в самом зародыше возможность всякой критики. Ведь только тот скажет о себе, что он знает, что ничего не знает, кто непоколебимо убежден, что знание есть единственный источник истины. Недаром Гегель, говоря о судьбе Сократа, вспомнил о дереве познания добра и зла и о словах искусителя: eritis sicut dei (будете, как боги). Только вкусивший от плодов дерева познания добра и зла может так беззаветно отдаться во власть чар знания. Для Сократа пренебрежение к знанию было смертным грехом. Он упрекал, высмеивая, поэтов за то, что они идут за истиной не к знанию, а к какому-то иному источнику. Он не находил достаточно резких слов, чтоб осудить тех, кто, не зная, думает, что он обладает знанием. Откуда эта непоколебимая уверенность, что только знание несет человеку истину? И что обозначает эта уверенность, которая от Сократа наследственно перешла ко всем мыслящим людям? Соблазнил Сократа оракул, как некогда соблазнил Адама библейский змей? Или соблазн таился в чем ином, и Пифия, как Ева, только дала вкусить Сократу плоды, которые она отведала под влиянием скрытого от нашей проницательности начала?
Так или иначе, после Сократа лучшие представители мыслящего человечества не могут не отождествлять истины с плодами от дерева познания добра и зла. В этом смысл платоновского предостережения против «ненавистника разума», в этом сущность аристотелевских ??????? («всеобщность») и ??? ???????? («по необходимости»), декартовских de omnibus dubitandum и cogito ergo sum («о всем нужно усумниться» и «мыслю, значит, существую»), спинозовского verum est index sui et falsi (истинное есть указатель его самого и ложного): оттого и Кант открывает свою «критику» признанием, что разум жадно ищет всеобщих и необходимых суждений. Все это наследство Сократа. После Сократа истина для людей слилась со всеобщими и необходимыми суждениями. Все убеждены, что мысль до тех пор не вправе остановиться, пока она не наткнется на необходимость, полагающую конец всякой пытливости и всяким дальнейшим исканиям. И вместе с тем никто не сомневается, что мысль, добравшись до необходимых связей явлений, этим самым осуществляет последнюю и высшую задачу философии. Так что Гегель был, пожалуй, не так далек от истины, когда доказывал, что нет философий, а есть философия, что все философы всех времен одинаково понимали возложенную на них судьбою миссию. Все стремились отыскать строгий и неизменный порядок бытия, ибо все, даже те, кто, как Сократ, знали, что они ничего не знают, были совершенно загипнотизированы мыслью, что такого ни от кого не зависящего порядка не может не быть, равно как не может не быть знания, открывающего человеку этот порядок. Сократ, правда, утверждал, что совершенное знание свойственно только Богу, что знание человека есть знание неполное. Но этим он не только не ослаблял, но скорей еще больше возвеличивал знание. Ибо это значило, что и свобода богов не безгранична: знание и ей кладет предел, указывая границы не только возможного и невозможного, но даже дозволенного и недозволенного. В замечательном диалоге «Эвтифрон», написанном Платоном еще при жизни учителя, Сократ доказывает, что и богам не дано выбирать: они не вольны не любить святое, как не вольны не любить его смертные. Над смертными и бессмертными равно стоит необходимость и долженствование. Поэтому философия имеет своей задачей, открывая необходимые связи явлений, т. е. добывая знание, внушать людям убеждение, что с необходимостью спорить нельзя, а что ей нужно повиноваться. Конечно, и положительные науки устанавливают необходимые связи явлений и тоже приучают людей к повиновению. Но философия этим не удовлетворяется. Ей мало того, что люди принимают необходимое и мирятся с ним. Она хочет добиться, чтоб люди любили необходимость и чтили ее, как они когда-то любили и чтили богов. Возможно, что коренное различие между Сократом и софистами, которое заботливая история так тщательно от нас скрывала, в том именно и состояло, что когда грекам второй половины пятого столетия открылось, что олимпийские боги есть измышление человеческой фантазии и что всякого рода «принуждения» исходят не от живых существ, принимающих близко к сердцу судьбы подвластных им людей, а от равнодушной и ко всему безразличной необходимости, софисты, как впоследствии ап. Павел, реагировали на это резким протестом: раз принуждение исходит не от богов, а от необходимости, то, стало быть, нет ничего истинного и все позволено. Смысл протагоровского ?????? ???????? ?????? ????????? (человек есть мера всех вещей), по-видимому, тот же, что и смысл павловского: если мертвые не воскресают, будем есть и пить (1 Кор. XV, 32), словом, делать что взбредет в голову и жить как захочется. Сократ, как и софисты, не допускал существования богов. Оно и естественно: кто боится стать «ненавистником разума», кто в знании видит единственный источник истины, тот ни за что не согласится признать богов. Сократ сам, с наивностью, быть может, и очень подкупающей, но вряд ли приличествующей философу, который хочет все испытать, все допросить, презрительно отвернулся от художников, поэтов и т. д. только потому, что, хотя иной раз им и случается открывать высокие истины, они получают их не через знание, а каким-то иным способом, о котором они не умеют сказать, как они на него набрели.
«Вдохновенным богами» людям Сократ не доверяет – да и как можно доверять им, раз известно, что богов нет? Или, если признать позднейшее толкование Гегеля, – раз Бог обманывает человека, как он и сам в этом признался, когда умный змей, проникнув в его тайные намерения, обличил его перед первыми людьми? Во всяком случае, если уж быть крайне осторожным, нужно держаться Протагора: ????? ???? ????? ???? ???? ???????? ????’??? ??????? ????’??? ???? ??????? (о богах я не знаю, существуют ли они или не существуют). Сократ, даже перед своими судьями, которым предстояло разрешить, правильно ли Анит и Мелит обвинили его в непризнании богов, сказал то же, что говорил Протагор. Только, т. к. у него речь шла не о богах, а о бессмертии души, то многим до сих пор кажется, что Сократ думал иначе, чем Протагор. На самом деле оба исходили из одной мысли, но реагировали на нее одинаково, по-видимому, страстно – хотя каждый по-своему. Протагор говорил: если нет богов, если душа не бессмертна, если человеческое существование сводится к той его краткой жизни, которая начинается рождением и кончается смертью, если наше бытие не связано невидимыми нитями с бытием высших, чем мы, существ, если, словом, все, что в этом мире начинается, в этом мире и кончается – то что же может связывать и для какой надобности связывать произвол человека? Отчего не дать простора его страстям и желаниям? Силе, конечно, иной раз приходится покориться, поскольку нельзя преодолеть или перехитрить ее. Но покориться – не значит признать за ней высшие и окончательные права. Будем есть, пить, веселиться, выражаясь словами ап. Павла. Сократ отнесся совсем по-иному к открывшейся ему истине. Он, как и Протагор, не сомневался в том, что знанию надлежит разрешить вопрос, есть ли Бог или нет, и тоже, с той интеллектуальной добросовестностью, которая составляла его отличие и в которой и он, и за ним мы видим высшую добродетель философа, должен был признаться, что пред лицом знания равно возможно, что есть боги и душа бессмертна, равно как богов нет и душа смертна.
И, кроме того – он этого не говорил, но, надо полагать, он так думал, – раз знание не может дать положительного ответа на эти вопросы, раз добросовестное исследование приводит и его и Протагора, во всех смыслах так мало друг на друга похожих, к одному заключению – что, может, и есть боги, а может, что их и нет, – значит, дело с богами обстоит плохо: верней всего, что их выдумали. И все же решение, принятое в связи с этим Протагором, – или слова ап. Павла, если бы ему довелось прочесть их, – казалось ему совершенно неприемлемым. Что угодно, только не протагоровское homo – mensura и не Павлово «будем есть, пить и веселиться». Чего мерить человеку, когда все, подлежащее измерению, изменчиво, бренно, преходяще, и какое веселье пойдет на ум, когда ты знаешь, что дни твои сочтены, что сегодня ты жив, а завтра тебя не будет! Задолго до Сократа греческая мысль в лице великих философов и поэтов со страхом и тревогой вглядывалась в зловещее непостоянство скоропреходящего и мучительного нашего существования. Гераклит учил, что все проходит и ничего не остается. Трагики, с напряжением, равного которому мы не встречаем в мировой литературе, рисовали потрясающую картину ужасов земного бытия. Но Гераклит, точно перекликаясь через века с пророком Исаией и повторявшим Исаию ап. Павлом, мог еще утверждать, что боги такое уготовили человеку, о чем он никогда не мечтал и на что никогда не надеялся. Сократу же не дано было так говорить. Мы ничего не знаем о том, что будет с нами после смерти, – а что может быть постыднее, чем говорить о том, чего не знаешь? И Гераклит, и Исаия, и Павел были так же противны зачарованному знанием Сократу, как и прославивший произвол Протагор. Явно, что мудрость библейских людей, равно как и философов вроде Гераклита и Протагора, питалась из самого подозрительного источника… Они были не лучше, чем поэты, в порывах ничем не оправдываемого энтузиазма вещавшие о том, чего они не понимали. Без познания нет ни истины, ни добра. А стало быть, правильно и обратное: познание есть единственный источник всего, что нужно человеку, оно приносит, не может не приносить «единое на потребу». Конечно, неплохо было бы, если бы познание привело нас к богам и открыло бессмертие души. Но если этого не случилось – и так обойдемся. Так понял свою задачу Сократ. Он не хуже Аристотеля видел, что знающий человек может быть порочным. Но ему открылось, что наша жизнь кончается со смертью. А раз так, значит, библейский змей был прав и Пифия тоже была права: добродетель только в знании. Сократ на глазах у всех людей должен был повторить то, что, по древнему, туманному, никем не засвидетельствованному сказанию, сделал наш праотец.