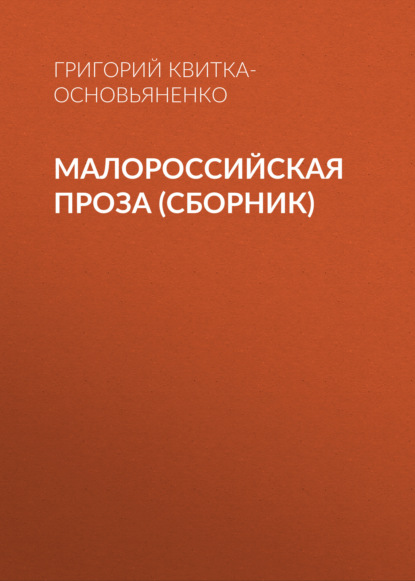По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Малороссийская проза (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сапожник, суди о сапогах, а о портняжестве разбирать не суйся! – то он тотчас язык и прикусит и уже ни чичирк.
Вот и вся! Кажется, эта побрехенька была бы пригодна и для всех, берущих на себя судить о том, чего не понимают вовсе. Гм!
Маруся
Посвящается Анне Григорьевне Квитке[77 - Квитка Анна Григорьевна, урожд. Вульф (1800–1852) – жена писателя. (Прим. Л. Г. Фризмана)]
Часто мне приходит на мысль: для чего бы человеку так сильно привязываться к чему-нибудь, не только к вещи, даже и к милым для нас людям: жене, детям, искренним приятелям и другим? Прежде всего подумаем: разве мы на сем свете вечные? И что есть у нас – скотина ли, хлеб на гумне[78 - Гумно — отгороженное место, куда складывают сжатый хлеб. (Прим. Л. Г. Фризмана)], имущество в сундуках, – разве этому всему так без порчи и быть? Нет, ничто здесь не вечное; да и ты сам что? Сегодня жив, завтра что Бог даст! Ведь живучи с людьми, только и слышишь: там звонят, там плачут, и все по покойнику; там кормят нищих за упокой… Каждый божий день говорят: вот тот-то болен, тот умирает, а тот умер… Ты и не осмотришься, и не опомнишься, как остался сам себе на свете: хотя ты и с людьми, и между людей, да все уже не то! Все они тебе либо не такие приятели, каких похоронил, либо и совсем неизвестны; так оно тебе все равно, что скитаешься в дремучем лесу! Вот начни вспоминать о своих приятелях, так вся твоя песня будет на один лад: вот с тем мы хлопцем были, а он уже умер; с тем в школу вместе ходили, и тот умер; с тем молодечествовали, и тот умер – и этот и тот, и тот и этот, все померли. Когда ж это так, то и помни себе всегда, что не забудут и тебя на этом свете, возьмут, не спрашивая, хочешь ли к прежним товарищам или, может быть, еще бы погулял.
А так думая, для чего бы нам, невечным, привязываться так к временному? Для чего бы не делать так: наградил тебя Бог счастьем, что отец и мать твои живут при тебе и благодарят тебя ласковым словом за то, что ты их при старости и покоишь и уважаешь; или счастлив ты женою доброю, кроткою, попечительною хозяйкою; или детками покорными да послушными, – хвали за все это Бога и утром и вечером, а их почитай, люби, и уважай, и не жалей для них не только никаких трудов, имущества, но, когда нужда велит, душу свою за них положи, всем жертвуй, умри за них… Но все-таки помни, что и они на сем свете такие же гости, как ты и всякой человек, царь ли, пан, архиерей, солдат или пастух. Когда же милосердый наш отец кого-нибудь из нас позовет, провожай с горестию, но без скорби и ропота; перекрестись и скажи, как всякой день в молитве читаешь: «Господи, буди воля Твоя с нами, грешными!» И не вдавайся в сильную печаль, чтобы она тебе не сократила веку, потому что грех смертельный причинять себе не только смерть, но и болезнь, хотя бы и легчайшую; не сберегши тела, можешь погубить и душу на вечные веки! Больше всего помни, что ты хоронишь сегодня, а тебя схоронят завтра и все мы будем вместе у Господа милосердого, в вечной радости, и там не будет уже никакой разлуки и никакое горе, никакая беда там не приключится нам.
Еще же и так мы думаем, что как придется кому из нас по несчастию хоронить кого из своей семьи или родных, так будто это человеку бывает за его грехи и неправды прежние. Нет, не так оно! Вот послушайте, как нам священник в церкви читает, что Господь небесный нам будто отец детям. А после этого не грех нам будет и так уподобить: вот соберутся дети играть на улице, и будут между ними шаловливые, да все б то им вместо игрушек драться да ссориться; а между ними будет дитя смирненькое, тихое, покорное до того, что всяк может его обидеть. Ведь правда, конечно, что отец такого дитяти, чтобы оно не научилось чему худому от своевольных детей, жалея о нем, позовет его от игры к себе; а чтоб оно по товарищах не скучало, посадит подле себя, приголубит, приласкает, и чего оно ни поже лает, все даст ему. Конечно, прочие дети, оставшиеся на улице, не понимая, как хорошо у отца всякому дитяти, будут жалеть о нем; но нужды нет, пусть жалеют, а ему у отца очень, очень хорошо! Вот так и Небесный наш Отец поступает с нами: оберегает нас от всякой беды, и в предохранение от нее, берет нас прямо к себе, где такое добро, такое добро, что ни рассказать, ни даже представить нельзя… Да еще и так подумаем: чувствуешь ты, человече, что эту беду послал тебе Бог за грехи твои, – так тут же и рассуди: какой отец оставит детей вовсе без всякого наставления, чтобы они совсем развратились? Всякий, всякий отец старается научить детей всему доброму; а непослушных по-отцовски накажет да по-отцовски же и помилует. Недаром сказано: негодное то дитя, которого отец не наказывал! Это люди с своими детьми так поступают. А то Отец Небесный, коего милосердию нет меры и пределов! Когда он и пошлет за грехи наши какую беду, то он же и помилует! Только покоряйся ему! После сего не будем же скорбеть, что нам Бог милосердый ни пошлет терпеть и, перекрестившись, при беде скажем: «Господи! Научи меня, грешного, как исполнять волю Твою святую!» Тогда увидим, что нам будет все легко переносить и во всем будет покойно.
Та к поступал Наум Дрот.
Вот его постигла злая беда. Что же он? Ничего. Хвалил Бога и прожил век, не вдавшися в отчаяние; а грамотный не выдержал…
Вот как это было.
Наум Дрот во всем селе, где жил, был лучший парень. Отцу и матери послушен, к старшим себя почтителен, с ровными дружен, ни полслова никогда не сказал несправедливого, горелки не напивался и пьяниц не терпел, с бездельниками не знался; к церкви же, так хоть будь и не великий праздник, лишь только услышит колокол, он уже и там, свечу выменил, нищим денег подает и принимается за свое дело. Когда прослышит о ком бедном, наделит по своей силе или добрый совет даст. За его правду не оставил же его Бог милосердый. Что бы ни задумал, все ему Господь и посылал: наградил его женою доброю, трудолюбивою, хозяйкою, скромною; и чего было Наум ни пожелает, что ни задумает, Настя (так ее звали) ночи не спит, везде старается, хлопочет, промышляет, достает и всего сделает и всего достанет, чего мужу хотелося. Уважал же и он ее, сколько мог, и любил, как свою душу. Не было между ними не только драки, как водится в их быту, но даже ни малейшей ссоры. Ежедневно славили Бога за его милости.
Об одном только они тужили: не по сылал им Бог детей. Так что же? Настя как вздумает про это, так тотчас в слезы и плачет; а Наум перекрестится, прочитает «Отче наш», станет ему на сердце веселее, и пошел за своим делом: или в поле, или на гумно, к скотине, к батракам, потому что был достаточен: было волов пар пятнадцать, была и лошадь, были и батраки; было чем барщину отбывать и в дорогу фуру посылать; было и поле, доставше еся еще от деда, а то и он еще прикупил; так было ему над чем управлять.
Вот потому-то Настя, глядя на свое имущество, и тужила, что кому-то оно, говорит, достанется? Не будет нам ни славы, ни памяти, кто нас похоронит, кто нас помянет? Что мы собрали, растратят, а нам и спасибо не скажут. А Наум ей, бывало, и говорит:
– Человеку должно трудиться по самую смерть. Даст Бог детей – детям останется, а не даст – его воля святая! Он знает, для чего что делается. Ничто не наше, все Божье. Достанется наше имущество доброму, он за нас и на часточку в церковь подаст, за упокой помянет и нищим что раздаст. А когда унаследует недобрый, ему грех будет, а нас все-таки милосердый Бог помянет, сколько мы, здесь живя, заслужим. Не тужи, Настя, об имуществе: оно наше, а не мы его. Берегись, чтобы оно не пресекло тебе пути к Царству Небесному. Сатана знает, чем смутить; молись Богу, читай: избави нас от лукавого – то и все хорошо будет.
Как вот, родительскими об них молитвами, дал им Бог и дочечку. Да и рады же были оба, и Наум и Настя! Таки с рук ее не спускали. Когда же было дитя куда побежит, к соседям или на улицу, то уже кто-нибудь из них, отец или мать, так следом за нею и идет. Да и что-то за дитя было! Еще маленькая была, а умела и «Отче наш», и «Богородицу», и «Святый Боже», и половину «Верую». А только было что услышит колокол, то уже не зарезвится, не засидится дома, а тотчас говорит:
– Мама! Пойду к церкви, слышишь, звонят, грех не идти. Тату[79 - Тату — принятое на Украине обращение к отцу. (Прим. Л. Г. Фризмана)]! Дайте грошик на свечечку, а другой старцу божьему подать.
И в церкви уже не зашалит, ни с кем не заговорит, а все молится и поклоны кладет.
Вот и выросла им на утеху. Да что же за девка была! Высокая, пряменькая, как стрелочка, черноволосая, глазки, как терновые ягодки, черные брови, как на шнурочку, личиком румяная, как роза, что в панских садах цветет, носик себе пряменький с небольшим горбиком, а губки, как цветочки расцветают, и между ними зубки, точно как жерновки, как одна, на ниточке снизаны; когда было заговорит, то так пристойно, разумно, как будто флейточка заиграет нежно, что только бы ее и слушал; а как улыбнется, да поведет глазками, а сама покраснеет, так вот точно, как будто шелковым платком оботрет запекшиеся уста. Косы у нее, как смоль черные, да длинные, даже за колено; в праздник, или хоть и в воскресенье, так мило их уберет самыми дробными косичками, сама переплетет, да сверх лент на голове положит их венком, да уберет цветами и концы у лент длинно распустит. Всю грудь так и унижет настоящим намистом, перенизанным червонцами, так что ниток двадцать будет, коли еще не больше; а на шее… да и шея же беленькая, беленькая, вот как будто из мелу выстругана. Поверх такой-то шеи, на черной бархатке, широкой, так что будет пальца в два, золотой дукат с кольцом, и в нем вправлен красной камушек, так-так и сияет! Да как вырядится в байковый красный корсет, застегнется под самую душу, чтоб ничего не было видно, что непристойно… уже не так же, как городские девки, что переняли у паней. Цур им! Согрешишь только, глядя на таких.
Не так было у нашей Маруси, Наумовой да Настиной дочери, вот про которую я рассказываю. А ее, знаете, звали Марусею. Что было, то и было; так Бог дал. Рубашка на ней всегда беленькая, тоненькая, сама пряла и пышные рукава сама вышивала красными нитками. Плахта (род юбки) на ней картатская, полосатая, еще материнская приданая, теперь уже таких и не делают; и каких-то цветов на ней не было, батенька мой, да и полно! Запаска (передник) шелковая, моревая; каламенковый[80 - Каламайковая (каламенковая) – сделанная из каламенка – пеньковой или льняной ткани. (Прим. Л. Г. Фризмана)] пояс; да как подпояшется, так так рукою и охватишь, еще же то не очень и стянется. Платочек у пояса выстрочен и с вышитыми орлами; подол из-под плахты тоже выстрочен и с кисточками; чулочки синие, суконные и красные башмачки. Вот такая, как выйдет, так что твоя панночка! Идет, как пава, не очень-то по сторонам разглядывает, а только смотрит под ноги. Когда повстречается с кем старше себя, тотчас низко поклонится, да и скажет: «Здравствуй, дядюшка!» или «Здоровы, титусю[81 - Титусю — нежное обращение к тете на Украине (тетенька, тетушка). (Прим. Л. Г. Фризмана)]!» И таки, хотя бы то малое дитя было, уже не пройдет просто, всякому поклонится и ласково заговорит. А чтоб какой парубок да посмел бы ее затрогать? Ну, ну! Не знаю! Она не станет бранить и слова не скажет, а только посмотрит на него так пристально, с сожалением и с каким-то гневом, – кто ее знает, как она там взглянет, – то хоть бы какой был, так тотчас с головы шапку схватит, поклонится учтиво, ни слова с уст не выпустит и отойдет далее. О! На все село была и красивая, и разумная, и богатая, и учтивая, да еще к тому же тихая и скромная и ко всякому почтительна.
Вечером на улице и не говори, чтобы когда с подругами вышла. Мать было станет ей говорить:
– Пошла бы ты, дочка, на улицу, видишь, теперь весна, она раз красна! Поиграла б с подруженьками у хрещика (в горелки), песенок бы попела.
Так где уж!
– Лучше я, – говорит, – на то место, управившись, да лягу спать, и за то раньше встану; заменю твою старость, обедать наварю и батьке в поле отнесу. А на улице что я забыла? Игры да шалости. А там смотри, случится, хотя и не со мною, хотя и с кем-нибудь какая причина, да после и страшно отвечать за то одно, что и я там была. Нехай им выяснится, не пойду!
А про вечерницы так и не вспоминай! Было и других девок отводит, да даже плачет, да просит:
– Будьте, ласкавы, сестрички, голубочки! Не ходите на это проклятое сборище! Да там нет никакого добра, там все злое, лихое! Собираются будто прясть, да вместо того шалят, играют, да выучиваются горелку пить, от матерей кур крадут, да туда и приносят; да еще такое там делается, что стыдно и подумать. Мало ли же своей славы потеряли, ходя в это нечистое место. Вот хотя бы и Явдоха, и Кулина, и Приська. Ведь же и священник не велит и говорит, что грех смертельный туда ходитъ. Да смотрите же на меня: вот я дома напряду больше всех вас, чем вы, ходя на вечерницы прясть.
Вот так было говорит, говорит, то и смотри: одна послушает ее, перестанет ходить; далее другая, третья… а потом и совсем перестанет мода туда ходить. То и благодарят Марусю добрые люди, а наибольше матери. А там после нечистый таки опять силу возьмет; взманит опять ходить и потянет целую вереницу к погибели.
Только было наша Маруся когда-то да когда соберется к подруженьке на свадьбу в дружки. Да и то не будет она в субботу бегать с ними по улице да горло драть, словно бешеная, как прочие делают. Придет уже в воскресенье, посидит, пообедает; а как выведут на двор молодых танцевать, она тут побудет или не побудет, скорее домой. Разделась, давай печь топить, ужин приготовлять, и уже мать за нею было никогда не успеет.
Вот раз, на Зеленой неделе[82 - Зеленая неделя — церковный праздник Вознесения. (Прим. Л. Г. Фризмана)], была Маруся у своей подруги в дружках на свадьбе и сидела за столом. Против дружек, как обыкновенно, сидели бояре[83 - Дружками называются девушки, приглашенные невестою быть на свадьбе, и, сидя за столом, петь положенные песни. Накануне свадьбы невеста к каждой дружке идет сама в сопровождении прежде приглашенных; идучи по улице, они во весь голос поют приличные песни. Бояре же – холостые парни, препровождающие жениха к невесте в день свадьбы. Перевод. (Прим. автора.)]. Старшим боярином был парень из города, портной Василь, хлопец славный, белокурый, чисто подбритый, чуб опрятный, усы казацкие, глаза веселые, как звездочки, лицом румяный, проворный, живой, учтивый; жупан на нем синий и китайчатый чекмень[84 - Чекмень — верхняя мужская одежда в переходной форме между халатом и кафтаном. (Прим. Л. Г. Фризмана)]; поясом из английской каламенки подпоясан; в тяжинных шароварах; сапоги славные с подковами. Как пришивали боярам к шапкам цветы, то все прочие клали по грошу, кто-кто два, да и лакей с господского двора, и тот пять грошей на удивление всем положил. А Василь все выжидал, да все в кармане что-то доставал, а после, вытянув мешочек, а там-таки кое-что звенело, всунул пальцы, достал, да и положил на выкуп шапки за цветок… целехонький гривенник! Как выкинул его, так все, кто ни был на свадьбе, все так и удивились, а дружки даже и петь перестали. А он себе и нужды нет; встряхнул головою, поправляя волосы, да за ложку и стал доедать лапшу, как будто только копейку дал.
Вот, сидя за столом, как уже обед приняли, давай тогда Василь рассматривать девок, что были в дружках… Глядь!.. И увидел Марусю. А она уже третьею сидела, потому что старшею дружкою, сколько было ее ни просят, никогда не сядет.
– Пусть, – говорит, – другие садятся, кто за этим гоняется, а мне и здесь хорошо.
Стал наш Василь и сам не свой и, как там говорят, как обваренный. То был веселый, шутливый на выдумки, на прибаутки прежде всех; только его и слышно, от него вся хохотня. Теперь же тебе хотя бы полслова проговорил. Голову понурил, руки опустил под стол и ни до кого ни полсловом; все только взглянет на Марусю, тяжко вздохнет и опустит глаза вниз.
Сняли миски с обедом и поставили на стол орехи. Дружки тотчас начали с боярами загадывать на чет и нечет[85 - Чет и нечет — игра, состоящая в угадывании четного или нечетного количества предметов. (Прим. Л. Г. Фризмана)], лепечут, хохочут, балагурят кое-что промежду свадебных песен, а наш Василь сидит, точно как будто в лесу один себе; ни с кем не говорит и никуда не глядит, только на Марусю; только она ему и видится, только об ней и думает; как будто весь свет пропал, а только он с Марусей остался. Ни до чего и ни до кого нет ему никакого дела!
Что ж Маруся? И она, сердечная, что-то изменилась: то была, как и всегда, тиха, а тут уже вовсе, хоть домой идти. Что-то ей стало и скучно и грустно, и как взглянет на Василя, так ей так его жаль станет, а чего? И сама не знает. Разве, может, того, что и он сидит такой невеселый. А еще пуще, как один на одного разом взглянут, Марусю, как лихорадка из-за спины, так и морозит… И все бы она плакала. А Василь как будто в самой душной хате, как будто кто его тремя тулупами покрыл и горячим сбитнем[86 - Сбитень — горячий напиток из меда и пряностей. (Прим. Л. Г. Фризмана)] поил. Вот они скорей один от другого отворотятся, и кажется, что и не смотрят; но вот Василь только рукою поведет или голову куда повернет, то уже Маруся и покраснела, и опять взглянутся между собою.
Думает сердечная Маруся, что, может быть, это ее сглазили, да и говорит себе:
«Пойду-ка я скорее домой».
Так опять мысль придет:
«А тот боярин, что в синем жупане, он нездоров, что ли? То как я пойду, чтоб он больше не заболел, и никто ему не поможет. Видишь, как жалко смотрит на меня и как будто просит: будь ласкова, Маруся! Не уходи отсюда! Ну, хорошо, хорошо, останусь».
А Василь себе мятется и не знает, что ему делать. Расслушал немного, что бояре начали с дружками гадать орехами, да и думает: «Дай-ка погадаюсь я вон с тою девкою, что сидит смутная и невеселая». Только что сердечный протянул руку, то как будто ему кто шепнул: «Не трогай ее, она рассердится; видишь, как она богато одета, да пышная, это, может быть, мещанка, она с тобою и говорить не захочет».
Побледнеет наш Василь, да опять и нахмурится. Далее, собирался, собирался, да как дружечки стали громче петь, а хозяева чаще стали горелочкою гостей потчивать и усилился говор в хате, он таки схватил в горсть орехов да к Марусе:
– Чет или нечет?
Да как проговорил это, так даже чуть не упал со скамейки… Голова у него закружилась, в глазах потемнело, и вовсе не опомнился.
Да и Марусе же хорошо было. Как заговорил к ней Василь, она так испугалась, как тогда, когда мать на нее рассердилась. А это только одним-один раз и было на ее веку, как, принесши она с реки белье, потеряла материн платок, что еще от ее покойной матери; так за то-то на нее мать сердилась было, и хотя недолго, но Маруся – сохрани бог – как было испугалась. Вот же и теперь так было ей пришло: как бы можно, сквозь землю провалилась бы, либо забежала бы куда-нибудь, чтоб и не смотреть на этого боярина! Да и что ему говорить? Как скажу «нечет», то он подумает, что я чванная и что не хочу с ним загадывать; а он и так или смутен, или сердит – жалко на него смотреть. Скажу «чет». Что ж? Как начала силиться, чтоб проговорить слово, так никаким способом не может сказать. Губы слиплись, язык точно деревянный, а дух так и захватило. Видит же, что и Василь с нее глаз не спустит, и орехи в горсти держит, и ждет, что она ему скажет. Вот ей стало его жаль. На великую силу, да тихонько, так, что никто и не слыхал, проговорила: «чет» да и оглянулась с ним… И сама уже не помнит, как взяла от Василя орехи… Да как спохватилась, как застыдилася!.. Сохрани, Мати Божия!.. Как вот, на счастье их, вскрикнул дружко[87 - Дружко, главный распорядитель на свадьбе. Без него ничто не делается, и он на всякое свое действие испрашивает благословения двух старост. Перевод. (Прим. автора.)]:
– Старосты, паны, подстаросты! Благословите молодых вывести из хаты на дворе погулять.
Тут и все бросились из-за стола, да кто куда попал, скорее на двор, смотреть, как будут танцевать. Вот и Марусе и Василю как будто свет поднялся, легче стало им на душе, вышли и они из хаты.
Тр оистая музыка гремит из всей мочи: две скрипки рыпят[88 - Рыпеть – скрипеть. (Прим. Л. Г. Фризмана)], цимбалы бренчат, а вместо баса сам скрипник сквозь зубы гудет и прицмокивает. Вот и расшевелилися наши девчата: вышла пара, а там другая и пошли танцевать дрибушки. Ножками стучат, подковками гремят, взявшись за рученьки, выворачиваются, то опять разойдутся, то, как уточки, плавно плывут, только головками поводят, то опять приударят дрибушки… Уже и устали, уж и платочками утираются, уж бы им и полно, уж и другим хочется танцевать… Так что ж? Музыка играет да играет. Уж одна из девок, Одарка Макотрусивна, едва ноги передвигает, пот с нее так и течет, беспрестанно просит музыкантов:
– Да полно, дядюшка!.. Да перестаньте!.. Вот уже совсем не могу!
Так что ж? Музыка играет да играет!.. Но вот скрипник кончил, и в конце на струне запищал знак, чтоб поднесли им водки… Вот девкам и полно; поклонилися музыкантам и пошли в кучу[89 - Танцующие парни или девка, пока играет музыка, никак не могут перестать танцевать, хотя бы из сил выбились. Перевод. (Прим. автора.)].
– А ну, горлицы[90 - Горлица – птица из породы голубей. То же, что голубка – нежное обращение к женщине. (Прим. Л. Г. Фризмана)]! – закричал из кучи Денис Деканенко. – Кулаками растолкал людей, из кучи потянул к себе Пазьку Левусивну, стал с нею и дожидается, пока попотчуют музыкантов. Расставил ноги, взялся в боки, шапка на нем высокая, серых овчин с красным суконным верхом, надетая набекрень; усами махает и, поглядывая на всех, приговаривает: «Вот же вызвался я танцевать, да, может, и не умею, поучиться было у хромого Фомы, что на деревянке[91 - На деревянке – на деревянной ноге. (Прим. Л. Г. Фризмана)] ходит». Как это услышали люди, так и захохотали. Козьма, вот таки знаете, старый Коровай, тот и говорит: «Вот так, вот этот научит хорошо, сам ходя на одной ноге». А Ефим Перепелица смеялся-смеялся… даже слезы потекли, да и говорит: «Вот этот не выдумает! Ну уж так!» А Денис стоит, будто и не он, и не усмехнется.
Напившись горелки, музыканты начали отхватывать горлицу. Как же расходился наш Денис, так что, батюшки! Там его нечистый знает, как-то он премудро тогда танцевал. Как же хватил вприсядку, так ногами до земли и не дотрагивается: то поползет на коленках, то через голову перекувырнется, вскочит, в ладошки плеснет, свистнет так, что в ушах затрещит… да опять в боки, да в скоки, да тропака-тропака… Так, что земля гудет; а там станет выкидывать ногами, как будто они выломлены; а там подпрыгнет, да опять вприсядку, да около Пазьки так кругом и вьется, да под музыку приговаривает:
– Ой, дивчина горлица, до козака горнетца; а козак, як орел, як побачив, та и вмер.