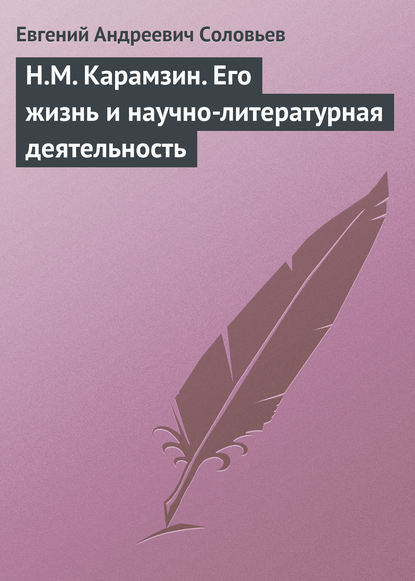По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Н.М. Карамзин. Его жизнь и научно-литературная деятельность
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В результате появилось «Детское чтение».
«Детским чтением» Карамзин заведовал не один, а вместе с другом своим Петровым, личность которого нам неизвестна. Дмитриев говорит о нем довольно общо, подчеркивая преимущественно его «просвещенность» и «благородство сердца», но как жил, чувствовал этот просвещенный и благородный человек – мы не знаем. «Петров, – читаем мы у Дмитриева, – знаком был с древними и новыми языками; при глубоком знании отечественного слова одарен был необыкновенным умом и способностью к здравой критике; но, к сожалению, ничего не писал для публики и упражнялся только в переводах. Карамзин полюбил Петрова, хотя они были не во всем сходны между собою: один пылок, откровенен и без малейшей доли желчи, другой же угрюм, молчалив и подчас насмешлив; но оба питали равную страсть к познаниям, к изящному, и это заставило их прожить долгое время в тесном согласии под одною кровлею у Меншиковой башни, в старинном каменном доме».
Во взаимных отношениях друзей Петров, по-видимому, играл роль руководителя. Карамзин в патетической статье своей, озаглавленной «Цветок на гроб моего Агатона», т. е. Петрова, говорит между прочим:
«Я нашел в нем то, что с самого ребячества было приятнейшею мечтою моего воображения, – человека, которому мог я открывать все милые свои надежды, все тайные сомнения; который мог рассуждать и чувствовать со мною, показывать мне мои заблуждения и научать меня не повелительным голосом учителя, но с любезною кротостью снисходительного друга; одним словом, я нашел в нем сокровище, особливый дар неба, который не всякому смертному в удел достается, и время нашего знакомства, нашего дружества будет всегда важнейшим периодом жизни моей».
В своих письмах Петров дает Карамзину почти отеческие наставления, советует лечиться от скуки работой, не жаловаться на судьбу и не представлять свое положение чересчур мрачным. Иногда он добродушно подшучивал над своим другом, например: «Будучи великий жени (гений), ты столько превознесся над мелочами, что в трех строках сделал пять ошибок против немецкого языка. Пожалуй, употреби в пользу сие дружеское замечание и лучше пиши все сочинение на русско-славянском языке, долго – сложно – протяжно парящими словами». О себе Петров одинаково отзывается всегда с добродушным юмором, уверяя, что он лично никуда не годится, даже мышей ловить.
В письмах и переводах Петрова бросается прежде всего в глаза прекрасный, чистый и удивительно простой язык, на котором положительно отдыхаешь, утомленный риторикой и цветами стиля того времени. Посмотрите, например, как пишет Карамзин о своих отношениях к другу: «Часто дух наш на крыльях воображения облетал небесные пространства, где Орион и Сириус в златых венцах сияют; там искали мы нежных друзей своему сердцу, и часто заря утренняя красила восточное небо, когда я расставался с Агатоном и возвращался домой с покойною душою с новыми знаниями или с новыми идеями».
Невольно воскликнешь: «Боже! да чего тут только нет! И Орион, и Сириус, и крылья воображения, и златые венцы!» Или из того же Карамзина:
«Верный вкус друга моего был для меня светильником в искусстве и поэзии. Восхищенный красотой цветов, растущих на сем поле, дерзал я иногда младенческими руками образовать нечто подобное оным и незрелые свои мысли изливать на бумагу».
Сравните с этими деланными фразами простые, сильные фразы Петрова, который, если не считать Кантемира, первый стал писать разговорным языком, и вы не затруднитесь, чему отдать предпочтение. «Что касается до меня, то я по отпуске сего письма жив и здоров, – пишет, например, Петров, – но знаю это потому только, что ем, пью и сплю попеременно, иных же знаков жизни никаких не предвидится…» Или: «простота чувствования – превыше всякого умничанья: грешно сравнивать натуру (природу) с педантскими подражаниями, натянутыми подделками низших умов».
Несомненно, что Петров первый заинтересовал Карамзина Шекспиром и советовал ему переводить его драмы на русский язык; то же, вероятно, можно сказать и относительно Лессинга. Петров был тем, что в наши дни принято называть трезвым умом. Он стремился к полезному, не терпел ни фраз, ни излишней чувствительности, в самых увлечениях своих он не расставался с добродушной иронией. Его влияние на Карамзина, особенно на слог последнего, несомненно. К сожалению, это все, что мы можем сказать о нем. Петров рано умер, риторика Карамзина никаких основательных сведений нам о нем не сохранила.
Четыре года пробыл Карамзин среди членов «Дружеского общества», постоянно занимаясь литературой. Кроме статей для «Детского чтения» он переводил философские и мистические трактаты, например «Размышления» Штурма, сочинения Галлера «О происхождении зла» и многое другое. Впрочем, как уже было замечено выше, влияние масонов «Дружеского общества» на Карамзина было слабо и поверхностно. Что делал он в «Детском чтении»? Главным образом переводил, но однажды рискнул создать нечто оригинальное, в результате чего и появилась «Русская старинная повесть: Евгений и Юлия». Это была первая «чувствительная повесть» на нашем языке, почему и ознакомимся с ее содержанием:
«Г-жа Л. удалилась из Москвы в деревню, где жила в полном уединении с Юлией, дочерью умершей своей приятельницы. Весну и лето проводили они в наслаждениях „приятностями природы“. Когда же наступала пасмурная осень и черным мраком все творение покрывала, или свирепая зима, от севера несущаяся, потрясала мир бурями своими, когда в нежное Юлино сердце вкрадывалась томная меланхолия и тихими вздохами колебала ее грудь, тогда брались за книги, бессмертные творения истинных философов для пользы рода человеческого, тогда читали и перечитывали письма любезного Евгения, учившегося в чужих краях. Иногда при чтении сих писем глаза Юлины наполнялись слезами приятными любви и почтения к благоразумному и добросердечному юноше. „Ах, когда он к нам приедет? – часто говаривала г-жа Л., – как счастлива буду я, когда его увижу, прижму к своему сердцу и тебя с ним вместе, Юлия“.
«Наконец он приехал. Дружба его к Юлии обратилась в пламенную любовь. Он подарил ей множество книг французских, итальянских и немецких. Юлия прекрасно играла на клавесине и пела. Особенно нравилась ей песнь Клопштока, к которой музыку сочинил Глюк. Евгений и Юлия часто гуляли при свете луны, рассматривали звездное небо и дивились величеству Божию; внимая шуму водопада, рассуждали о бессмертии. Сколько высоких, нежных мыслей сообщали они друг другу, быв оживлены духом натуры».
«Когда Евгению минуло двадцать два года, а Юлии – двадцать один, они открылись друг другу во взаимной любви, г-жа Л. была в восторге. Но – увы! – прочное счастие редко существует в свете. Евгений заболел горячкою и в девятый день умер».
«Один молодой, чувствительный человек, проезжавший чрез деревню г-жи Л. и слышавший сию печальную повесть, посетил гроб Евгениев, и на белом камне, лежавшем между цветов на могиле, написал карандашом следующую эпитафию, которая после была вырезана на особливом мраморном камне:
Сей райский цвет не мог в сем мире распуститься —
Увял, изсох, опал – и в рай был пренесен».
В 1787 году Карамзин перевел трагедию Шекспира «Юлий Цезарь», издал ее и предпослал переводу очень характерное примечание. Здесь он называет Шекспира «одним из тех великих духов, коими славятся веки». Он говорит далее, что «время, сей могущественный истребитель всего того, что под солнцем находится, не могло еще доселе затмить изящность и величие шекспировских творений. Каждая степень людей, каждый возраст, каждая страсть, каждый характер говорит у него собственным своим языком. Что Шекспир не держался правил театральных – правда. Истинною причиною сему, думаю, было пылкое его воображение, не могшее покориться никаким предписаниям; дух его парил яко орел и не мог парения своего измерить тою мерою, которую измеряют полет свой воробьи»…
Надо согласиться, что было смелым и прекрасным делом высказывать такие мысли русскому обществу, выросшему на трагедиях Сумарокова, почитавшего себя превыше господина Вольтера и соблюдавшего все три «единства» – времени, места и действия. Свой восторг перед Шекспиром Карамзин излил также в следующем положительно недурном стихотворении:
Шекспир, натуры друг! кто лучше твоего
Познал сердца людей? Чья кисть с таким искусством
Живописала их? Во глубине души
Нашел ты ключ к великим тайнам рока
И светом своего бессмертного ума,
Как солнцем, озарил пути ночные жизни:
Все башни, коих верх скрывается от глаз,
В тумане облаков огромные чертоги,
И всякий гордый храм исчезнут как мечта —
В течение веков и места их не сыщем —
Но ты, великий муж, пребудешь незабвен.
Вскоре после «Юлия Цезаря» Карамзин перевел и знаменитую трагедию Лессинга «Эмилия Галотти».
Из всего этого видно, что его занятия, интересы, даже знакомства были чисто литературными. Политикой он совершенно не интересовался, и великолепные утопии царствования Екатерины даже не тронули его. Он не мечтал вместе с Бецким о создании новой породы людей, не стремился вместе с Суворовым и Потемкиным под стены Константинополя, чтобы восстановить великую Византийскую империю и водрузить крест вместо полумесяца на купол Софийского собора. Перед нами скромный труженик, всегда приветливый, добрый, с любезною склонностью к меланхолии. Он мечтал лишь о том, чему суждено было скоро осуществиться – о заграничном путешествии.
Перед отъездом в чужие земли Карамзин порвал всякие связи с масонами «Дружеского общества».
«Я, – рассказывал он впоследствии Гречу, – был обстоятельствами вовлечен в это общество в молодости моей и не мог не уважать в нем людей, искренно и бескорыстно искавших истины и преданных общеполезному труду. Но я никак не мог разделить с ними убеждения, будто для этого нужна какая-либо таинственность, – и не могли мне нравиться их обряды, которые всегда казались мне нелепыми. Перед моею поездкою за границу я откровенно заявил в этом обществе, что, не переставая питать уважение к почтенным членам его и признательность за их постоянное доброе ко мне расположение, я, однако ж, по собственному убеждению принимать далее участие в их собраниях не буду и должен проститься. Ответ их был благосклонный; сожалели, но не удерживали, и на прощанье дали мне обед. Мы расстались дружелюбно».
Глава III
Поездка за границу. – «Письма русского путешественника»
Для русского человека поездка за границу была далеко не обычным явлением в XVIII веке. Такая поездка требовала и значительных средств, и знания иностранных языков, и сравнительно высокого умственного развития. Все это было у Карамзина, и в мае 1789 года он выехал наконец из столицы в дорожном дормезе с любимыми книгами в чемодане. Петров провожал его до заставы. «Там, – рассказывает нам путешественник, – обнялись мы с ним и еще в первый раз видел я слезы его; – там сел я в кибитку, взглянул на Москву, где оставалось для меня столько любезного, и сказал: „Прости!“ Колокольчик зазвенел, лошади помчались, и друг ваш осиротел в мире, осиротел в душе своей…» Что же так сильно тянуло Карамзина за границу? Думал ли он изучать промышленность и торговлю, общественные или политические учреждения, нравы и обычаи европейских народов? – Ни то, ни другое, ни третье. Его манила неизвестность, всегда таинственная для молодого человека, манила чужая природа, горы Швейцарии, синяя вода Женевского озера, шум великого города, красиво раскинувшегося на монмартрских холмах, а главным образом ему хотелось ознакомиться с великими людьми, чьи произведения он читал в России, кого привык уважать и любить. Более поверхностного наблюдателя, чем Карамзин, трудно даже найти; но вместе с тем трудно найти и более интересного автора записок, особенно у нас, в России. «Письма русского путешественника» Карамзина и «Письма об Испании» Боткина, несомненно, самые изящные произведения наших туристов. Объясняя цель своего путешествия, Карамзин говорит: «Приятно и весело, друзья мои, переезжать из одной земли в другую, видеть новые предметы, с которыми, кажется, самая душа наша обновляется и чувствует неоцененную свободу человека, по которой он подлинно может назваться царем земного творения». «Приятными и веселыми вышли и «Письма русского путешественника». Не ищите в них только ничего особенно глубокого, и они несомненно даже и теперь доставят вам значительное удовольствие.
Карамзин пробыл за границей около полутора лет, от мая 1789 года до сентября 1790 года. Он посетил Германию, Францию, Швейцарию и Англию. Главные места, где он дольше других останавливался, были: Берлин, Лейпциг, Женева, Париж и Лондон.
Первый замечательный человек, которого посетил Карамзин в Кенигсберге, был великий философ Эммануил Кант. Полагаю, что встреча с ним – самая интересная из всех встреч нашего путешественника, почему и привожу ее описание полностью.
«Меня, – рассказывает Карамзин, – встретил маленький, худенький старичок, отменно белый и нежный. Первые слова мои были: „я – русский дворянин, люблю великих мужей и желаю изъявить мое почтение Канту“. Он тотчас попросил меня сесть, говоря: „я писал такое, что не может нравиться всем, немногие любят метафизические тонкости“.
«С полчаса поговорили мы о разных вещах: о путешествиях, о Китае, об открытии новых земель. Надобно было удивляться его историческим и географическим знаниям, которые, казалось, могли бы одни загромоздить магазин человеческой памяти, но это у него, как немцы говорят, дело постороннее. Потом я, не без скачка, обратил разговор на природу и нравственность человека; и вот что мог удержать в памяти из его рассуждений:
«Деятельность есть наше определение. Человек не может быть никогда совершенно доволен обладаемым, и стремится всегда к приобретениям. Смерть застает нас на пути к чему-нибудь, что мы еще иметь хотим. Дай человеку все, чего желает; но он в ту же минуту почувствует, что это все не есть все. Не видя цели или конца стремления нашего в здешней жизни, полагаем мы будущую, где узлу надобно развязаться. Сия мысль тем приятнее для человека, что здесь нет никакой соразмерности между радостями и горестями, между наслаждением и страданием. Я утешаюсь тем, что мне уже шестьдесят лет, и скоро придет конец жизни моей; ибо надеюсь вступить в другую, лучшую. Помышляя о тех услаждениях, которые имел я в жизни, не чувствую теперь удовольствия; но, представляя себе те случаи, где действовал сообразно с законом нравственным, начертанным у меня в сердце, радуюсь. Говорю о нравственном законе: назовем его совестью, чувством добра и зла – но он есть. Я солгал; никто не знает лжи моей, но мне стыдно. – Вероятность не есть очевидность, когда мы говорим о будущей жизни; но, сообразив все, рассудок велит нам верить ей. Да и что бы с нами было, когда бы мы, так сказать, глазами увидели ee? Если бы она нам очень полюбилась, мы бы не могли уже заниматься нынешнею жизнью и были в беспрестанном томлении; а в противном случае не имели бы утешения сказать себе в горестях здешней жизни: авось там будет лучше! – Но говоря о нашем определении, о жизни будущей и проч., предполагаем уже бытие Всевечного творческого разума, все для чего-нибудь создавшего и всему благотворящего. Что? как?.. Но здесь первый мудрец признается в своем невежестве. Здесь разум погашает светильник свой, и мы во тьме остаемся; одна фантазия может носиться во тьме сей и творить несобытное».
«Почтенный муж, – заключает Карамзин свое изложение, – прости, если в сих строках обезобразил я мысли твои».
Из Кенигсберга Карамзин отправился в Берлин, где посетил знаменитого в прошлом столетии книгопродавца Николаи, друга и издателя Лессинга. Разговор зашел о происходившей в то время ожесточенной полемике между католиками и протестантами. Наш путешественник предается следующим рассуждениям о веротерпимости: «Где, – говорит он, – искать терпимости, если сами философы, самые просветители – а они так себя называют, – оказывают столько ненависти тем, которые думают не так, как они? Тот есть для меня истинный философ, «кто со всеми может ужиться в мире, кто любит и несогласных с его образом мыслей». В этих словах никак нельзя не отметить излишнего добродушия. Терпимость к чужому мнению – вещь прекрасная, но если чужое мнение прокладывает себе дорогу костром и виселицами, пытками и тюрьмами, если оно неискреннее, если оно заботится не об истине, а о том, чтобы какими бы то ни было средствами заставить замолчать своего противника, то терпимость к нему становится прямо преступной. Во всяком случае подчеркнутые слова характерны для Карамзина.
В Берлине же Карамзин посетил театр и плакал, смотря драму Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние». Описывая свои впечатления, он роняет глубокие слова, припомнить которые нелишне еще и теперь: «Я думаю, что у немцев не было бы таких актеров, если бы не было у них Лессинга, Гете, Шиллера и других драматических авторов, которые с такой живостью представляют в драмах своих человека, каков он есть, отвергая все излишние украшения или французские румяна, которые человеку с естественным вкусом не могут быть приятны. Читая Шекспира, читая лучшие немецкие драмы, я живо воображаю себе, как надобно играть актеру и как что произнесть, но при чтении французских трагедий редко могу представить себе, как можно в них хорошо играть актеру или так, чтобы меня тронуть».
В июле Карамзин был уже в Саксонии. Интересен разговор, который он вел по дороге из Мейсена в Лейпциг о бессмертии души.
«Федон, – сказал спутник (студент), – есть, может быть, самое остроумнейшее философическое сочинение; однако ж все доказательства бессмертия нашего основывает автор на одной гипотезе. Много вероятности, но нет уверения; и едва ли не тщетно будем искать его в творениях древних и новых философов. – Надобно искать в сердце, – сказал я. – «О, государь мой! – возразил студент, – сердечное уверение не есть еще философическое уверение, оно не надежно; теперь чувствуете его, а через минуту оно исчезнет, и вы не найдете его места. Надобно, чтобы уверение основывалось на доказательствах, на тех врожденных понятиях чистого разума, в которых заключаются все вечные необходимости истины… Сего-то уверения ищет метафизик в уединенных сенях, во мраке ночи, при слабом свете лампады, забывая сон и отдохновение. – Ежели бы могли мы узнать точно, что такое есть душа сама в себе, то нам все бы открылось; но…» Тут вынул я из записной книжки своей одно письмо доброго Лафатера и прочитал студенту следующее: «Глаз по своему образованию не может смотреть на себя без зеркала. Мы созерцаемся только в других предметах. Чувство бытия, личность, душа – все сие существует единственно потому, что вне нас существует, – по феноменам или явлениям, которые до нас касаются».
Разговор оборвался на половине, но все же в возражениях Карамзина можно различить отдаленный отзвук масонских речей и взглядов.
В Лейпциге, увидя могилу Геллерта, Карамзин проявил всю свою нежную чувствительность. Произошла сцена во вкусе наших прадедов. Трактирщик позвал ужинать Карамзина, только что вернувшегося с кладбища. «Нет, г-н Мемель, – воскликнул тот, – я не пойду ужинать. Сяду под окном, буду читать Вейсееву элегию на смерть Геллерта, Крамерову и Денисову оду, буду читать, чувствовать и – может быть плакать. Нынешний вечер посвящу памяти добродетельного. Он здесь жил и учил добродетели».
Наконец Карамзин достиг жилища олимпийцев, как тогда называли Веймар. «Здесь ли Виланд? Здесь ли Гердер? Здесь ли Гете?» – были его первыми нетерпеливыми вопросами. Ему отвечали, что здесь, и он немедленно же полетел к Гердеру «на крыльях своей восторженности». Однако свидания с Гердером и Виландом не дали Карамзину ничего особенно нового, и дело кончилось лишь тем, что он удовлетворил свою страсть лицезреть знаменитых и прославленных людей. Характерен, впрочем, разговор с Виландом, – другом и одно время даже соперником Гете, автором бесчисленных стихотворений и поэм, теперь совершенно и справедливо забытых. Приводим этот разговор с сокращениями.
«Простите, – сказал, входя, Карамзин, – если давешнее мое посещение было для вас не совсем приятно. Надеюсь, что вы не сочтете наглостью того, что было действием энтузиазма, произведенного во мне вашими прекрасными сочинениями». «Вы не имеете нужды извиняться, – отвечал он, – я рад, что этот жар к поэзии так далеко распространяется, тогда как он в Германии пропадает». Тут сели мы на канапэ. Начался разговор, который минута от минуты становился живее и для меня занимательнее. Говоря о любви своей к поэзии, сказал он: «Если бы судьба определила мне жить на пустом острове, то я написал бы все то же, и с таким же старанием вырабатывал бы свои произведения, думая, что музы слушают мои песни». Он желал знать, пишу ли я? и не переведено ли что-нибудь из моих безделок на немецкий? Я сыскал в записной своей книжке перевод «Печальной Весны». Прочитав его, сказал он: «Жалею, если вы часто бываете в таком расположении, какое здесь описано. Скажите, – потому что теперь вы вселили в меня желание узнать вас короче, – скажите, что у вас в виду?» «Тихая жизнь, – отвечал я. – Окончив свое путешествие, которое предпринял единственно для того, чтобы собрать некоторые приятные впечатления и обогатить свое воображение новыми идеями, буду жить в мире с натурою и с добрыми друзьями, любить изящное и наслаждаться им». «Кто любит муз и любим ими, – сказал Виланд, – тот в самом уединении не будет празден и всегда найдет для себя приятное дело. Он носит в себе источник удовольствия, творческую силу свою, которая делает его счастливым».
Такие взгляды, конечно, были как нельзя более приятны Карамзину, который сам себя называл любителем муз и решительно ничем не интересовался, кроме литературы и поэзии.
Но вот и Швейцария, страна свободы. «Какие места! Какие места! – восклицает наш путешественник. – Отъехав от Базеля версты две, я выскочил из кареты, упал на цветущий берег зеленого Рейна и готов был в восторге целовать землю. Счастливые швейцарцы! всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастье, живучи в объятиях прелестной натуры, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному Богу? Вся жизнь ваша есть, конечно, приятное сновидение, и самая роковая стрела (т. е. смерть) должна кротко влетать в грудь вашу, не возмущаемую тиранскими страстями!..»
Этот риторический гимн швейцарской свободе является несколько неожиданным, но Карамзин никак не мог противодействовать искушению написать красивый и звучный период по поводу такого красивого и звучного слова, как «свобода». Впрочем, восторг по адресу последней был общим местом в литературе прошлого века, и лишь гораздо позже люди стали отдавать себе отчет в том, что, собственно, значит это красивое и звучное слово. Как бы там ни было, легко представить себе, какое впечатление должны были производить музыкальные фразы Карамзина на современников. Они читали Вольтера и Руссо, они восторгались «красотами натуры» и «простотою нравов», они любили общие места и нежную чувствительность, все это в изобилии преподносилось им, и притом в самой изящной форме…
В Цюрихе Карамзин навестил Лафатера, имя которого было в то время очень громким, и вел с ним беседы преимущественно на философические темы. Разумеется, он предложил тотчас любимый свой вопрос: «Какая есть всеобщая цель бытия нашего, равно достижимая для мудрых и слабоумных?» Лафатер отвечал: «Бытие есть цель бытия. Чувство и радость бытия есть цель всего, чего мы искать можем». Но этим умным ответом наш путешественник остался почему-то недоволен.