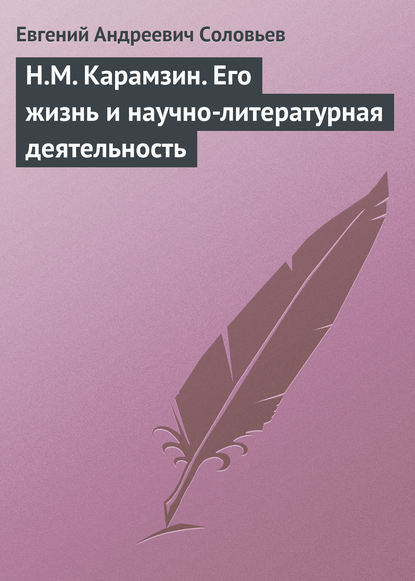По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Н.М. Карамзин. Его жизнь и научно-литературная деятельность
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Более серьезное соображение изложено в следующих строках: «Но да будет, – восклицает Карамзин, – правило: искать людей! Кто имеет доверенность Государя, да замечает их вдали для самых первых мест. Не только в республиках, но и в монархиях кандидаты должны быть назначены единственно по способностям. Всемогущая рука Единовластителя одного ведет, другого мечет на высоту; медленная постепенность есть закон для. множества, а не для всех. Кто имеет ум министра, не должен поседеть в столоначальниках или в секретарях. Чины унижаются не скорым их приобретением, но глупостию или бесчестием сановников; возбуждается зависть, но скоро умолкает перед лицом достойного. Вы не образуете полезного министерства сочинением наказа; тогда образуете, когда приготовите хороших министров. Совет рассматривает их предложения; но уверены ли вы в мудрости его членов? Общая мудрость рождается только от частной. Одним словом, теперь всего нужнее люди! Но люди не только для министерства или сената, но и в особенности для мест губернаторских. Россия состоит не из Петербурга и не из Москвы, а из 50 или более частей, называемых губерний: если там пойдут дела как должно, то министры и совет могут отдыхать на лаврах, а дела пойдут как должно, если вы найдете в России 50 мужей умных, добросовестных, которые ревностно станут блюсти вверенное каждому из них благо полумиллиона россиян, обуздают хищное корыстолюбие нижних чиновников и господ жестоких, восстановят правосудие, успокоят земледельцев, ободрят купечество и промышленность, сохранят пользу казны и народа. Если губернаторы не умеют или не хотят делать того, виною худое избрание лиц; если не имеют способа – виною худое образование губернских властей».
Дела пойдут как должно, если вы найдете в России 50 мужей умных и добросовестных, и эти-то 50 людей, их деятельность представлялась Карамзину панацеей от всех зол. Они должны были искоренить вековое хищничество, неправду в судах, жестокие, кровожадные нравы в поместьях. Дайте 50 человек, и довольство воцарится в палатах и хижинах, промышленность и торговля расцветут, казна окажется богатой и неприкосновенной.
Однако всякий, кто подумает, что Карамзин был особенно встревожен учреждением министерств и совета, тот сильно ошибется. Суть не в этом, а в другом, более существенном, и это другое, более существенное – желание сохранить во всей незыблемости и неприкосновенности крепостное право.
«Так нынешнее правительство, – пишет Карамзин, – имело, как уверяют, намерение дать свободу господским людям». Возможно ли это? По мнению историографа, «освобождение крестьян с землею было бы прямым беззаконием, так как: 1) нынешние господские крестьяне никогда не были владельцами, т. е. не имели собственной земли, которая есть законная неотъемлемая собственность дворян; 2) крестьяне холопского происхождения – также законная собственность дворянская и не могут быть освобождены лично без особенного удовлетворения помещика». Карамзин думает далее, что одни вольные, Годуновым укрепленные за господами, земледельцы могут, по справедливости, требовать прежней свободы, которой, однако, им давать не следует, ибо «мы не знаем ныне, которые из них происходят от холопей и которые от вольных людей».
Словом, куда ни кинь, все клин. Возможность разрубить гордиев узел крепостного права представляется Карамзину не только невероятной, но прямо ненужной. Он не спрашивает себя, на каких условиях дореформенное дворянство владело государственными землями, особенно в XVII и 1-й половине XVIII веков, когда оно являлось в сущности не собственником, а пользователем; не спрашивает себя и о том, как это возможно, чтобы все крестьяне никогда не являлись собственниками? Высказав свои исторические аргументы и ничем не доказав их, Карамзин переходит к аргументам нравственно-политическим, и что-то близкое, знакомое слышится в его словах: «Уже не завися от суда помещиков, решительного, безденежного, крестьяне начнут ссориться между собою и судить в городе – какое разорение! Освобожденные от надзора господ, имевших собственную земскую исправу или полицию, гораздо деятельнейшую всех земских судов, станут пьянствовать, злодействовать, – какая богатая жатва для кабаков и мздоимных исправников, но как худо для нравов и государственной безопасности».
Припоминая изречение Павла I: «у меня сто тысяч даровых полицимейстеров» (помещиков), Карамзин продолжает: «теперь дворяне, рассеянные по всему государству, содействуют монарху в хранении тишины и благоустройства: отними у них сию власть блюстительную, он, как Атлас, возьмет себе Россию на рамена. Удержит ли?.. Падение страшно».
Историограф грозит даже этим, забывая свои собственные блестящие страницы о кротости и смиренномудрии славян.
«Записка», разумеется, заканчивается панегириком дворянству и в этом отношении является характерным памятником александровской эпохи, когда самые заскорузлые старообрядческие мнения переплетались с любезными меланхолическими порывами сердца и вожделениями европействующих реформаторов, когда предшественники декабристов – Сперанский и Аракчеев – по очереди разделяли симпатии государя.
«Самодержавие, – пишет Карамзин, – есть палладиум России: целость его необходима для ее счастия; из сего не следует, чтобы государь – единственный источник власти – имел причины унижать дворянство, столь же древнее, как и Россия. Оно было всегда не что иное, как братство знаменитых слуг великокняжеских или царских».
Говорят, император остался недоволен «Запиской» и ее реакционным направлением. В то время в душе Александра совершался переворот, и он мучился, находясь на распутье между дорогой Сперанского и Аракчеева. Он успел уже разочароваться во многих из гуманных и свободолюбивых грез своей юности, но ему не хотелось сразу переходить на другой тон.
«Записка» Карамзина задела живую рану.
Скажем теперь несколько слов о последних годах жизни прославленного историографа.
После выхода в свет первых томов «Истории» он жил главным образом в Петербурге, а летом – в Царском Селе. Его отношения ко двору становились все ближе, но он не порывал и своих литературных связей; возле него, между прочим, постоянно находились Пушкин и Жуковский. Впечатления его с этих пор становятся очень однообразными, а в письмах своих он почти исключительно сообщает о тех или других знаках милостивого внимания.
Например, он писал к Дмитриеву: «Государь призывал меня к себе и говорил со мною весьма милостиво о вещах обыкновенных. Увидев меня на бале в Павловске в Розовом павильоне, тотчас подошел спросить о здоровье жены и на другой день прислал лакея своего спросить о том же. Это милостиво и тронуло меня. Императрица также приветлива. Однако ж все еще не знаю, останусь ли печатать здесь „Историю“. Типографщики дорожатся, или не имеют нужного для такого печатания шрифта. Будет, чему быть надобно; а пора мне где-нибудь основаться до конца и работать постоянно, без всяких развлечений». И т. д., все в том же роде.
В 1819 году он принялся за IX том «Истории». Опять пошли хлопоты о разыскивании материала, – о том, как доставать нужные книги. Любимая работа вступила в свои права и вновь подчинила себе жизнь и помыслы человека. Несомненно, что за письменным столом Карамзин провел много счастливых часов. Близость ко двору скорее льстила его тщеславию, чем приносила нравственное удовольствие. Он чувствовал себя не совсем уютно в парадных комнатах. Ему недоставало остроумия, находчивости, он всегда держал себя слишком серьезно. К тому же, по его впечатлительности, каждый знак невнимания или временной холодности раздражал и мучил его. В такие минуты он писал, например, Дмитриеву:
«Знай, любезнейший, что я ничего не хочу, уже приближаясь к старости. Полно! Благодарю Бога за то, что имею. Надобно доживать дни с семейством, с другом и с книгами. Мне гадки лакеи и низкие честолюбцы, и низкие корыстолюбцы. Двор не возвысит меня. Люблю только любить Государя. К нему не лезу и не ползу. Не требую ни конституции, ни представителей, но по чувствам останусь республиканцем, и притом верным подданным Царя Русского: вот противоречие, но только мнимое».
Карамзин жил довольно открыто. По вечерам в его роскошной квартире собиралось обыкновенно немало народа. Жена и дочь постоянно присутствовали тут же. Впоследствии вдова историографа имела литературно-аристократический салон – что редко встречается в России.
В 1819 году государь по возвращении своем из-за границы заявил Карамзину в интимной беседе свое желание восстановить Польшу в ее древних пределах. Карамзин, по словам Погодина, воспламенился духом и составил «Записку», где между прочим читаем:
«Можете ли с мирною совестию отнять у нас Белоруссию, Литву, Волынию, Подолию, утвержденную собственность России еще до Вашего царствования? Не клянутся ли Государи блюсти целость своих держав? Сии земли уже были Россией, когда Митрополит Платон вручал Вам венец Мономаха, Петра и Екатерины, которую Вы сами назвали Великою. Скажут ли, что она беззаконно разделила Польшу? Но Вы поступили бы еще беззаконнее, если бы вздумали загладить Ее несправедливость разделом самой России. Мы взяли Польшу мечом: вот наше право, коему все Государства обязаны бытием своим: ибо все составлены из завоеваний».
Катков впоследствии прибегал к тем же аргументам.
До 1825 года были написаны еще X и XI тома «Истории» в той же обстановке и при тех же условиях. Упадка сил он не чувствовал. Напротив, последние его письма дышат бодростью.
«Любезный друг, – пишет он, например, Дмитриеву в сентябре 1825 года, – в ответ на милое письмо твое скажу, что о вкусах, по старому латинскому выражению, не спорят. Я точно наслаждаюсь тихою, уединенною жизнью, когда здоров и не имею душевной тревоги. Все часы дня заняты приятным образом: в девять утра гуляю по сухим и в ненастье Дорогам вокруг прекрасного, нетуманного озера, славимого и в „Conversations d'Emilie“ (сочинение Жанлис); в одиннадцатом завтракаю с семейством и работаю с удовольствием до двух, еще находя в себе душу и воображение (Карамзин сохранил их до последней минуты); в два часа на коне, несмотря ни на дождь, ни на снег, трясусь, качаюсь – и весел; возвращаюсь, с аппетитом обедаю с моими любезными, дремлю в креслах и в темноте вечерней еще хожу час по саду, смотрю вдали на огни домов, слушаю колокольчик скачущих по большой дороге и нередко крик совы; возвратясь свежим, читаю газеты, журналы… книгу; в девять часов пьем чай за круглым столом и с девяти до половины двенадцатого читаем с женою, с двумя девицами (дочерьми) замечательные места из Вальтер Скоттова романа, но с невинною пищею для воображения и сердца, всегда жалея, что вечера коротки…»
«Работа сделалась для меня опять сладка: знаешь ли, что я со слезами чувствую признательность к небу за свое историческое дело! Знаю, что и как пишу; в своем таком восторге не думаю ни о современниках, ни о потомстве; я независим и наслаждаюсь только своим трудом, любовью к отечеству и человечеству. Ну, пусть никто не читает моей „Истории“: она есть, и довольно для меня… За неимением читателей могу читать себе и бормотать сердцу, где и что хорошо. Мне остается просить Бога единственно о здоровье милых и насущном хлебе, до той минуты, «как лебедь на водах Меандра, пропев, умолкнет навсегда…»
Но дни Карамзина были уже сочтены: он умер 22 мая 1826 года, собираясь ехать за границу для поправления здоровья. Перед смертью он получил от императора Николая Павловича именной рескрипт и 50 тысяч рублей пенсии в год, чем и заключалась его успешная историографическая карьера.
Заключение
Мы видели, что сделал Карамзин. Он преобразовал русский язык, выкинув из него массу церковных, славянских выражений и приблизив стиль к французскому, – он издавал три журнала, одинаково умных, интересных и разнообразных, чем, несомненно, приохотил публику к чтению, – наконец он написал двенадцать томов русской истории, не забытых еще и в настоящее время. Всего этого совершенно достаточно, чтобы имя Карамзина не исчезло из летописей русской журналистики, литературы, истории; но этого мало, чтобы мы чувствовали его близким к нам, чтобы мы продолжали учиться у него, как могли это делать наши прадеды и прабабушки. Если порою мы и должны еще обращаться к «Истории государства Российского», то повинно в этом обстоятельстве не величие Карамзина, а в высшей степени медлительный ход русской истории, имеющий, впрочем, очень мало общего с научной осторожностью. Возьмите редкий пример в этом отношении – именно вопрос о крепостном праве. Казалось бы, интерес исследователей должен был с особенной силой притягиваться к нему, а между тем долгое время он почти не обращал на себя внимания. Мы сравнительно недавно расстались со старой сказкой, будто крепостное право введено Годуновым, и наши дети под 1594 год все еще учат наизусть – «вот тебе бабушка и Юрьев день». А между тем крепостное право под формой кабалы существовало с древнейших времен, общее же свое распространение получило лишь при Петре Великом, когда помещик стал отвечать за крестьянские оброки и в вознаграждение за это получил массу прав.
Не только в «Истории государства Российского», но и во всем, что вышло из-под пера Карамзина, нельзя видеть и тени величия. Перед нами всегда и везде богато одаренная, нервная и даровитая, но неглубокая натура, блестящая и красивая, но без тени гениальности. В жизни Карамзин был тем, что называется нормальным человеком. В юности он увлекался масонами и свободными «швейцарами», стал осторожен в зрелые годы, выказывал сильную наклонность давать задний ход под старость. С годами его взгляды становились все более консервативными, охранительными и лишь в минуты меланхолии мог он называть себя республиканцем. Знаменитая впоследствии славянофильская триада «самодержавие, православие и народность» – была в сущности формулирована уже им, с прибавкой крепостничества и 50 сатрапов в качестве образцов добродетели для 25-ти миллионов людей. Пережив волнения юности, Карамзин сделался государственником чистой воды. Идея справедливости не особенно уже тревожила его: верность преданиям прошлого, медленное и осторожное движение вперед, внешняя сила и могущество России – вот что особенно занимало его и защите чего служил он своим красноречием. «Мне кажется, – говорит он, например, – что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, к которой надобно готовить человека исправлением нравственным». Перед соображением о твердости государственной должно умолкнуть все, даже лучшие порывы сердца, и все усилия сосредоточиться на хранении «государственной тишины и благоустройства». Как у государственника, мы найдем у Карамзина и деление народа на классы – желание сделать из этих классов в значительной степени касты. Почти повторяя слова Ришелье и забывая, что в нашей истории был уже Петр Великий, «разнесший все сословные перегородки», он говорит: «Дворянство есть наследственное… Народ работает, купцы торгуют, дворяне служат, награждаемые отличием и выгодами, уважением и достатком. Надлежало бы не дворянству быть по чинам, а чинам по дворянству, т. е. для приобретения некоторых чинов надлежало бы необходимо требовать благородства». В той упорной борьбе, которую постоянно вело столбовое дворянство с личным, начало наследственности с началом личности, дух Петра Великого с духом Семибоярщины и верховников Анны Иоанновны, Карамзин принял сторону того, что уже было приговорено историей за сто лет до его времени. Умные люди, не зная его «Записки», которая, кстати сказать, долгое время считалась запретным плодом, поняли, однако, что скрывается за трескучими периодами его «Истории».
Надо, однако, заметить, что не холопство, не трусость привели Карамзина на путь государственника. Он, несомненно, был искренним человеком; ни одной измены, предательства, забегания не лежит у него на душе. Всегда, напротив того, держал он себя гордо, независимо и самостоятельно. Но нравственная закваска его была слаба, он не знал особенного уважения к человеческому достоинству, но только стремился к справедливости. Его легкий блестящий ум легко решал самые трудные вопросы и брал поэтому ближайшее решение. А на это ближайшее решение всегда наталкивается простая формула: «мне хорошо, следовательно хорошо и вообще».
Государственник, а во многих случаях даже реакционер, Карамзин, однако, был далек от мракобесия. Надо отдать ему справедливость: он высказал Александру I много горьких истин. Говоря, что к свободе надо приготовить человека просвещением, он спрашивал: «а система наших винных откупов и страшные успехи пьянства – служат ли к тому спасительным приготовлением?» Это зло и метко. Он также рекомендовал «обуздывать господ жестоких», хотя и советовал делать это без шума, «под рукой». Он восставал против все возрастающей армии чиновничества, говоря: «здесь три генерала берегут туфли Петра Великого; там один человек берет из 5-ти мест жалованье; всякому столовые деньги, множество пенсий излишних, дают взаймы без отдачи. А кому? Богатейшим людям!..» И т. д. Не справедливость, а честность – вот знамя, которому он не изменял никогда… Хорошо и это.
Нормальный характер с должной дозой увлечения и благоразумия дал ему возможность совершенно счастливо провести свою долгую жизнь, наслаждаясь любимым трудом, семьей, дружбой, почестями – всем в меру и в свое время. Замечательно, что за 60 лет он не сделал ни одного неосторожного шага, и нужны были лишь русские традиции, чтобы на него писали доносы. К счастью для себя, ко двору он попал поздно, почему придворная жизнь не могла особенно волновать, а ее неудачи – мучить его.
В его даровании не было полных данных для ученого – в настоящее время, например, при повышенных требованиях, никогда бы такой репутации он не приобрел, – но всем, что нужно для журналистов, он обладал в изобилии. Легкий, красивый язык, словоохотливость, щедрая, всегда находившаяся в полном его распоряжении фантазия позволяли ему писать много и всегда сносно. Было у него и достаточно самоуверенности. Он брался за самые разнообразные сюжеты, перепробовал все роды творчества, ни разу не создал ничего вечного и ни разу из рук вон плохого. Он начал с переводов, долго писал стихи, чтение Мармонтеля натолкнуло его на создание повестей. За «Историю» он принялся без всякой специальной подготовки и лишь с обильным запасом красивых афоризмов.
В наших обстоятельствах такие люди нужны, и лучшим доказательством той пользы, которую они приносят, служит то, что имя Карамзина не умерло и по сей день.
Источники и пособия
1. Н. М. Карамзин. Сочинения.
2. М. Погодин. H. M. Карамзин.
3. Н. Старчевский. H. M. Карамзин.
4. Статьи С. М. Соловьева в «Отечественных записках» за 1853 г.
5. Статьи Н. Милюкова в «Русской мысли» за 1893—94 гг.
6. «Воспоминания» Вигеля.
7. Талахов. История литературы.
notes
Примечания
1
не идти
2
«Физическая, духовная, гражданская и политическая история старой и новой России» (фр.)