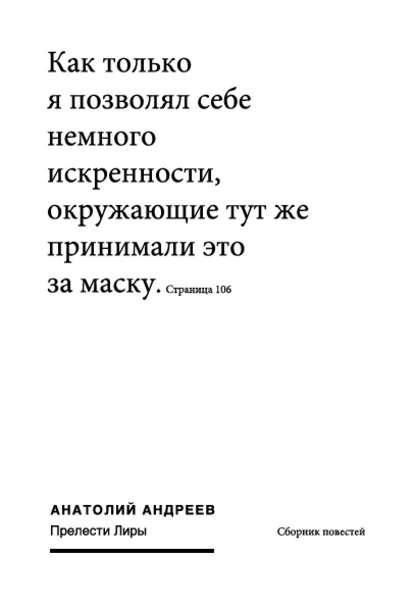По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Прелести Лиры (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мне вдруг резко расхотелось продавать картины. Однако обстоятельства, которые были то ли за, то ли против меня, вынудили Herr Malakhoff пойти на компромисс. У меня, очевидно, просто не было другого выхода. Ренэ не просто торопил; он в мягкой форме поставил жесткий ультиматум. На следующий день он уезжал. Времени на раздумья не было.
И я понес обе картины по указанному адресу. В одной руке я нес холсты в рамах, в другой – пакет с апельсинами для Маруси. Она резко отдалилась от меня. Не обиделась – а именно отдалилась. Она знала, что мне предстоит нелегкий выбор. Сой выбор она уже сделала: она с самого начала решила жить свою жизнь. Она и слышать не хотела об аборте. Ребенка она оставляла независимо от моих решений и от чьего бы то ни было мнения. Меня приятно удивила сила ее характера.
В сущности проблемы выбора передо мной не было. Я выбрал сам себя, свою свободу – то есть союз с Марусей. Но надо было реализовать свой выбор, воплотить его в жизнь. И я не торопил события, мудро, как мне казалось, выжидая. Творческий подъем – был лишь следствием правильно выбранной перспективы. Я все делал, как мне казалось, правильно. Вот и деньги пришлись весьма кстати: тоже следствие верной политики. Когда начинает везти – везет во всем, и по крупному, и в мелочах.
Странно: Марусе нравилась моя творческая активность, жене – не нравилась. Только разменяв шестой десяток лет, я встретил, наконец, свою женщину. Да, затянулась моя молодость. Может, начиналась счастливая полоса в моей жизни?
Я долго не мог найти дом номер пятьдесят. Сорок девять – вот он, я обошел его три раза. Пятьдесят один – рядом, на горочке. Где же дом номер пятьдесят?
Нехорошие предчувствия шевельнулись во мне. Если дома нет, значит, адрес, скорее всего, указан неправильно. Четная сторона обрывалась сорок восьмым домом. О пятидесятом никто ничего не знал. Но это чертовщина! Это же нелепая случайность! Если коллекционер ошибочно назвал мне адрес – я останусь без денег, а мир – без моего шедевра. Этого не может быть! Я только-только собираюсь начать жить. Нельзя отбирать у меня эту возможность: это было бы слишком несправедливо. Слышите?
Однако дом номер пятьдесят как в воду канул. Вернее, я отыскал только фундамент дома, похожий на руины, который был заложен еще несколько лет тому назад. Меня уверяли, что это будущий пятидесятый, желая, очевидно, успокоить меня.
Квартира мне была указана двадцатая. Я обошел все квартиры под номером двадцать во всех близлежащих домах. Телефона mr. Ренэ у меня не было. Приятели, а также приятели приятелей, не говоря уже о друзьях, никакого Ренэ не знали и слыхивать о таком не слыхивали. У меня не было оснований им не верить. Участковый милиционер, молодой лейтенант с перебитым носом, из-под тусклой лампочки скучно смотрел на меня и на упакованные картины и ничего не объяснял. Скорее всего, он даже не понял, о чем идет речь. Спасибо, что хоть отпустил с миром.
Я сделал все что мог.
Сработал Закон дома, и я остался без денег. В утешение мне тучи на небе выстроились в таком грозном порядке, как у меня на картине. Сама природа подражала мне. Наверное, это были хорошие картины. Может, и к лучшему, что мне не удалось их продать?
И я пошел к Марусе, чтобы, наперекор всем законам, объявить нас законными мужем и женой.
9
Наступила уже поздняя осень, а я все еще никак не мог расстаться с летом. Можно сказать, моя жизнь канула в лето. Мне никак не давался простой натюрморт. Апельсины, разбросанные по столу, сколоченному из простых досок. Я заметил одну особенность: когда апельсины растерянно раскатываются, у меня получается печальный натюрморт, а когда они собраны, сбиты в упругую кучку, отчего-то возникает бодрящее чувство. Я никак не мог определить необходимой мне меры разбросанности, и натюрморт не клеился.
Я возился с апельсинами, словно с шарами на бильярдном столе, играя против кого-то решающую партию. При этом кисть я держал, как кий или пику наперевес. Сердце дергалось неровными толчками. Неужели начинался творческий кризис?
Причины для этого были. Собственно, две причины. А может быть, дело было и не в причинах, а в каком-то еще неведомом мне грозном законе?
Причина первая была связана с моей женой. Боюсь, теперь я недооценил степени любви моей жены ко мне (или к себе: в этом было сложно разобраться). Она сделала попытку суицида, грубую и безобразную: отравилась моими, с таким трудом добытыми красками, предварительно наглотавшись каких-то успокоительных пилюль. Ее реанимировали и привели в чувство. Сейчас она лежит в больнице в состоянии глубокой депрессии. Я ношу ей сок. Разумеется, она отказывается видеть меня, хотя неизменно интересуется моими делами (об этом во всех подробностях рассказывает мне сын).
Причина вторая была связана с Марусей. Она тоже лежала в больнице. Ее сбила ехавшая навстречу легковая машина, которая именно в том месте дороги, где находилась Маруся (кстати, по всем правилам дорожного движения бредущая навстречу движущемуся транспорту), поравнялась с грузовиком. Проклятый Закон дороги оказался сильнее условных Правил дорожного движения. Маруся уцелела. Однако в результате шока у нее случился выкидыш. Маруся тоже находится в состоянии глубокой депрессии, и даже картина «Любовь», висящая над ней на стене, мало ее вдохновляет. Я ношу ей апельсины. Она печально смотрит на меня и ничего не говорит.
– Что ты делала на дороге в ночное время, Маруся?
– Хотела убедиться в существовании Закона звезды.
Я опять оказался в ситуации выбора, только я плохо представлял себе, что мне предстояло выбирать на сей раз.
Работаю над повестью. Посвящу ее Марусе. Пытаюсь понять Закон законов, существующий в еще нигде не изданной книге, но царящий в мире легко и непринужденно. Мне помогает в этом природа. Мелкий снежок порошит беззвучно и лениво, словно равнодушный песок в песочных часах. Снег порошит – время утекает.
Вот это равнодушие снега ко времени внушает уважение к природе, которая не терпит пустоты и фальши, заставляет вслушиваться и вживаться в беззвучные ритмы. Время исчезло, пространство перестало иметь значение. Я остался один на один с вечностью в сером многоэтажном доме на окраине большого города…
P.S. Герой этой повести умер от сердечного приступа. Произошло это на улице, среди многочисленных прохожих, в тот день, когда он дописывал свою рукопись. Оскар Малахов неловко завалился на спину, на лице его застыла неопределенная улыбка, глаза были закрыты. Апельсины вывалились из пакета и широко раскатились по холодному асфальту.
Партия была окончена. Это случилось 17. 11. 2003 в 11 ч. 33 мин.
Пустота
1
– Вы несовременны в своих взглядах, – веско стояла на своем Будда, тайная поклонница Маркса, а возможно, и Герострата.
– Да, я проспал эпоху. Зато с какими женщинами! – возразил я в стиле веселых, находчивых и пустых.
– Шутить изволите? – она пыталась испепелить меня коричневым взглядом загадочных некогда глаз.
Я ей сказал:
– Существует несколько способов гарантированно испортить отношения со мной. Среди них есть универсальный: начать учить меня, профессора, как писать программу или учебник по дисциплине, которую я преподаю всю жизнь. Как правило, я охотно иду навстречу невежеству, и мы быстро достигаем результата – абсолютного взаимонепонимания. Вы собираетесь настаивать на том, что моя программа далека от совершенства?
– Вы должны… – последовал стальной скрежет, напоминающий изготовку гаубицы на благоприятной позиции перед решающим залпом.
Дальше я уже не слушал. Во-первых, мне было совершенно неважно, что она скажет после такого начала, а во-вторых, я уже знал, что она услышит в ответ.
«Я никому ничего не должен: запомните же, наконец, эту простую заповедь, когда вы разеваете рот в мою сторону» – было самое мягкое из того, что я сказал. Разумеется, она оскорбилась.
Звали ее Лариса Георгиевна Державная. Была она заведующей кафедрой филологических наук Европейского гуманитарного университета (частного, негосударственного). Лично я звал ее не иначе как Будда – и вовсе не за поразительное внешнее сходство, и отнюдь не за то, что была она из местечкового Буда-Кошелева, а за страсть поучать и повелевать. Даже когда она молчала, подданные трепетали.
Весь сыр-бор разгорелся из-за того, что я походя объявил «Черный квадрат» некоего Малевича мазней, недостойной внимания просвещенной публики.
– Сия блажь достойна лапы годовалого макаки, если в данном случае важно указать на пол художника. Впрочем, годовалая самка, я полагаю, тоже вполне справилась бы, намалевала бы не хуже – хотя бы потому, что хуже не бывает, – завершил я свой краткий спич, обращенный куда-то в пространство и время.
Будда почему-то смертельно обиделась.
– Все считают это шедевром, и вы бы должны…
Словосочетание «вы должны» действует на меня магически. Апокалиптически. Оно ослепляет мое сознание и заставляет забывать об осторожности. Собственно, реакция на эти два самых распространенных в мире слова стоила мне места в Государственном вузе. Я долго не мог растолковать самому себе, в чем тут дело. Наконец, сегодня, кажется, до меня дошло.
Учительство. Все дело в учительстве, которое я органически не выношу. В моем репертуаре общения с неумными и дубоватыми людьми есть один хорошо отрепетированный монолог, доставивший мне в жизни немало хлопот. Но, кажется, он хорошо мне удается, и я иногда не отказываю себе в удовольствии произнести его перед оторопевшим слушателем. «Существует несколько способов…». И так далее. В разговоре с Буддой я привел его почти полностью.
Скажу больше: я терпеть не могу откровенно учительского тона не только по отношению к себе, но и по отношению к кому угодно, даже к детям. Такой тон уместен разве что по отношению к собакам или львам, да и то лишь к тем, которые к учению глухи.
Думаю, что здесь дело не во мне. Дело в закономерностях, порождающих сам феномен учительства.
Какой человек позволяет себе учительский тон – гнусные повелительные и безапелляционные интонации, – интонации, подчиняющие, порабощающие другого человека? А?
Только тот, кто уверен в своем праве повелевать, вести за собой «неразумных».
В основе этого недоразумения лежит все тот же ненавистный мне комплекс: отсутствие ума, следствием чего являются твердые (они же благие) убеждения, определяющие пафос учительства.
Иными словами, учить стремится тот, кто обладает убеждениями, сформированными глупостью. Тип общения, который называется учительство, предназначен для людей, осваивающих жизнь бессознательно.
Вот почему там, где царствует религия, – там культивируется пафос мессианства, учительства. Учитель, окруженный учениками, – это форма удовлетворения социальных потребностей, ибо учить в этом контексте – значит, учить приспосабливаться. Учить в этом смысле – значит, апеллировать к бессознательному, к душе. Вот почему отношения учитель – ученик принято характеризовать как душевные. Главные учителя, полководцы и всемирные главари, разумеется, Христос, Магомет, Будда и иже с ними.
Умный не учит общаться душевно (то есть не учит приспосабливаться); более того, он даже не учит уму-разуму, уже хотя бы потому, что понимает, насколько безнадежно глупы те, кого приходится учить.
Умный принципиально не учит, то есть не становится в позу и позицию учителя; он учит (избранных, себе подобных) постигать законы – учит тому, что жизнью управляют законы, а не учителя. Это самый плохой учитель, которого только можно себе представить. Но в то же время это и лучший учитель: он может обучить искусству познавать нескольких умных, которые, безусловно, нуждаются в руководстве такого наставника. Хороший учитель, как видим, судит по себе; плохой, к сожалению, тоже.
Другие электронные книги автора Анатолий Николаевич Андреев
Девять




 0
0