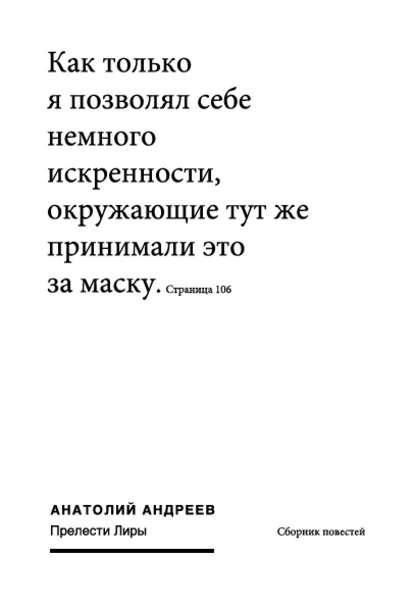По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Прелести Лиры (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Какое-то время понадобилось нам, чтобы прийти в себя. Мы помолчали.
– Если бы у меня не было жены, я бы сказал, что люблю тебя. Но поскольку я не должен этого говорить, я скажу так: мне все труднее и труднее жить без тебя.
– Звучит не очень весело, – улыбнулась Маруся.
– Да, невесело. Придешь завтра ко мне?
– Это невозможно.
– Мы уже столько раз перешагнули через невозможное…
– Это совсем, совершено невозможно.
Я закрыл ей рот поцелуем и одновременно развел рукой бедра.
Маруся вскочила и, ни слова не говоря, медленно двинулась вдоль набережной, давая мне возможность настичь ее и крепко обнять за талию.
– Так почему вы рисуете мерзкие тени? Вы мне так и не объяснили.
– Теперь мне очень просто объяснить тебе это. Если ты придешь ко мне, я покажу тебе одну картину. И ты все поймешь.
– Как называется картина?
– Не знаю. Там изображен пестрый луг. Но я бы назвал картину «Любовь» или «Преодоление смерти». Что-нибудь в таком духе. Из пестроты рождается симфония, из немыслимых сочетаний творится гармония… Это глупо объяснять. Там я справился с тенью. Придешь?
– Вы прельщаете меня «Любовью», милый Малахов? Это жестоко. Обещайте мне, что вы не будете позволять себе…
– Как ты могла подумать такое! – возмутился я и нежно привлек к себе ее губы. Поцелуй был сладким, словно ощущение славно прожитой жизни. Маруся не сопротивлялась.
Она пришла – и это было единственное, что я мог предсказать в тот вечер. Все остальное, случившееся с нами, было неправдоподобно и несбыточно. Как описать реальность нереального?
Приходилось ли вам испытывать странное, потрясающее чувство: на ваших глазах сбываются ваши мечты? Первое впечатление такое: вас или обокрали – или крупно вам недодали. Словом, бедность, невыразительность счастья неприятно поражает. Проходит час – и до вас вдруг доходит: с вами случилось то, что вы считали и считаете полным и невозможным счастьем. Через два часа вы понимаете, что вам больше нечего пожелать. Вдумайтесь: нет ничего такого в целом мире, что отвлекало бы вас от вашего счастья, что могло бы увеличить его. Только здесь и сейчас, и больше ничего не надо. Остановись, мгновенье. Это ведь больше, чем любовь. Страшно только из-за того, что этого могло не произойти. Через три часа эмоции раскалены настолько, что слезы выступают на глаза по всякому поводу. То, что казалось бедным и невыразительным, начинает сверкать и переливаться тропической густотой красок. Через сутки вы уже не знаете, куда вам деваться от боли. Боюсь, слова бессильны…
Маруся отдалась мне в тот момент, когда увидела мой пестрый луг. Все дальнейшее было неторопливым слиянием наших тел. Боже мой, я уже забыл, что значит быть наедине с любимой женщиной. У меня было много женщин, я не утратил вкуса к молодому женскому телу. Но тело любимой женщины… Сказать, что я обезумел, было бы не вполне точно. Я красиво и последовательно сходил с ума. Любое прикосновение к телу Маруси доставляло мне жгучее наслаждение. Я перецеловал ее всю, от бровей до пят. Вот оно, преимущество пятидесяти лет: я совершено точно знал, что мне надо; мне было с чем сравнивать, я ни секунды не сомневался, что обладаю лучшей женщиной в своей жизни. В двадцать лет подобное чувство невозможно. Все еще впереди, все еще только начинается… А я знал, что лучше никогда уже не будет, нет никакого впереди. Есть только Маруся, есть только я, пока еще не старик, который никогда уже не будет моложе, чем есть он сейчас. Только старше, только хуже. Будущее может быть только отобранным настоящим. Ничего другого.
Наверно, Маруся не сопротивлялась. Она едва ли что-либо соображала. Прошел час, второй, третий. Мы почти не разговаривали. Думаю, она была потрясена. Я припадал губами к ее нежной розовой плоти, и мы проваливались в небытие, то есть в такое бытие, где реальностью было только тихое шуршание счастья. Время исчезло, пространство не имело значения. Я крепко обнимал ее, и мы оставались один на один с вечностью. Потом происходила серия вспышек, горизонт лучезарно взрывался и пропадал, истаивая в мягкой темноте, и мы медленно приходили в себя, отыскивая блестящими глазами опавшие лица друг друга. Странно: мне даже в голову не пришло говорить о любви. Не сомневаюсь, это было бы фальшью. Тут речь шла уже не о любви. И мне стало страшно.
Тело моей Маруси, ее движения, ее трепетное дыхание слились для меня в облик одной-единственной женщины. Казалось, у меня никого не было до нее. Ее запах, ее ритм, ее ласки были такими родными, что я не замечал их особенностей. Я только чувствовал, что мне всегда этого не хватало. Ее целомудрие, ее сдержанность, ее многообещающая неприступность переплавились в здоровую легкую страсть, возбуждавшую меня до самой бестелесности.
После того, как силы оставили нас, мы уснули, обвивая руками тела друг друга. Пробуждение было таким легким и радостным, что я почти физически ощутил боль, которая, по моим наблюдениям, всегда бывает равносильной эйфории. Мне всегда приходилось за все расплачиваться в жизни, и взлеты давно перестали радовать меня, ибо они определяли глубину падения. Вот она, каторга пятидесятилетнего: опыт портит все. Блаженство является предвкушением неизбежной расплаты, взлет воспринимается как высота падения. Как же идиотски устроена жизнь! Зачем же я так цеплялся за нее?
Утро было без раздумий отдано любви. Потом Марусе надо было идти.
Через три часа после ее ухода ко мне пришла боль. Настоящая боль в области сердца.
7
Куда могли развиваться наши отношения – трудно было сказать. Однако после этой ночи наши ведущие в тупик отношения окрасились в преступный цвет надежды. Помимо нашей воли. При всей грядущей и сущей безнадеге мы попали под очарование удивительно глупого чувства – открытости финала. Все ясно, никаких иллюзий, и вдруг появляется надежда, что может быть и не так, как должно быть со стопроцентной долей вероятности. Оторви нас в тот момент друг от друга – и мы могли просто физически засохнуть. Вот отчего нам необходима была надежда, хоть на какое-то время. Мы не скрывали друг от друга, что делаем глупость, что у нас нет будущего, и при этом улыбались, держась за руки. Детский сад.
Но тешить себя надеждами можно в двадцать лет. Чувство открытости финала злило меня, как, наверно, злит и дразнит опытного путника в пустыне ускользающий мираж. Нельзя было поддаваться этому завораживающему и гибельному ощущению. А на трезвый и решительный шаг не было сил.
Но иногда ни о чем не надо беспокоиться. Все устроят за вас – и в лучшем виде. Для отбившихся от рук счастливцев у судьбы всегда припасено несколько взбадривающих и отрезвляющих пилюль. Природа, как известно, не терпит пустоты. Что я имею в виду в данном случае?
Беременность. После первой же нашей ночи у Маруси наступила беременность.
Наша жизнь, исковерканная счастьем, сорвалась и покатилась под откос. Было не разобрать, то ли она сломана, наша жизнь, то ли выстраивается заново. Мне предстояло объяснение с женой, которое я, не привыкший обманывать себя, называл не иначе как избиением или истреблением младенцев. Нет-нет, речь шла не о Марусиной беременности, а о младенческом неведении моей жены, о ее неготовности увидеть жизнь с этой стороны. Я был для нее гарантом здравого смысла, честности и справедливости. Я служил опорой, был качеством и свойством мира. Мир был таким, потому что в нем был я. Меня это устраивало, даже где-то льстило моему умению так привязывать к себе людей, и я сам приложил немало усилий к тому, чтобы жена оказалась человеком беспомощным. И вот теперь мне предстояло задушить ее собственными руками.
Теперь я проклинал всякую ложь, особенно ложь во спасение. Если бы жена знала меня таким, каким я был на самом деле, мне не пришлось бы исполнять роль палача. А палачом я должен был стать непременно. Было две жертвы, или даже четыре, если считать моего сына и еще не родившегося ребенка.
В тот момент я забыл, что жена не смогла бы жить со мной настоящим, не приукрашенным слегка, и никто бы не смог, даже я сам, поэтому я и прикидывался другим. Когда это началось?
Я с чистой совестью стал казаться не тем, кем я был на самом деле, очень давно. Сейчас даже и не вспомнить. Я очень рано и счастливо открыл для себя закон взрослых: быть самим собой – неприлично и невозможно. Это табу. Очень быстро и прочно я усвоил главный принцип бытия, который заключался в том, что все почему-то должны обитать одновременно в двух разных мирах: в условном, который видят все, и за поведение в котором тебе выставляют безусловные оценки, и безусловном, своем, личном, где втайне удивляешься идиотизму мира условного. Я позволил себе посмеяться над дамой, похожей на бульдога – и на меня тотчас спустили собаку. В сущности, собака здесь не при чем; это дама покусала меня. За что? За то, что я позволил себе быть самим собой. И дело даже не в том, что у меня был свой особый, скрываемый ото всех мир. У каждого есть свой мир. Это еще не преступление. Дело в том, что я очень быстро сообразил, что такие, как я настоящий, на этом свете не живут. Им просто не позволят жить по своим правилам, не позволят смеяться над другими. Вот почему я делал вид, что мне нравится манная каша, арифметика и пионерский лагерь. Мне «нравились» классная руководительница и равнодушный ко мне отчим. Я скрывал, что обожаю краски, и скучным тоном просил купить акварель «на нужды класса». Отчим злился, я делал вид, что понимаю его гнев. По-другому выжить было нельзя.
Потом я научился делать вид, что выдуманное сочетание красок – это великое искусство, а великое искусство – это коммерческий успех. Я научился делать вид, что уважаю почтенную публику и очень ценю ее мнение, хотя на самом деле презирал и то, и другое.
И вот теперь по правилам этого мира я не должен был любить Марусю. Это было неприлично. Я должен был сделать вид, что испытываю к ней нежные отеческие чувства, которых мне недодали в детстве. «Ты не забыла надеть варежки? Надень штанишки: девочкам вреден холод».
Я смотрел на Марусю и думал: мог ли бы я прожить другую жизнь, в которой я был бы самим собой? Можно ли отменить закон, предписывающий жить одновременно в двух мирах?
Жена выслушала меня с холодной вежливостью. Переспросила, правильно ли она поняла, что я собираюсь от нее уходить. К другой, правильно? Я подтвердил, что с большим сожалением вынужден это сделать. Ребенок? При чем здесь чужой ребенок? Я ответил, что это мой ребенок. После этого жена пообещала, что покончит жизнь самоубийством и достанет меня даже на том свете, даже если ради этого ей придется спуститься в ад. Я был тронут такой преданностью. Впервые в жизни мне показалось, что я недооценил степени жизнеспособности своей родной жены. Мне даже показалось, что она давно догадывалась, кто я есть на самом деле. Может, не догадывалась, но все же была готова к тому, что я могу оказаться живым и сложным человеком.
Боюсь, что и она давно жила в двух мирах. Мне было в жесткой форме указано на то, что у всех случается «седина в бороду – бес в ребро». Для художника – это норма. Случается – и проходит. Это закон. Надо возвратиться к жизни, которая струится в режиме «ничего не случилось и случиться не может». И все забыть. «Так надо. Так живут все». Последние слова жена повторила, как заклинание, как цитату из книги, которая священна для всех людей, и потому правота ее не подлежит сомнению.
8
С какого-то времени меня не покидало ощущение, что я не просто живу, не просто решаю свои, человечьи, проблемы, но при этом сражаюсь с Кем-то или Чем-то невидимым, опутавшим меня паутиной дурацких законов, священных для кого-то обязательств, железных принципов. Все эти правила были направлены против меня, но как-то легко не замечались другими. Тут был тоже какой-то закон, но мне не хотелось формулировать его – и тем самым закабалять себя еще больше. Я и так был за решеткой.
Существовал какой-то невидимый, неосязаемый и негласный, но несомненный заговор против меня, против моего права быть самим собой. Я что-то нарушал, переходил какую-то грань – становился преступником. Все это было как-то связано с Марусей. Не только с ней, конечно, однако в первую очередь с ней.
Во мне все больше и больше вскипала и нарастала волна сопротивления. Мне предлагалось как приличному человеку стыдиться своей любви, прятать глаза, чувствовать себя виноватым. Мне же хотелось возражать все громче и громче, и все выше поднимать голову, чтобы оттуда, с высоты, наплевать на их книгу.
Я не просто любил Марусю, я незаметно для себя втянулся в сражение за свободу человека. На каком-то этапе меня пронзило волшебное и гибельное чувство: ощущение, что мне нечего терять. Я был опьянен чувством свободы. В такой момент человек становится неудержим: он готов либо победить, либо умереть. Это страшная решимость, потому что она делает человека уязвимым и нежизнеспособным. Он может только побеждать; жить он не может.
Но как же все, опутанные паутиной законов и связанные невидимыми нитями, чувствуют, что ты бросаешь им вызов, хотя ты и не думал оповещать их о том, что вышел на тропу войны! Казалось бы, какое дело бельгийцам и немцам до моих проблем? Но они перестали покупать мои картины, тем самым грубо вмешавшись в мою личную жизнь и проявив солидарность со всеми теми силами, которые выступали против меня. Разве не заговор?
Толпы дилетантов по-прежнему посещали мою мастерскую, моя репутация неподражаемого колориста, к сожалению или к счастью, все еще работала на меня. Но они тут же поджимали губы, когда я им вместо дешевых колористических разводов подсовывал нечто для них неожиданное: пестрый луг под названием «Любовь», косматые «Тучи», от которых они отскакивали, как ужаленные, многочисленные портреты моей Маруси, пушистых кошек, которых обожала Маруся, небеса.
У меня стала появляться другая репутация. Пошел слушок (пущенный друзьями, не сомневаюсь), что я деградирую. Мои лучшие картины они посчитали деградацией! Придумайте способ, как досадить мне больнее! Можете и не стараться. Это древнейший и вернейший способ борьбы всех против одного. Им, друзьям, недругам и всем, кому на меня наплевать, нужна была сиреневая мазня, я это отчетливо понимал. Я должен был сделать вид, что слегка почудачил, и вернуться к своим условным теням, облакам и деревьям, – всему тому, что при известной сноровке мог бы намалевать любой пьяный бобер своим мокрым хвостом. Мне нужно было отказаться от себя – и тогда бы мне все простили, да еще и приняли в свои ряды как героя.
Но я с некоторой гордостью, которая смешивалась с колким холодком в груди, чувствовал, что меня физически отвернуло от мазни. Я просто не мог, не в состоянии был отказаться от себя: вот в чем была моя проблема. Я вмиг разучился рисовать незамысловатые колористические композиции, которые были под силу любому презренному маляру, и даже маляры имели право меня презирать.
Я работал до изнеможения, как бешеный, над целой серией картин, сюжеты которых, оказывается, поднакопились в запасниках моей памяти за целую жизнь. Оказывается, я душил сам себя, успешно переселившись в свой условный мир, и не давал моему дару раскрыться. Любопытные, оригинальные идеи и цветовые решения тихо угасали в моем воображении, сворачиваясь тлеющими комочками, но не исчезая окончательно. И вот сейчас, к моему удивлению, они встряхивались и оживали, словно спящие до поры до времени бабочки, обретая второе рождение. Их крылья чутко вздрагивали, будто хрупкие опахала, они легко отталкивались и без напряжения снимались и улетали. Бабочка за бабочкой. Целый рой картин создавался сам собой. Одних видов Свислочи набралось более десяти.
Я так и не добил сам себя; я все еще жил, подчиняясь какому-то антиобщественному закону.
Плотину прорвало. Меня знобило от творческой лихорадки, однако у меня заканчивались краски, на исходе были холсты. Мне позарез необходимо было продать несколько картин. Для того чтобы оставаться собой, надо было понравиться им. Я бы ни секунды не задумываясь проткнул насквозь своей лучшей кисточкой автора этого прелестного закона.
И чудо свершилось. Нашелся один бельгиец, который, судя по всему, влюбился в мой пестрый луг. Он также очень заинтересовался картиной «Тучи», а я, конечно же, им. Его звали Ренэ. Я не видел его, и даже не представлял себе: они все были для меня на одно бюргерское лицо. Он связался со мной по телефону, честным баритоном сдержанно похвалил картины (я почувствовал, что он сделал вид, будто бы спокойно относится к моему лугу), – и я оторопел от названной им суммы. Это была фантастическая для меня сделка. С огромным количеством нулей. Мои финансовые проблемы решались на многие годы вперед. Бельгиец был не собирателем мазни с претензиями, а частным коллекционером с именем. Картина моя не исчезла бы, не канула в Лету провинциальной коллекции (милая Лета всегда представлялась мне в виде одной из живописных излучин Свислочи), а, напротив, стала бы появляться на выставках. Все это четко оговаривалось в контракте. По-моему, Ренэ учуял что-то небывалое. В таком случае картина уходила к нему за гроши.
Другие электронные книги автора Анатолий Николаевич Андреев
Девять




 0
0