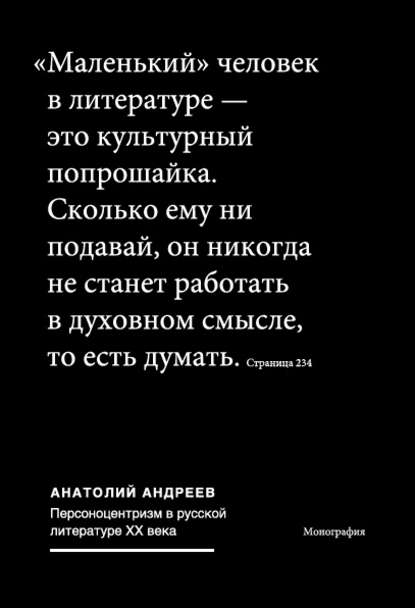По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Персоноцентризм в русской литературе ХХ века
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мораль на нас наводит сон,
Порок любезен – и в романе,
И там уж торжествует он.
Почему же «порок» (мораль индивидоцентризма) «торжествует»?
Именно потому, что «умы в тумане» (хотя шустрому интеллекту кажется, что он все раскрепостил, то есть сделал порок «любезным», нормальным). С этой точки отсчета все и начинается, чтобы ею же и закончиться.
4
Давайте восстановим логику развития литературы, – логику, заложником которой стал неповторимый Набоков.
Вначале было то слово, которое «от Бога», то есть слово нормативно-моралистическое, серьезное, выполняющее целый спектр возложенных на него общественных функций: образовательно-воспитательных, познавательных, мировоззренческо-идеологических. Это было слово в формате «культурного регламента», слово, стоящее на страже тех догм, которые, по святому убеждению писателей, делали человека человеком. Литература по умолчанию становилась способом очеловечивания, а писатели по определению – теми «человеками», которые верили в духовные возможности «слова». В этой цепочке не было места дешевому вранью или манипулированию; принято было бескомпромиссно искать и, как водится, заблуждаться, честно и искренне. В чем в чем, а в благих намерениях такой литературе было не отказать.
И надо признать: литература была инструментом духовного совершенствования и человека, и общества. Это был великий век иллюзий, когда литературные утопии имели колоссальный авторитет. От Грибоедова – до Чехова, Шолохова, Булгакова… Да, были люди в свое время. «Хорошая, качественная, честная литература» и «культурный прогресс» были синонимическими понятиями. Читатели такой литературы были интеллигенцией и, соответственно, «солью земли». Где-то даже пастырями (то есть не только овцами). Властителями дум. Все остальные – паствой, которую надо было просвещать и спасать. Самые умные люди были убеждены, что хорошего человека можно воспитать, прежде всего с помощью хорошей литературы. Измените общество – и вы измените человека: это один вариант, насильственно-революционный; измените человека – и общественные нравы изменятся в сторону улучшения сами собой: это ненасильственный, хотя и не менее утопический вариант. И там и там – ставка на литературу как на инструмент мощного и эффективного психо-идеологического («душевного») воздействия.
Потом случилось то, что и должно было случиться: революции, войны и всевозможные социальные катаклизмы ХХ века (как-то: религиозно-этническая и расовая «неприязнь», терроризм, нехватка ресурсов и т. д.) наглядно показали, что, во-первых, человека воспитать невозможно; во-вторых, улучшению не поддаются и общественные нравы. Реальная природа человека и наши представления о его «духовной природе» оказались по разную сторону баррикад. Война всех против всех приобрела всемирно-исторические формы. В такой ситуации литература и ее функции резко изменились. Наставническая литература пастырей и духовных гигантов мгновенно оказалась прошлым человечества; на авансцену выдвинулась литература как забава и игра (это мироощущение, в частности, стала обслуживать идеология и художественная практика постмодернизма).
Постепенно и неизбежно сложились два полюса: те, кто настаивает на сакральной и культурной миссии литературы против тех, кто не признает за литературой функций «духовного производства». И те, и другие стали говорить о смерти литературы: первые с ностальгическим сожалением и апокалиптическим страхом, вторые – с легкомысленным восторгом отрекшихся от претензий «быть человеком».
Литература «библейской», канонической направленности (старой, доброй, чаще всего, почвенной) и литература «без царя в голове», а также без руля и без ветрил: вот две системы ценностей и две мировоззренческие парадигмы. Первую точнее всего назвать социоцентризмом, вторую – индивидоцентризмом. И устарела старина, и старым на новый лад бредит новизна. Третьего нет и не дано. Куда ж примкнет наш герой-писатель, «куда ж поскачет наш проказник», как говаривали в старину?
Мы все действительно вышли из шинели (если под «шинелью» понимать «доспехи героя», непременную атрибутику «сражения за идеалы»). Нас воспитывали как героев – на литературе социоцентрического типа, то есть литературе, озабоченной ценностями, актуальными для общества в большей степени, нежели для личности. Сначала общество, народ – потом индивидуум, отдельный человек: таково кредо традиционно ориентированной литературы. В центре такой литературы – герой и проблемы, связанные с героизмом: трагизм и сатира (не путать с трагикомизмом).
Главная проблема сегодня заключается в том, что литература современная стала ориентироваться исключительно на индивидуум (не путать с личностью, которая не равнодушна к общественным вопросам!). Современная литература – гейм-литература – исследует феномен индивидоцентризма.
В определенном смысле мы имеем дело со снижением духовной планки и одновременно с повышением планки интеллектуальной (ибо попытаться стать выше «глупого» общества можно только с помощью интеллекта). Индивидуум минус личность – это живот плюс душа, примыкающая к животу. Отдельная особь минус личность – это минус принципы, минус осмысленное отношение; это человек минус культура; в остатке имеем разрушительное эгоистическое начало, потому разрушительное, что озабочено оно развлечением, тем самым «зрелищем», что превращает человека общественного либо в человека толпы, либо в асоциальный элемент (правда, все это пышно именуется «соблюдением прав человека»; о «правах личности», обратим внимание, речи не идет, будто личности вовсе не существует в подлунном мире).
Поесть, поспать, а после меня хоть потоп: вот по большому философскому счету кредо человека, не желающего быть ни личностью, ни героем. Индивид в отличие от личности – существо асоциальное, ибо он не предлагает конструктивных стратегий сосуществования с обществом; его не интересует формат мировоззрения, он живет исключительно мироощущением, феноменами психическими, фантомными, иллюзорными; при этом он парадоксально весьма и весьма почитает интеллект, превращая его в инструмент развлечения и ничего не желая слышать о диалектических «кознях разума», жестко ставящего индивид на подобающее ему место. Пример подобной литературы – творчество В. В. Набокова в целом, в частности его роман «Лолита».
Поскольку в информационном космосе индивида нет «верха» – актуализируется «низ» (то есть ценности варваров: пожрать, поспать). Здесь может быть организован по-своему тонкий мир, здесь может царить эстетика, и даже интеллектуальная игра, заменяющая содержательную пустоту (что еще можно понять) пустотой содержания. Но здесь нет и в принципе не может быть ответственного отношения к личности и обществу. В плане стратегий художественной типизации, в плане пафосной организации «картины мира» мы имеем дело с различными модусами иронии, с модусами деконструктива, пустоты.
Таким образом, от социоцентризма к индивидоцентризму означает (в плане духовно-эстетического движения): от тотальной героики – к тотальной иронии.
5
А теперь представьте, что перед вами стоит задача опоэтизировать индивид, человека, отчужденного от духовной деятельности. Что вы станете делать?
Вам не останется ничего другого, как эстетизировать сомнительные проявления ничтожества, душевно-психологические проявления, само собой, какие же еще (ибо больше за душой ничего нет – zero, пустота), и обратиться при этом к тому фрейдизму, который и самого автора разоблачает как человека без внятного мировоззрения, человека, погрязшего в тенетах мироощущения. В этом контексте и дутый аристократизм превращается в модус пошлой бездуховности. Писатель-аристократ стал певцом пошлости, против которой он так решительно выступал. И Набоков, конечно, не фрейдизма боялся; он боялся себя, личности в себе, своей чуткости к экзистенциальным проблемам, давящим на индивида без его на то согласия.
В этом месте хотелось бы сказать несколько слов в защиту фрейдизма в частности, и психоаналитической технологии вообще.
Мне не приходилось слышать, чтобы о психоанализе говорили как об инструменте духовного совершенствования, как о персональном, личностном инструменте. Фрейдизм в контексте буржуазного индивидоцентризма выступает действительно как инструмент разоблачения коварства психики. Технология извлечения смыслов из глубин бессознательного направлена на то, чтобы изобличить «человека-подлеца». Вот почему «фрейдизм» бессознательно, но устойчиво связан с понятием «мутные глубины потемок души». Психоанализ (анализ психической содержательности, то есть пустоты) попадает в ассоциативную цепочку «бессознательное – деструктивное – безнравственное – деградация». Говорим психоанализ – подразумеваем «негатив», «минус личность». Анализ по умолчанию стал инструментом ковыряния в отстойниках души. Там, где фрейдизм, – там и грязь.
Что ж: за что боролся, на то и напоролся. Это верно, но верно отчасти, тогда верно, когда речь идет о бездуховном человеке-индивиде. Фрейдизм вскрывает то, что есть: пустоту, гуманистическую бессодержательность – цели и мотивы жалких интеллектуалов в лучшем случае. Вскрывает тотальную зависимость человека от того уровня витальной базы, которая берет свое начало в инстинктах. Происходит та самая редукция человека «к паху».
Однако бессодержательность может быть отправной точкой в деле построения личности, персоны; в принципиальном плане можно наполнить духовный мир содержанием. Этим занимается уже не фрейдизм, а сознание, разум человека. При таком типе личности, такой духовной структуре анализ бессознательного не ограничивается разоблачением фокусов психики как таковых; поскольку речь идет о ценностной ориентации, о системе и иерархии ценностей, анализ бессознательного превращается в анализ духовных технологий. Предмет исследования (анализа) принципиально меняется: мы уже анализируем не ту психику, что обслуживает подбрюшье (почти зоопсихологию), а ту, что реагирует на духовные коллизии (так сказать, ментальную психологию). А это уже иная информационная инстанция. Но это возможно, повторим, только тогда, когда речь идет о личности.
У Набокова личностей нет. Нет – и все. Его герои – жалкие индивиды. Зачем ему психоанализ? Он ему не нужен в сколько-нибудь значительном объеме – не нужен постольку, поскольку в его опусах, то есть в его картине мира, не присутствуют такие духовнообразующие полюса, как конструктивная «диалектика ума» и находящаяся в нигилистическом кураже «диалектика души». Вот такой предмет – диалектический спарринг ума и души – не является предметом Набокова. Он им брезгует, не разглядев его культурного потенциала. У Набокова все попроще, это вообще простой писатель (с точки зрения содержательности). Однако начал психоанализа, поверхностной аналитики в его произведениях хоть отбавляй. Иногда это становится собственно содержанием произведения, как, например, в рассказе «Ужас». Но движения, колебания, трепет души – это отнюдь не духовность, это именно суррогат духовности, так сказать, реабилитация индивида, наделение его некой «сверхтонкостью», которая ошибочно принимается за «глубину». Герой трепещет, как бабочка, обозначая как бы бездны глубин. Увы, нет иной глубины в человеке, кроме глубины ума.
6
За доказательствами обратимся к анализу маленького шедевра модерниста В.В. Набокова – рассказу «Рождество», который исследует ту же трагическую дихотомию (экзистенциальную дихотомию, как сказал бы Э. Фромм), что и многие произведения реалистической прозы, например, гениальная повесть Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича». Мотив преодоления отчаяния перед неизбежной смертью – в центре рассказа. Думаю, произведение это в определенном смысле является ключом ко всему лучшему, что создано Набоковым.
Концепция личности, сотворенная Набоковым, считавшим, что он не создает никаких концепций, не столь глубока и не столь насыщена диалектикой, как у Толстого. Набоков, на первый взгляд, бежит от каких бы то ни было идей (в соответствии со своими знаменитыми эстетическими декларациями). Рассказ вроде бы ни о чем, если не считать содержанием претензию на бессодержательность. «Просто красиво» написан, не более того. И все же мы попытаемся найти ключ к набоковской «чистой, безыдейной» поэтике. А ключ ко всякой поэтике, если она хотя бы отчасти является таковой, всегда лежит в области содержания. Принципиально иные методологические подходы, конечно, существуют, но они давно уже исчерпали конструктивный ресурс своих возможностей.
Присмотримся к сердцевине любого художественного произведения – к принципам обусловленности поведения героя, которые всегда пафосно окрашены (оценены). «Принципы» (точка зрения или логика персонажа) плюс «пафос» (авторская позиция) – вот важнейшие составляющие творческого метода писателя, которые воплощаются в стиле. Творческий метод Набокова чрезвычайно любопытен.
Активных действующих лиц в рассказе – всего двое: некто Слепцов и Тот, Кто повествует о произошедшем: повествователь. В субъектной организации произведения нет ничего необычного: смысловая «стереоскопичность» достигается способом традиционным – путем совмещения разных субъектов речи и, что принципиально, разных субъектов сознания (последние в отличие от первых отмечены разностью мировоззренческих позиций). Если характер Ивана Ильича (героя повести Толстого) прослежен с самых истоков его формирования до сложнейшей трансформации в конце произведения, то характера Слепцова как такового в рассказе нет. Он (характер, то есть специфически структурированная информационная система, в которой сопряжены несколько субъектов сознания, внутренне конфликтующих друг с другом) абсолютно не актуален, в нем нет нужды, поскольку Слепцову доверено быть носителем информации одноплановой, одномерной, непротиворечивой. Слепцов как субъект сознания, выражающий информацию одномерную, является типом, но не характером. Тип и характер, таким образом, – это принципиально разные информационные (следовательно, духовные) возможности. (Отметим, кстати, и такую художественную – следовательно, духовно-информационную – возможность: если перед нами характер героя, пересекающийся в духовном плане с характером повествователя, то мы имеем дело с целым спектром организованных точек зрения, а не с двумя «персонажами». Формально мы воспринимаем два субъекта сознания, но поскольку каждый из них является характером, вбирающим в себя несколько типов, то фактически мы имеем дело с таким «объемным» субъектом сознания, который вмещает в себя иные субъекты сознания. В результате нам предлагается то, что часто называют моделью мира, то есть целую систему отношений, которая состоит из разных позиций – мировоззренческих, духовных позиций. Множество точек зрения, множество типов отношений – вот вам и мир. Из этого следует: небольшое произведение может обозначить информационные возможности большого мира. Собственно, это и значит реализовать художественный потенциал малого жанра.)
Вот почему в рассказе преобладает лирический принцип типизации героя. Психологически поведение героя вполне реалистически обусловлено. Но психологический рисунок «Рождества» не выводит нас на глубокие нравственно-философские проблемы, ибо не обусловлен ими; тип психологизма Набокова (разновидность «тайного» психологизма) ничем не напоминает Толстого. Функция этого «условного» психологизма – иная.
Если отсутствует характер героя – следовательно, нет соответствующей ситуации, конфликта, сюжета и т. д. по всей стилевой парадигме; словом, нет соответствующей поэтики. Что же тогда есть?
Есть иная поэтика, соответствующая иному принципу типизации. Прежде всего, Слепцов один, если не считать слуги Ивана, подчеркнуто эпизодического лица (повествователь по законам рода и жанра «как бы невидим»). Одиночество само по себе есть всегда сублимация смерти; это отчужденность, выброшенность из жизни. И Слепцов пытается что-то противопоставить идее смерти, найти контраргументы в пользу жизни. В этой скрытой, невидимой схватке, которую тонко комментирует повествователь, победителем выходит Слепцов.
Однако сама по себе схватка, которая привела к «рождеству» нового эмоционально-мыслительного (медитативного) состояния, происходит вне всякой связи с конкретными обстоятельствами жизни героя. Сказать о Слепцове «среда заела» – невозможно, потому что вокруг него нет никакой среды. Его социальная обозначенность весьма условна. В данном случае герой Набокова почти метафизичен, вынут из среды, не вырастает из социума и не обуславливается им. Это явно «лирическая» по родовой своей характеристике ситуация. Вот почему Слепцов лишен характера; противоречия же, мучающие его, – вечные противоречия, обусловленные не средой, а природой человека как таковой.
Таким образом, главное в рассказе – логика смены умонастроений, и логика эта не определяется ни социальной, ни биологической детерминированностью героя. Думается, перед нами все же потенциально реалистическая проза, хотя формальных признаков реализма вроде бы и недостаточно. Однако если сами идеи мало мотивированы, то психологическая зависимость от идей и обратная связь психологии с идеями явственно ощутима.
Начало рассказа задает эмоциональный тон повествованию.
«Вернувшись по вечереющим снегам из села в свою мызу, Слепцов сел в угол, на низкий плюшевый стул, на котором он не сиживал никогда. Так бывает после больших несчастий. Не брат родной, а случайный неприметный знакомый, с которым в обычно время ты и двух слов не скажешь, именно он толково, ласково поддерживает тебя, подает оброненную шляпу, – когда все кончено и ты, пошатываясь, стучишь зубами, ничего не видишь от слез. С мебелью – то же самое. Во всякой комнате, даже очень уютной и до смешного маленькой, есть нежилой угол. Именно в такой угол и сел Слепцов».
Лексика явно окрашена в печально-сентиментальные тона (большие несчастья, брат родной, стучишь зубами, ничего не видишь от слез). Детали также активно участвуют в создании «печального» фона (вечереющие снега, низкий плюшевый стул, нежилой угол). (Трудно удержаться от указания на весьма красноречивую деталь: пуф под Слепцовым не только не бунтует, но «ласково поддерживает» хозяина. И это можно сказать вообще обо всей мебели, обо всех вещах. Взаимоотношения героев «Рождества» с вещным миром диаметрально противоположны аналогичным взаимоотношениям героев «Смерти Ивана Ильича» Л. Толстого.) Одинокий человек, сидящий в нежилом углу, контакт с вещами – все это явно символично. Кроме того, лирическая экспрессия задается и ритмом прозы (и не в последнюю очередь – ритмом). Отрывок естественно разбивается на речевые такты, содержащие, приблизительно, по три ударения (это относится почти ко всему приведенному абзацу).
Итак, мы видим, что актуализированы специфически лирические (лирики как рода) поэтические средства. Далее отметим явное желание лирического героя (то есть повествователя) не остаться на заднем плане, его активность в подаче материала (что делает этот персонаж «зримым», выводит его из тени главного героя). «Ты и двух слов не скажешь», «поддерживает тебя», «ты… стучишь зубами»: «ты» – это не только обобщение лирического героя, но и обобщение, «конструирование» читателя определенного типа, читателя-единомышленника. Непосредственное обращение к тебе, читателю, устанавливает с тобой прямой контакт, без посредничества Слепцова.
Сдержанная безысходность героя передается мастерски выписанным овнешненным (тайным) психологизмом. Мы видим героя со стороны, словно вещи, которые его окружают. «Тогда Слепцов поднял руку с колена, медленно на нее посмотрел. Между пальцев к тонкой складке кожи прилипла застывшая капля воска. Он растопырил пальцы, белая чешуйка треснула». Эти три строчки последнего эпизода первой главки в рассматриваемом стилевом контексте многого стоят по выразительности. «Поднял руку с колена»: он сидит, тяжело опершись на колено, в «позе горя». Медленность жеста отражает замирающую, умирающую внутреннюю жизнь – кожа превращается в воск. «Капля воска между пальцев» – это и свидетельство посещения церкви. «Он растопырил пальцы, белая чешуйка треснула»: бессмысленность жеста является симптомом шокового состояния Слепцова; трещина, появляющаяся у него на глазах, – явный символ разлома, катастрофы, свершившейся в его жизни.
Избранные как бы скупые поэтические средства (добавим сюда строгий ритм, демонстративно «бесстрастную» интонацию, «гладкую» звукопись) предельно функциональны и выразительны. Горе передано настолько неестественно красиво, что уже и не воспринимается как настоящее горе, оно сразу же покрывается налетом условности. Условная «изящная» скорбь: этого-то впечатления и добивается писатель Набоков!
Еще раньше, в третьем фрагменте первой главки, появляется Иван, «тихий тучный слуга, недавно сбривший себе усы», который внес лампу и «беззвучно опустил на нее шелковую клетку: розовый абажур». Во всем этом композиционном фрагменте, совпадающем с эпизодом сюжета, поражает потрясающая, ничего не пропускающая наблюдательность повествователя (пока сложно сказать, можно ли отнести ее и к Слепцову). Хозяин сидит – «словно в приемной у доктора». На стекле – «стеклянные перья мороза», вечер – «густо синеет». Слуга – «недавно сбривший себе усы», абажур – «розовый». Конец фрагмента таков: «На мгновение в наклоненном зеркале отразилось его освещенное ухо и седой еж. Потом он вышел, мягко скрипнув дверью».
Казалось бы, какое нам дело до того, давно или недавно сбрил себе усы слуга? И почему так важно, что он «тихий и тучный»? Или, если угодно, вот еще пример (из третьей главки): «Слепцов взял из рук сторожа лампу с жестяным рефлектором». Какое отношение к горю Слепцова имеет «жестяной рефлектор»? Или усы?
Мало того, что никакого: эта вызывающе немотивированная цепкость внимания раздражает своим желанием ничего не пропустить – то есть уравнять важное с неважным, Слепцова с Иваном, Ивана с лампой. Следовательно, все это имеет отношение к горю Слепцова – но вовсе не является тем отношением, на которое рассчитывает читатель, привыкший к «нормальной» художественной и житейской логике. Перед нами какая-то другая логика, реализованная в других отношениях. Зрительная, слуховая, осязательная, чувственная жадность к миру вещей (наряду с равнодушием к миру идей и концепций), желание ничего не пропустить и все назвать, зафиксировать, запечатлеть (и при этом специально пропустить «умные вещи»), конечно, не случайны. Сознание повествователя, словно зеркало или рефлектор (буквальные образы рассказа), отражает попавшие в пределы его досягаемости объекты. Отражается внешний ряд, а не то, что стоит за ним (в данном случае за ним пока обнаружить ничего не удается, обнаруживает себя пустота). Может быть, это и есть то самое чистое, безыдейное и, следовательно, бессодержательное искусство с его «иной» логикой: искусство, несомненно, присутствует, а содержательность при этом отсутствует?
Проверим наши наблюдения дальше. Во второй главке творится что-то невообразимое. Немного в мировой литературе найдется страниц, так изысканно поэтизирующих заурядную материальность мира, так тонко воплощающих эстетическое торжество зрения и слуха: «Когда на следующее утро, после ночи, прошедшей в мелких нелепых снах, вовсе не относящихся к его горю (горе горем – а сны снами: сны вовсе не являются отражением душевных процессов, что является свидетельством восхитительного рассогласования, художественным подтверждением той «истины», того содержания, что ни одно содержание не определяет другое содержание, все как-то существует само по себе, бессодержательно – А.А.), Слепцов вышел на холодную веранду, так весело выстрелила под ногой половица и на бледную лавку легли райскими ромбами отраженья цветных стекол. Дверь поддалась не сразу, затем сладко хрустнула, и в лицо ударил блистательный мороз. Песком, будто рыжей корицей, усыпан был ледок, облепивший ступени крыльца, а с выступа крыши, остриями вниз, свисали толстые сосули, сквозящие зеленоватой синевой. Сугробы подступали к самым окнам флигеля, плотно держали в морозных тисках оглушенное деревянное строеньице. Перед крыльцом чуть вздувались над гладким снегом белые купола клумб, а дальше сиял высокий парк, где каждый черный сучок окаймлен был серебром и елки поджимали зеленые лапы под пухлым и сверкающим грузом».
Порок любезен – и в романе,
И там уж торжествует он.
Почему же «порок» (мораль индивидоцентризма) «торжествует»?
Именно потому, что «умы в тумане» (хотя шустрому интеллекту кажется, что он все раскрепостил, то есть сделал порок «любезным», нормальным). С этой точки отсчета все и начинается, чтобы ею же и закончиться.
4
Давайте восстановим логику развития литературы, – логику, заложником которой стал неповторимый Набоков.
Вначале было то слово, которое «от Бога», то есть слово нормативно-моралистическое, серьезное, выполняющее целый спектр возложенных на него общественных функций: образовательно-воспитательных, познавательных, мировоззренческо-идеологических. Это было слово в формате «культурного регламента», слово, стоящее на страже тех догм, которые, по святому убеждению писателей, делали человека человеком. Литература по умолчанию становилась способом очеловечивания, а писатели по определению – теми «человеками», которые верили в духовные возможности «слова». В этой цепочке не было места дешевому вранью или манипулированию; принято было бескомпромиссно искать и, как водится, заблуждаться, честно и искренне. В чем в чем, а в благих намерениях такой литературе было не отказать.
И надо признать: литература была инструментом духовного совершенствования и человека, и общества. Это был великий век иллюзий, когда литературные утопии имели колоссальный авторитет. От Грибоедова – до Чехова, Шолохова, Булгакова… Да, были люди в свое время. «Хорошая, качественная, честная литература» и «культурный прогресс» были синонимическими понятиями. Читатели такой литературы были интеллигенцией и, соответственно, «солью земли». Где-то даже пастырями (то есть не только овцами). Властителями дум. Все остальные – паствой, которую надо было просвещать и спасать. Самые умные люди были убеждены, что хорошего человека можно воспитать, прежде всего с помощью хорошей литературы. Измените общество – и вы измените человека: это один вариант, насильственно-революционный; измените человека – и общественные нравы изменятся в сторону улучшения сами собой: это ненасильственный, хотя и не менее утопический вариант. И там и там – ставка на литературу как на инструмент мощного и эффективного психо-идеологического («душевного») воздействия.
Потом случилось то, что и должно было случиться: революции, войны и всевозможные социальные катаклизмы ХХ века (как-то: религиозно-этническая и расовая «неприязнь», терроризм, нехватка ресурсов и т. д.) наглядно показали, что, во-первых, человека воспитать невозможно; во-вторых, улучшению не поддаются и общественные нравы. Реальная природа человека и наши представления о его «духовной природе» оказались по разную сторону баррикад. Война всех против всех приобрела всемирно-исторические формы. В такой ситуации литература и ее функции резко изменились. Наставническая литература пастырей и духовных гигантов мгновенно оказалась прошлым человечества; на авансцену выдвинулась литература как забава и игра (это мироощущение, в частности, стала обслуживать идеология и художественная практика постмодернизма).
Постепенно и неизбежно сложились два полюса: те, кто настаивает на сакральной и культурной миссии литературы против тех, кто не признает за литературой функций «духовного производства». И те, и другие стали говорить о смерти литературы: первые с ностальгическим сожалением и апокалиптическим страхом, вторые – с легкомысленным восторгом отрекшихся от претензий «быть человеком».
Литература «библейской», канонической направленности (старой, доброй, чаще всего, почвенной) и литература «без царя в голове», а также без руля и без ветрил: вот две системы ценностей и две мировоззренческие парадигмы. Первую точнее всего назвать социоцентризмом, вторую – индивидоцентризмом. И устарела старина, и старым на новый лад бредит новизна. Третьего нет и не дано. Куда ж примкнет наш герой-писатель, «куда ж поскачет наш проказник», как говаривали в старину?
Мы все действительно вышли из шинели (если под «шинелью» понимать «доспехи героя», непременную атрибутику «сражения за идеалы»). Нас воспитывали как героев – на литературе социоцентрического типа, то есть литературе, озабоченной ценностями, актуальными для общества в большей степени, нежели для личности. Сначала общество, народ – потом индивидуум, отдельный человек: таково кредо традиционно ориентированной литературы. В центре такой литературы – герой и проблемы, связанные с героизмом: трагизм и сатира (не путать с трагикомизмом).
Главная проблема сегодня заключается в том, что литература современная стала ориентироваться исключительно на индивидуум (не путать с личностью, которая не равнодушна к общественным вопросам!). Современная литература – гейм-литература – исследует феномен индивидоцентризма.
В определенном смысле мы имеем дело со снижением духовной планки и одновременно с повышением планки интеллектуальной (ибо попытаться стать выше «глупого» общества можно только с помощью интеллекта). Индивидуум минус личность – это живот плюс душа, примыкающая к животу. Отдельная особь минус личность – это минус принципы, минус осмысленное отношение; это человек минус культура; в остатке имеем разрушительное эгоистическое начало, потому разрушительное, что озабочено оно развлечением, тем самым «зрелищем», что превращает человека общественного либо в человека толпы, либо в асоциальный элемент (правда, все это пышно именуется «соблюдением прав человека»; о «правах личности», обратим внимание, речи не идет, будто личности вовсе не существует в подлунном мире).
Поесть, поспать, а после меня хоть потоп: вот по большому философскому счету кредо человека, не желающего быть ни личностью, ни героем. Индивид в отличие от личности – существо асоциальное, ибо он не предлагает конструктивных стратегий сосуществования с обществом; его не интересует формат мировоззрения, он живет исключительно мироощущением, феноменами психическими, фантомными, иллюзорными; при этом он парадоксально весьма и весьма почитает интеллект, превращая его в инструмент развлечения и ничего не желая слышать о диалектических «кознях разума», жестко ставящего индивид на подобающее ему место. Пример подобной литературы – творчество В. В. Набокова в целом, в частности его роман «Лолита».
Поскольку в информационном космосе индивида нет «верха» – актуализируется «низ» (то есть ценности варваров: пожрать, поспать). Здесь может быть организован по-своему тонкий мир, здесь может царить эстетика, и даже интеллектуальная игра, заменяющая содержательную пустоту (что еще можно понять) пустотой содержания. Но здесь нет и в принципе не может быть ответственного отношения к личности и обществу. В плане стратегий художественной типизации, в плане пафосной организации «картины мира» мы имеем дело с различными модусами иронии, с модусами деконструктива, пустоты.
Таким образом, от социоцентризма к индивидоцентризму означает (в плане духовно-эстетического движения): от тотальной героики – к тотальной иронии.
5
А теперь представьте, что перед вами стоит задача опоэтизировать индивид, человека, отчужденного от духовной деятельности. Что вы станете делать?
Вам не останется ничего другого, как эстетизировать сомнительные проявления ничтожества, душевно-психологические проявления, само собой, какие же еще (ибо больше за душой ничего нет – zero, пустота), и обратиться при этом к тому фрейдизму, который и самого автора разоблачает как человека без внятного мировоззрения, человека, погрязшего в тенетах мироощущения. В этом контексте и дутый аристократизм превращается в модус пошлой бездуховности. Писатель-аристократ стал певцом пошлости, против которой он так решительно выступал. И Набоков, конечно, не фрейдизма боялся; он боялся себя, личности в себе, своей чуткости к экзистенциальным проблемам, давящим на индивида без его на то согласия.
В этом месте хотелось бы сказать несколько слов в защиту фрейдизма в частности, и психоаналитической технологии вообще.
Мне не приходилось слышать, чтобы о психоанализе говорили как об инструменте духовного совершенствования, как о персональном, личностном инструменте. Фрейдизм в контексте буржуазного индивидоцентризма выступает действительно как инструмент разоблачения коварства психики. Технология извлечения смыслов из глубин бессознательного направлена на то, чтобы изобличить «человека-подлеца». Вот почему «фрейдизм» бессознательно, но устойчиво связан с понятием «мутные глубины потемок души». Психоанализ (анализ психической содержательности, то есть пустоты) попадает в ассоциативную цепочку «бессознательное – деструктивное – безнравственное – деградация». Говорим психоанализ – подразумеваем «негатив», «минус личность». Анализ по умолчанию стал инструментом ковыряния в отстойниках души. Там, где фрейдизм, – там и грязь.
Что ж: за что боролся, на то и напоролся. Это верно, но верно отчасти, тогда верно, когда речь идет о бездуховном человеке-индивиде. Фрейдизм вскрывает то, что есть: пустоту, гуманистическую бессодержательность – цели и мотивы жалких интеллектуалов в лучшем случае. Вскрывает тотальную зависимость человека от того уровня витальной базы, которая берет свое начало в инстинктах. Происходит та самая редукция человека «к паху».
Однако бессодержательность может быть отправной точкой в деле построения личности, персоны; в принципиальном плане можно наполнить духовный мир содержанием. Этим занимается уже не фрейдизм, а сознание, разум человека. При таком типе личности, такой духовной структуре анализ бессознательного не ограничивается разоблачением фокусов психики как таковых; поскольку речь идет о ценностной ориентации, о системе и иерархии ценностей, анализ бессознательного превращается в анализ духовных технологий. Предмет исследования (анализа) принципиально меняется: мы уже анализируем не ту психику, что обслуживает подбрюшье (почти зоопсихологию), а ту, что реагирует на духовные коллизии (так сказать, ментальную психологию). А это уже иная информационная инстанция. Но это возможно, повторим, только тогда, когда речь идет о личности.
У Набокова личностей нет. Нет – и все. Его герои – жалкие индивиды. Зачем ему психоанализ? Он ему не нужен в сколько-нибудь значительном объеме – не нужен постольку, поскольку в его опусах, то есть в его картине мира, не присутствуют такие духовнообразующие полюса, как конструктивная «диалектика ума» и находящаяся в нигилистическом кураже «диалектика души». Вот такой предмет – диалектический спарринг ума и души – не является предметом Набокова. Он им брезгует, не разглядев его культурного потенциала. У Набокова все попроще, это вообще простой писатель (с точки зрения содержательности). Однако начал психоанализа, поверхностной аналитики в его произведениях хоть отбавляй. Иногда это становится собственно содержанием произведения, как, например, в рассказе «Ужас». Но движения, колебания, трепет души – это отнюдь не духовность, это именно суррогат духовности, так сказать, реабилитация индивида, наделение его некой «сверхтонкостью», которая ошибочно принимается за «глубину». Герой трепещет, как бабочка, обозначая как бы бездны глубин. Увы, нет иной глубины в человеке, кроме глубины ума.
6
За доказательствами обратимся к анализу маленького шедевра модерниста В.В. Набокова – рассказу «Рождество», который исследует ту же трагическую дихотомию (экзистенциальную дихотомию, как сказал бы Э. Фромм), что и многие произведения реалистической прозы, например, гениальная повесть Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича». Мотив преодоления отчаяния перед неизбежной смертью – в центре рассказа. Думаю, произведение это в определенном смысле является ключом ко всему лучшему, что создано Набоковым.
Концепция личности, сотворенная Набоковым, считавшим, что он не создает никаких концепций, не столь глубока и не столь насыщена диалектикой, как у Толстого. Набоков, на первый взгляд, бежит от каких бы то ни было идей (в соответствии со своими знаменитыми эстетическими декларациями). Рассказ вроде бы ни о чем, если не считать содержанием претензию на бессодержательность. «Просто красиво» написан, не более того. И все же мы попытаемся найти ключ к набоковской «чистой, безыдейной» поэтике. А ключ ко всякой поэтике, если она хотя бы отчасти является таковой, всегда лежит в области содержания. Принципиально иные методологические подходы, конечно, существуют, но они давно уже исчерпали конструктивный ресурс своих возможностей.
Присмотримся к сердцевине любого художественного произведения – к принципам обусловленности поведения героя, которые всегда пафосно окрашены (оценены). «Принципы» (точка зрения или логика персонажа) плюс «пафос» (авторская позиция) – вот важнейшие составляющие творческого метода писателя, которые воплощаются в стиле. Творческий метод Набокова чрезвычайно любопытен.
Активных действующих лиц в рассказе – всего двое: некто Слепцов и Тот, Кто повествует о произошедшем: повествователь. В субъектной организации произведения нет ничего необычного: смысловая «стереоскопичность» достигается способом традиционным – путем совмещения разных субъектов речи и, что принципиально, разных субъектов сознания (последние в отличие от первых отмечены разностью мировоззренческих позиций). Если характер Ивана Ильича (героя повести Толстого) прослежен с самых истоков его формирования до сложнейшей трансформации в конце произведения, то характера Слепцова как такового в рассказе нет. Он (характер, то есть специфически структурированная информационная система, в которой сопряжены несколько субъектов сознания, внутренне конфликтующих друг с другом) абсолютно не актуален, в нем нет нужды, поскольку Слепцову доверено быть носителем информации одноплановой, одномерной, непротиворечивой. Слепцов как субъект сознания, выражающий информацию одномерную, является типом, но не характером. Тип и характер, таким образом, – это принципиально разные информационные (следовательно, духовные) возможности. (Отметим, кстати, и такую художественную – следовательно, духовно-информационную – возможность: если перед нами характер героя, пересекающийся в духовном плане с характером повествователя, то мы имеем дело с целым спектром организованных точек зрения, а не с двумя «персонажами». Формально мы воспринимаем два субъекта сознания, но поскольку каждый из них является характером, вбирающим в себя несколько типов, то фактически мы имеем дело с таким «объемным» субъектом сознания, который вмещает в себя иные субъекты сознания. В результате нам предлагается то, что часто называют моделью мира, то есть целую систему отношений, которая состоит из разных позиций – мировоззренческих, духовных позиций. Множество точек зрения, множество типов отношений – вот вам и мир. Из этого следует: небольшое произведение может обозначить информационные возможности большого мира. Собственно, это и значит реализовать художественный потенциал малого жанра.)
Вот почему в рассказе преобладает лирический принцип типизации героя. Психологически поведение героя вполне реалистически обусловлено. Но психологический рисунок «Рождества» не выводит нас на глубокие нравственно-философские проблемы, ибо не обусловлен ими; тип психологизма Набокова (разновидность «тайного» психологизма) ничем не напоминает Толстого. Функция этого «условного» психологизма – иная.
Если отсутствует характер героя – следовательно, нет соответствующей ситуации, конфликта, сюжета и т. д. по всей стилевой парадигме; словом, нет соответствующей поэтики. Что же тогда есть?
Есть иная поэтика, соответствующая иному принципу типизации. Прежде всего, Слепцов один, если не считать слуги Ивана, подчеркнуто эпизодического лица (повествователь по законам рода и жанра «как бы невидим»). Одиночество само по себе есть всегда сублимация смерти; это отчужденность, выброшенность из жизни. И Слепцов пытается что-то противопоставить идее смерти, найти контраргументы в пользу жизни. В этой скрытой, невидимой схватке, которую тонко комментирует повествователь, победителем выходит Слепцов.
Однако сама по себе схватка, которая привела к «рождеству» нового эмоционально-мыслительного (медитативного) состояния, происходит вне всякой связи с конкретными обстоятельствами жизни героя. Сказать о Слепцове «среда заела» – невозможно, потому что вокруг него нет никакой среды. Его социальная обозначенность весьма условна. В данном случае герой Набокова почти метафизичен, вынут из среды, не вырастает из социума и не обуславливается им. Это явно «лирическая» по родовой своей характеристике ситуация. Вот почему Слепцов лишен характера; противоречия же, мучающие его, – вечные противоречия, обусловленные не средой, а природой человека как таковой.
Таким образом, главное в рассказе – логика смены умонастроений, и логика эта не определяется ни социальной, ни биологической детерминированностью героя. Думается, перед нами все же потенциально реалистическая проза, хотя формальных признаков реализма вроде бы и недостаточно. Однако если сами идеи мало мотивированы, то психологическая зависимость от идей и обратная связь психологии с идеями явственно ощутима.
Начало рассказа задает эмоциональный тон повествованию.
«Вернувшись по вечереющим снегам из села в свою мызу, Слепцов сел в угол, на низкий плюшевый стул, на котором он не сиживал никогда. Так бывает после больших несчастий. Не брат родной, а случайный неприметный знакомый, с которым в обычно время ты и двух слов не скажешь, именно он толково, ласково поддерживает тебя, подает оброненную шляпу, – когда все кончено и ты, пошатываясь, стучишь зубами, ничего не видишь от слез. С мебелью – то же самое. Во всякой комнате, даже очень уютной и до смешного маленькой, есть нежилой угол. Именно в такой угол и сел Слепцов».
Лексика явно окрашена в печально-сентиментальные тона (большие несчастья, брат родной, стучишь зубами, ничего не видишь от слез). Детали также активно участвуют в создании «печального» фона (вечереющие снега, низкий плюшевый стул, нежилой угол). (Трудно удержаться от указания на весьма красноречивую деталь: пуф под Слепцовым не только не бунтует, но «ласково поддерживает» хозяина. И это можно сказать вообще обо всей мебели, обо всех вещах. Взаимоотношения героев «Рождества» с вещным миром диаметрально противоположны аналогичным взаимоотношениям героев «Смерти Ивана Ильича» Л. Толстого.) Одинокий человек, сидящий в нежилом углу, контакт с вещами – все это явно символично. Кроме того, лирическая экспрессия задается и ритмом прозы (и не в последнюю очередь – ритмом). Отрывок естественно разбивается на речевые такты, содержащие, приблизительно, по три ударения (это относится почти ко всему приведенному абзацу).
Итак, мы видим, что актуализированы специфически лирические (лирики как рода) поэтические средства. Далее отметим явное желание лирического героя (то есть повествователя) не остаться на заднем плане, его активность в подаче материала (что делает этот персонаж «зримым», выводит его из тени главного героя). «Ты и двух слов не скажешь», «поддерживает тебя», «ты… стучишь зубами»: «ты» – это не только обобщение лирического героя, но и обобщение, «конструирование» читателя определенного типа, читателя-единомышленника. Непосредственное обращение к тебе, читателю, устанавливает с тобой прямой контакт, без посредничества Слепцова.
Сдержанная безысходность героя передается мастерски выписанным овнешненным (тайным) психологизмом. Мы видим героя со стороны, словно вещи, которые его окружают. «Тогда Слепцов поднял руку с колена, медленно на нее посмотрел. Между пальцев к тонкой складке кожи прилипла застывшая капля воска. Он растопырил пальцы, белая чешуйка треснула». Эти три строчки последнего эпизода первой главки в рассматриваемом стилевом контексте многого стоят по выразительности. «Поднял руку с колена»: он сидит, тяжело опершись на колено, в «позе горя». Медленность жеста отражает замирающую, умирающую внутреннюю жизнь – кожа превращается в воск. «Капля воска между пальцев» – это и свидетельство посещения церкви. «Он растопырил пальцы, белая чешуйка треснула»: бессмысленность жеста является симптомом шокового состояния Слепцова; трещина, появляющаяся у него на глазах, – явный символ разлома, катастрофы, свершившейся в его жизни.
Избранные как бы скупые поэтические средства (добавим сюда строгий ритм, демонстративно «бесстрастную» интонацию, «гладкую» звукопись) предельно функциональны и выразительны. Горе передано настолько неестественно красиво, что уже и не воспринимается как настоящее горе, оно сразу же покрывается налетом условности. Условная «изящная» скорбь: этого-то впечатления и добивается писатель Набоков!
Еще раньше, в третьем фрагменте первой главки, появляется Иван, «тихий тучный слуга, недавно сбривший себе усы», который внес лампу и «беззвучно опустил на нее шелковую клетку: розовый абажур». Во всем этом композиционном фрагменте, совпадающем с эпизодом сюжета, поражает потрясающая, ничего не пропускающая наблюдательность повествователя (пока сложно сказать, можно ли отнести ее и к Слепцову). Хозяин сидит – «словно в приемной у доктора». На стекле – «стеклянные перья мороза», вечер – «густо синеет». Слуга – «недавно сбривший себе усы», абажур – «розовый». Конец фрагмента таков: «На мгновение в наклоненном зеркале отразилось его освещенное ухо и седой еж. Потом он вышел, мягко скрипнув дверью».
Казалось бы, какое нам дело до того, давно или недавно сбрил себе усы слуга? И почему так важно, что он «тихий и тучный»? Или, если угодно, вот еще пример (из третьей главки): «Слепцов взял из рук сторожа лампу с жестяным рефлектором». Какое отношение к горю Слепцова имеет «жестяной рефлектор»? Или усы?
Мало того, что никакого: эта вызывающе немотивированная цепкость внимания раздражает своим желанием ничего не пропустить – то есть уравнять важное с неважным, Слепцова с Иваном, Ивана с лампой. Следовательно, все это имеет отношение к горю Слепцова – но вовсе не является тем отношением, на которое рассчитывает читатель, привыкший к «нормальной» художественной и житейской логике. Перед нами какая-то другая логика, реализованная в других отношениях. Зрительная, слуховая, осязательная, чувственная жадность к миру вещей (наряду с равнодушием к миру идей и концепций), желание ничего не пропустить и все назвать, зафиксировать, запечатлеть (и при этом специально пропустить «умные вещи»), конечно, не случайны. Сознание повествователя, словно зеркало или рефлектор (буквальные образы рассказа), отражает попавшие в пределы его досягаемости объекты. Отражается внешний ряд, а не то, что стоит за ним (в данном случае за ним пока обнаружить ничего не удается, обнаруживает себя пустота). Может быть, это и есть то самое чистое, безыдейное и, следовательно, бессодержательное искусство с его «иной» логикой: искусство, несомненно, присутствует, а содержательность при этом отсутствует?
Проверим наши наблюдения дальше. Во второй главке творится что-то невообразимое. Немного в мировой литературе найдется страниц, так изысканно поэтизирующих заурядную материальность мира, так тонко воплощающих эстетическое торжество зрения и слуха: «Когда на следующее утро, после ночи, прошедшей в мелких нелепых снах, вовсе не относящихся к его горю (горе горем – а сны снами: сны вовсе не являются отражением душевных процессов, что является свидетельством восхитительного рассогласования, художественным подтверждением той «истины», того содержания, что ни одно содержание не определяет другое содержание, все как-то существует само по себе, бессодержательно – А.А.), Слепцов вышел на холодную веранду, так весело выстрелила под ногой половица и на бледную лавку легли райскими ромбами отраженья цветных стекол. Дверь поддалась не сразу, затем сладко хрустнула, и в лицо ударил блистательный мороз. Песком, будто рыжей корицей, усыпан был ледок, облепивший ступени крыльца, а с выступа крыши, остриями вниз, свисали толстые сосули, сквозящие зеленоватой синевой. Сугробы подступали к самым окнам флигеля, плотно держали в морозных тисках оглушенное деревянное строеньице. Перед крыльцом чуть вздувались над гладким снегом белые купола клумб, а дальше сиял высокий парк, где каждый черный сучок окаймлен был серебром и елки поджимали зеленые лапы под пухлым и сверкающим грузом».
Другие электронные книги автора Анатолий Николаевич Андреев
Девять




 0
0