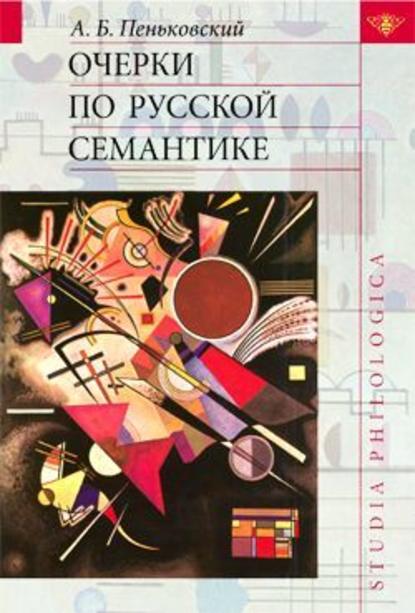По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Очерки по русской семантике
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Очерки по русской семантике
Александр Борисович Пеньковский
В книге известного лингвиста и культуролога проф А.Б.Пеньковского собраны его работы по русской семантике, представляющие несколько циклов устойчивых исследовательских интересов автора. Среди них - общекатегориальная семантика и семантика концептов, семантика наречий и семантика собственных имен, фонетическая семантика и семантика орфографии. Читатель встретит здесь не только работы, опубликованные ранее (при подготовке к переизданию они все были заново отредактированы и дополнены новым материалом), но и работы последних лет, еще не видевшие света.
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся живой жизнью языка.
Александр Пеньковский
Очерки по русской семантике
Памяти моих учителей -
Рубена Ивановича Аванесова,
Петра Саввича Кузнецова,
Александра Александровича Реформатского,
Владимира Николаевича Сидорова,
Абрама Борисовича Шапиро.
От автора
Выходящая в год моего 75-летия, эта книга – своего рода подведение итогов и мой отчет лингвистическому сообществу, благожелательное внимание которого к моим работам на протяжении всей моей жизни в науке было для меня всегда вдохновляющим стимулом, «поддержкой и опорой».
Читатель встретит здесь как опубликованные ранее в различных сборниках и затерявшиеся на журнальных страницах (и потому трудно доступные сегодня) мои семантические исследования 1970 – 1990-х гг. (при подготовке к этому изданию все они были заново отредактированы, а некоторые значительно расширены и дополнены новыми материалами), так и работы последних лет, еще не видевшие света.
Впервые собранные под одной крышей, они – при всем разно– и многообразии их тем и сюжетов и различии в масштабах разрешаемых в них проблем и вопросов – образуют, как мне представляется, некое целостное единство. Это работы диалектолога, привыкшего иметь дело с броуновым движением бесчисленного множества языковых порождений в бурлящем котле повседневной речевой деятельности, но диалектолога, прошедшего школу истории языка и понявшего, что живое движение языка – это не только величайшая загадка и тайна, но и путь к отгадке и открытию многих его загадок и тайн. Подлинный герой этой книги – динамическая синхрония, методы и приемы исследования и поле приложения которой нуждаются в дальнейшем развитии и совершенствовании, обещающем нашей науке новые значительные и нетривиальные результаты. В этом выводе меня укрепляет и изучение языка пушкинской эпохи, с которым связаны все мои исследовательские интересы в последние годы и прежде всего работа над общим дифференциальным словарем этого языка и частными словарями его скрытых семантических категорий. Отражения ее читатели найдут на многих страницах моей книги.
Приношу искреннюю благодарность всем друзьям и коллегам, с которыми я обсуждал ее состав, но прежде всего – ее подлинному инициатору, большому ученому и прекрасному человеку, человеку несправедливо трудной и горькой судьбы, автору поразительного «Опыта герменевтики по-русски» (Языки славянской культуры. М., 2001) Вардану Айрапетяну имя которого называю здесь с величайшим уважением и любовью.
Владимир 25 января 2003 г.
Часть I. Лексическая и грамматическая семантика
О семантической категории «чуждости» в русском языке
…отвергайте название, но признайте существование!
П. А. Вяземский
… На обязанности исследователя-языковеда лежит не только вскрыть данное значение на каком-нибудь одном факте, но и найти все факты языка, обнаруживающие его, как бы они ни были разнообразны…
А. М. Пешковский
Известно, что одним из фундаментальных семиотических принципов с глубокой древности является членение универсума на два мира – «свой» и «чужой», противопоставление которых имеет множественную интерпретацию и реализуется в оппозициях типа «мы – они», «этот – тот», «здесь – там», «близкое – далекое» и мн. др. под. Типичной является также интерпретация основного (базового) противопоставления в аксиологическом, ценностном плане – в виде оппозиции «хороший – плохой», – с резко отрицательной оценкой всего того, что принадлежит «чужому» миру [Лотман 1969, 465 и ел.].
Учитывая, что указанный выше принцип получает широкое и многостороннее отражение в мифологии, в ритуалах и обрядах, в народном искусстве, фольклоре и литературе у разных народов [Eliade 1970], в том числе и у славян [Иванов, Топоров 1965, 156–165 и ел. ] и, в частности, у русских – например, в художественном мире русского былевого эпоса и волшебной сказки [Пеньковский 1986, 127 и ел. ], можно было бы выдвинуть – в виде осторожного предположения – гипотезу об отражении рассматриваемого семиотического принципа также и в языке – в его системе, категориях и механизмах, – и, исходя из этого, предпринять поиски его языковых коррелятов. Таким образом, на обсуждение предлагается гипотеза о существовании семантической категории «чуждости» («отчуждения»? «алиенации»?), которая, в силу сказанного, должна сопрягаться с категорией отрицательной оценки («чужое – плохое») и иметь специальные средства языкового выражения (хотя бы в виде отдельных, не связанных друг с другом звеньев).
Как представляется, это предположение может быть обосновано и подтверждено разнообразными и достаточно доказательными фактическими данными.
* * *
В этой связи должна быть прежде всего отмечена общая для всех славянских языков специфика семантической структуры производных, образующих лексические гнезда с корнем чуж-/ чужд-, которые, как бы повторяя первоначальный этимологический сдвиг (из гот. piuda ‘народ’ ? ‘чужой’ в соответствии с [Фасмер 1973: 379], представляют комплекс взаимосвязанных значений: ‘чужой’ ? ‘чуждый’ ? ‘враждебный’ ? ‘плохой’. Ср., например: др. – рус. чужий (щужий) ‘чужой’, ‘чуждый’, ‘злодей’, ‘нечестивец’, ‘отвратительный’; чужати ‘отвергать’, чужатися ‘свирепствовать’ и др. под. [Срезневский 1903: III, 1550 ел. ], старорус. чуждаться ‘гнушаться, брезговать’. Ср. в стилизующем отражении: «– Я проводил господина за город. Тут он простился со мною и не почуж-дался обнять меня…» (И. Лажечников. Басурман).
На этой основе могут быть правильно поняты такие выстраивающиеся в единый ряд, устойчивые (фразеологизованные) словесно-понятийные комплексы, как чужие земли (чужая земля) и чужие страны (чужая страна) др. – русских памятников («Да не будеть же вамъ николи же словеси… о чюжихъ земляхъ» – Сборник 1296 г.; «Избежавъше же ему въ страны чюжи, и тамо животъ свои сконца» – Чтение о житии и погубленни… Бориса и Глеба. [Срезневский 1903: III, 1550] и русских народных сказок («…начали отправлятца в чужи земли… Ну, поплыли оне, приплыли в чужи земли…» – Верхнеленские сказки. Иркутск, 1938. С. 64), чужаядалъная (чужедальная) сторонушка русских народных плачей и народных песен и – что особенно показательно и важно – чужие край (чужие края) ‘заграница’ в русском литературном языке вплоть до конца третьей четверти XIX в. Ср.: «В небольшом моем вояже я был как будто дальний путешественник… Да, правду тебе сказать, я и действительно был в чужих краях. Ибо не успел отъехать 27 верст от Питера, как въехал внутрь Чухны, которая меня, а я ее не понимал…» (Е. Болховитинов – В. Македонцу, 20 марта 1801); «Для чужих краев лучше звание юнкера» (К. Батюшков – А. И. Тургеневу, 1818); «Жерве уволен с позволением ехать в чужие край» (А. И. Тургенев – И. И. Дмитриеву, 6 мая 1819); «Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих; авось полуденный воздух оживит мою душу…» (А. С. Пушкин – П. А. Вяземскому, 21 апреля 1820); «Прочие книги я еще не посылал, не уверен будучи, точно ли вы еще долго останетесь в чужих краях» (П. А. Плетнев – В. А. Жуковскому, 17 февр. 1833); «Через год Чаадаев поехал в чужие край…» (Д. Свербеев. Воспоминания, 1858); «В течении 22 лет пребывания в чужих краях он только четыре раза побывал в России» (И. С. Аксаков. Ф. И. Тютчев, III. – М., 1874) и т. п.
В этом материале (а он может быть неограниченно умножен) обращает на себя внимание последовательно проведенное использование форм множественного числа чужие край, в чужие край (в большинстве случаев с архаической флексией – и!), в чужих краях, из чужих краев (не чужой край!) даже там, где речь заведомо идет об одной конкретной стране (cр. в «Мемориале» И. С. Тургенева 1852–1853 гг., в записи под 1845 г.: «Отъезд в чужие край. Куртавнель» или еще: «Нам очень не нравился его отъезд в чужие край, в Италию» – С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем) в столь же последовательном противопоставлении формам единственного числа сочетания свой (наш) край (не свои край!).
Понятно, что в эпоху, когда в русском обществе достаточно прочно утвердилась новая – исторически связанная с Петровскими реформами – система культурных ценностей (ср.: «Краев чужих неопытный любитель И своего всегдашний обвинитель, Я говорил: в отечестве моем Где верный ум, где гений мы найдем?» – А. C. Пушкин. «Краев чужих неопытный любитель…», 1817),[1 - Ср. гротескное противопоставление «чужие леса – свой лес» в рассказе Ф Эмина «Сон, виденный в 1765 г Генваря первого», где главный член ученого собрания животных, получивший образование «в чужих лесах», преследует тех, кто обучался «в своем лесу», так как «весьма пристрастен к чужелесным» (Русский архив, 1873 Кн 3 Вып 1 °C 1922)] обсуждаемая традиционная пара, в которой лексико-семантическая оппозиция «чужое – свое»,[2 - Следует отметить также такой широко распространенный вариант этого базового противопоставления, как «наше – не-наше» с модификациями. Ср. «– Господи! Как я кричала ныне во cнe, – рассказывала мне девочка – Будто бы какой-то ненашенский царь тебя мучил; жег он тебя на огне, щипал разожженными железными щипцами «(А И Левитов Дворянка III) Ср. также табуированное именование черта – ненаш (С Максимов Нечистая сила, неведомая сила//Собр соч СПб, [б г] Т 18 С 4 Примеч 1)] усиленная оппозицией по числу (край – край), навязывала говорящим традиционную аксиологию, и, став анахронизмом,[3 - Этому не смогла воспрепятствовать и попытка ее славянофильской гальванизации в 40 – 60-е гг XIX в Ср. показательное название программного стихотворения Н М Языкова «К ненашим», датированного 1844 г] должна была уступить место иным средствам номинации, первоначально свободным от экспрессивно-оценочных компонентов значения. Таковы, например, для первого члена пары заграница, за границу, из-за границы, за границей,[4 - Показательно отсутствие всей этой лексики в словаре Даля, где приведено только производное заграничный «за границей находящийся или оттуда привезенный» [Даль I, 570], возмещавшее отсутствие прилагательного *чужекрайный / *чужекрайний, производного от чужие край. Ср., однако, чеш. cizokrajny ‘иностранный’, слвц. cudzokrajny ‘тоже’] вытеснившие сочетание чужие край, которое в современном литературном языке вообще не употребляется.[5 - Сходное положение в белор. и укр. (ср заграниця и закордон, за гра-нщю и за кордон и т п), тогда как все остальные славянские языки с большей или меньшей последовательностью сохраняют исконные образования с корнями – соответствиями рус чуж-/ чужд-]
* * *
Указанное выше противопоставление по числу (чужие край – свой край) заслуживает особого внимания, так как представляет собой явление, хотя и известное в литературе, но недостаточно изученное и требующее более глубокой интерпретации. Исходя из того, что первый член этой пары свободно использовался в значении реальной единичности, сопряженном изначально с отрицательной оценкой, соответствующие случаи можно было бы рассматривать в ряду таких словоупотреблений во множественном числе, как: Я университетов не кончал; Я верчусь как проклятая, а ты по театрам ходишь; Муж работает, а она по заграницам разъезжает; Мне, говорит, отдых нужен. Мы работали всю жизнь, не отдыхали, а теперь вот отдыхи какие-то придумали, и др. под.
Приводя подобные факты, исследователи отмечают их принадлежность разговорной речи [Розенталь 1976: 218; Красильникова 1983: 111], их связь с категорией неопределенности [Ревзин 1969], их экспрессивность, которая понимается как «экспрессивное обозначение единичности» [Лекант 1982: 181], как выражение неодобрения и шутки [Исаченко 1954: 123], фамильярности и иронии (ср. характеристику форм мн. ч. существительного заграница в [Уш.: I, 918] и т. п. и квалифицируют их как множественное «гиперболическое» [Арбатский 1972]. Под эту категорию подводятся также формы множественного числа собственных имен (обычно – географических названий) в шутливых или неодобрительных выражениях типа скитаться по всяким Парижам, разъезжать по Европам [Исаченко 1954].
Однако едва ли справедливо видеть в гиперболизации (представлении единичного как множества) основное содержание грамматической семантики форм множественного числа в такого рода контекстах и выдвигать ее терминологически на передний план. Функционально-семантическим центром таких форм, как это будет показано в дальнейшем изложении, следует считать генерализующее обобщение, генерализацию, которая становится основой для пейоративного отчуждения. Сущность последнего состоит в том, что говорящий, отрицательно оценивая тот или иной объект, доводит эту отрицательную оценку до предела тем, что исключает объект из своего культурного и / или ценностного мира и, следовательно, отчуждает его, характеризуя его как элемент другой, чуждой ему и враждебной ему (объективно или субъективно – в силу собственной враждебности) культуры, другого – чуждого – мира.
Объяснение внутреннего механизма этой операции и особенностей ее языкового отражения и выражения следует искать прежде всего в специфике структуры образов «своего» и «чужого» мира, в которых они – эти два мира – представляются мифологическому и мифологизующему сознанию от древности до наших дней.
* * *
«Свой» мир (в максимально сжатой и по необходимости схематической характеристике) – это мир уникальных, индивидуальных, определенных в своей конкретности и известных в своей определенности для субъекта сознания и речи дискретных объектов, называемых собственными именами. «Свой» мир – это мир собственных имен. В нем и нарицательные имена ведут себя как собственные. «Свой» мир – то мир форм единственного числа со значением единичности. Формы множественного числа – там, где они необходимы, – используются в значении неоднородного множества.
«Чужой» мир (в противопоставлении «своему») – это мир этнически и / или хтонически (субстанционально), социально или культурно (и прежде всего – религиозно и идеологически) чуждый и враждебный. Это инишнее царство, ненаша земля, неверия неверная, поганая русского былевого эпоса, земля незнаемая «Слова о полку Игореве», чужие край и поганая нехристь русских славянофилов. Ср. еще «-…Был наш один изборьский в полону в неверных землях, и явилась тому полоненику матушка богородица…» (П. И. Якушкин. Путевые письма, 2 авг. 1859). Ср. также в письме Н. М. Языкова к Гоголю [1841] поздравление с возвращением из «нехристи немецкой». К этому же рейгановский образ империи зла как представление социалистического мира.
«Чужой» мир – мир неподвижный, статичный и плоский. Это мир, в котором нет дискретных объектов, и потому он воспринимается нерасчлененно – как речь на чужом языке. Ср.: «А приехали мурзы-улановья, Телячьим языком рассказывают…» (Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. – М., 1938. С. 99). Во мраке, окутывающем этот мир, не различаются ни частные детали, ни отдельные лица. Чужие предметы и предметно воспринимаемые живые существа образуют единую в своей кишащей слитности враждебную массу, состоящую из кажущихся абсолютно тождественными единиц, носителей одного имени. Индивид поэтому оказывается здесь представителем однородного ряда, из которого он актуально выделяется только в силу занимаемого им положения – правителя, предводителя войска, духовного руководителя и т. п. Взятый в синхронии, этот ряд выступает как толпа. Взятый в диахронии, он представляет генеалогическую линию как родовую бесконечность, подобную родовой бесконечности насекомых и диких животных. И так же, как в сказке уничтоженное в богатырской битве вражеское войско наутро воскресает из мертвых, чтобы начать новое сражение, так в русской былине Батыга-отец сменяет Батыгу-деда, чтобы в свой черед уступить место Батыге-сыну Все они Батыги и все – Батыги Батыговичи: «А й наеде Батька Батыгович со сыном своим со Батыгушкою….» (Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. М., 1949. Т. I. № 18).
Здесь есть смена, но нет развития. Движение идет по замкнутому кругу и потому иллюзорно. Вновь и вновь оно повторяет то, что уже было: тождество имен свидетельствует о полном тождестве их носителей. Это значит, что сын Батыги получает имя Батька не как династическое имя (ср. традицию династического именования у европейских монархов) и не в честь отца или деда, а потому, что такова его природная сущность: подобно тому как меч есть меч из множества и класса мечей, как щит есть не что иное, как щит – из множества и класса щитов, а Ворон Воронович русских сказок – ворон, так и Батыга не просто называется Батыга, но он и есть батыга – из генеалогической линии и синхронного ряда – толпы бесчисленных батыг. Таким образом, «чужой» мир – это мир форм множественного числа со значением однородного множества и мир нарицательных имен, в котором и собственные имена функционируют как нарицательные [Пеньковский 1989].
* * *
Понятно поэтому, что перевод существительных из ед. ч. во мн. ч. с одновременным преобразованием имен собственных (ИС) в нарицательные (ИН) может использоваться как знак принадлежности их денотатов «чужому» миру и тем самым как средство подчеркнутого выражения их резко отрицательной оценки:
При этом так же, как для ИН ед. ? ИН мн. мы различаем, например, театр ‘…’ + ‘свое’ ? театры
‘неоднородное множество театров’ и театр ‘…’ + ‘чужое’ 4 театры
‘однородное множество театров’ + ‘чужое’ + ‘плохое’, что нужно читать как ‘театр – это плохо’, а не как ‘плохие театры’, так и для параллельного ИС ед. ? ИН мн. необходимо различать хорошо известные и многократно обсуждавшиеся в литературе случаи типа Ньютоны ‘великие физики’, т. е. «неоднородное множество физиков, объединенных общим признаком ‘подобные Ньютону’ (по их вкладу в науку или по способности сделать такой вклад)» и случаи типа Батыга ‘былинный персонаж, предводитель татарской рати’ ? батьки ‘татарские воины, возглавляемые Батыгой’.
Следует специально подчеркнуть, что в случаях типа Ньютоны ‘великие физики’ мы имеем дело с единицами, которые занимают промежуточное положение между ИС и ИН – с разной степенью близости к ИН и с разной степенью связи с исходными ИС (в зависимости от степени однородности – неоднородности обозначаемых ими множеств и от уровня осознания этих признаков носителями языка, а также в зависимости от тех или иных особенностей контекста), но почти никогда не порывают окончательно с ИС, не переходят окончательно в ИН. Поэтому они объединяются с другими семантическими вариантами подобных имен в формах мн. ч., которые несут значение неоднородных множеств, состоящих из единиц, различающихся полом и возрастом (ср.: Ньютоны ‘неоднородное множество лиц, объединенных принадлежностью к семье Ньютона’), временем и местом существования (Ньютоны
‘неоднородное множество лиц, объединенных общностью происхождения, т. е. принадлежащих к роду Ньютонов’) или еще Ньютоны
‘неоднородное множество лиц, носящих фамилию Ньютон’. Значение неоднородного множества в случаях типа Ньютоны
‘великие физики’ свидетельствуется обычным употреблением подобных ИС / ИН с определителями временной (новые Ньютоны, Ньютоны наших дней) и этно-национальной (собственные Ньютоны, российские Ньютоны) и т. п. семантики. Все эти семантические варианты объединены также тем, что форма мн. ч. не вносит в них оценочного компонента значения. Положительная оценка, которую обычно отмечают в случае Ньютоны
Александр Борисович Пеньковский
В книге известного лингвиста и культуролога проф А.Б.Пеньковского собраны его работы по русской семантике, представляющие несколько циклов устойчивых исследовательских интересов автора. Среди них - общекатегориальная семантика и семантика концептов, семантика наречий и семантика собственных имен, фонетическая семантика и семантика орфографии. Читатель встретит здесь не только работы, опубликованные ранее (при подготовке к переизданию они все были заново отредактированы и дополнены новым материалом), но и работы последних лет, еще не видевшие света.
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся живой жизнью языка.
Александр Пеньковский
Очерки по русской семантике
Памяти моих учителей -
Рубена Ивановича Аванесова,
Петра Саввича Кузнецова,
Александра Александровича Реформатского,
Владимира Николаевича Сидорова,
Абрама Борисовича Шапиро.
От автора
Выходящая в год моего 75-летия, эта книга – своего рода подведение итогов и мой отчет лингвистическому сообществу, благожелательное внимание которого к моим работам на протяжении всей моей жизни в науке было для меня всегда вдохновляющим стимулом, «поддержкой и опорой».
Читатель встретит здесь как опубликованные ранее в различных сборниках и затерявшиеся на журнальных страницах (и потому трудно доступные сегодня) мои семантические исследования 1970 – 1990-х гг. (при подготовке к этому изданию все они были заново отредактированы, а некоторые значительно расширены и дополнены новыми материалами), так и работы последних лет, еще не видевшие света.
Впервые собранные под одной крышей, они – при всем разно– и многообразии их тем и сюжетов и различии в масштабах разрешаемых в них проблем и вопросов – образуют, как мне представляется, некое целостное единство. Это работы диалектолога, привыкшего иметь дело с броуновым движением бесчисленного множества языковых порождений в бурлящем котле повседневной речевой деятельности, но диалектолога, прошедшего школу истории языка и понявшего, что живое движение языка – это не только величайшая загадка и тайна, но и путь к отгадке и открытию многих его загадок и тайн. Подлинный герой этой книги – динамическая синхрония, методы и приемы исследования и поле приложения которой нуждаются в дальнейшем развитии и совершенствовании, обещающем нашей науке новые значительные и нетривиальные результаты. В этом выводе меня укрепляет и изучение языка пушкинской эпохи, с которым связаны все мои исследовательские интересы в последние годы и прежде всего работа над общим дифференциальным словарем этого языка и частными словарями его скрытых семантических категорий. Отражения ее читатели найдут на многих страницах моей книги.
Приношу искреннюю благодарность всем друзьям и коллегам, с которыми я обсуждал ее состав, но прежде всего – ее подлинному инициатору, большому ученому и прекрасному человеку, человеку несправедливо трудной и горькой судьбы, автору поразительного «Опыта герменевтики по-русски» (Языки славянской культуры. М., 2001) Вардану Айрапетяну имя которого называю здесь с величайшим уважением и любовью.
Владимир 25 января 2003 г.
Часть I. Лексическая и грамматическая семантика
О семантической категории «чуждости» в русском языке
…отвергайте название, но признайте существование!
П. А. Вяземский
… На обязанности исследователя-языковеда лежит не только вскрыть данное значение на каком-нибудь одном факте, но и найти все факты языка, обнаруживающие его, как бы они ни были разнообразны…
А. М. Пешковский
Известно, что одним из фундаментальных семиотических принципов с глубокой древности является членение универсума на два мира – «свой» и «чужой», противопоставление которых имеет множественную интерпретацию и реализуется в оппозициях типа «мы – они», «этот – тот», «здесь – там», «близкое – далекое» и мн. др. под. Типичной является также интерпретация основного (базового) противопоставления в аксиологическом, ценностном плане – в виде оппозиции «хороший – плохой», – с резко отрицательной оценкой всего того, что принадлежит «чужому» миру [Лотман 1969, 465 и ел.].
Учитывая, что указанный выше принцип получает широкое и многостороннее отражение в мифологии, в ритуалах и обрядах, в народном искусстве, фольклоре и литературе у разных народов [Eliade 1970], в том числе и у славян [Иванов, Топоров 1965, 156–165 и ел. ] и, в частности, у русских – например, в художественном мире русского былевого эпоса и волшебной сказки [Пеньковский 1986, 127 и ел. ], можно было бы выдвинуть – в виде осторожного предположения – гипотезу об отражении рассматриваемого семиотического принципа также и в языке – в его системе, категориях и механизмах, – и, исходя из этого, предпринять поиски его языковых коррелятов. Таким образом, на обсуждение предлагается гипотеза о существовании семантической категории «чуждости» («отчуждения»? «алиенации»?), которая, в силу сказанного, должна сопрягаться с категорией отрицательной оценки («чужое – плохое») и иметь специальные средства языкового выражения (хотя бы в виде отдельных, не связанных друг с другом звеньев).
Как представляется, это предположение может быть обосновано и подтверждено разнообразными и достаточно доказательными фактическими данными.
* * *
В этой связи должна быть прежде всего отмечена общая для всех славянских языков специфика семантической структуры производных, образующих лексические гнезда с корнем чуж-/ чужд-, которые, как бы повторяя первоначальный этимологический сдвиг (из гот. piuda ‘народ’ ? ‘чужой’ в соответствии с [Фасмер 1973: 379], представляют комплекс взаимосвязанных значений: ‘чужой’ ? ‘чуждый’ ? ‘враждебный’ ? ‘плохой’. Ср., например: др. – рус. чужий (щужий) ‘чужой’, ‘чуждый’, ‘злодей’, ‘нечестивец’, ‘отвратительный’; чужати ‘отвергать’, чужатися ‘свирепствовать’ и др. под. [Срезневский 1903: III, 1550 ел. ], старорус. чуждаться ‘гнушаться, брезговать’. Ср. в стилизующем отражении: «– Я проводил господина за город. Тут он простился со мною и не почуж-дался обнять меня…» (И. Лажечников. Басурман).
На этой основе могут быть правильно поняты такие выстраивающиеся в единый ряд, устойчивые (фразеологизованные) словесно-понятийные комплексы, как чужие земли (чужая земля) и чужие страны (чужая страна) др. – русских памятников («Да не будеть же вамъ николи же словеси… о чюжихъ земляхъ» – Сборник 1296 г.; «Избежавъше же ему въ страны чюжи, и тамо животъ свои сконца» – Чтение о житии и погубленни… Бориса и Глеба. [Срезневский 1903: III, 1550] и русских народных сказок («…начали отправлятца в чужи земли… Ну, поплыли оне, приплыли в чужи земли…» – Верхнеленские сказки. Иркутск, 1938. С. 64), чужаядалъная (чужедальная) сторонушка русских народных плачей и народных песен и – что особенно показательно и важно – чужие край (чужие края) ‘заграница’ в русском литературном языке вплоть до конца третьей четверти XIX в. Ср.: «В небольшом моем вояже я был как будто дальний путешественник… Да, правду тебе сказать, я и действительно был в чужих краях. Ибо не успел отъехать 27 верст от Питера, как въехал внутрь Чухны, которая меня, а я ее не понимал…» (Е. Болховитинов – В. Македонцу, 20 марта 1801); «Для чужих краев лучше звание юнкера» (К. Батюшков – А. И. Тургеневу, 1818); «Жерве уволен с позволением ехать в чужие край» (А. И. Тургенев – И. И. Дмитриеву, 6 мая 1819); «Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих; авось полуденный воздух оживит мою душу…» (А. С. Пушкин – П. А. Вяземскому, 21 апреля 1820); «Прочие книги я еще не посылал, не уверен будучи, точно ли вы еще долго останетесь в чужих краях» (П. А. Плетнев – В. А. Жуковскому, 17 февр. 1833); «Через год Чаадаев поехал в чужие край…» (Д. Свербеев. Воспоминания, 1858); «В течении 22 лет пребывания в чужих краях он только четыре раза побывал в России» (И. С. Аксаков. Ф. И. Тютчев, III. – М., 1874) и т. п.
В этом материале (а он может быть неограниченно умножен) обращает на себя внимание последовательно проведенное использование форм множественного числа чужие край, в чужие край (в большинстве случаев с архаической флексией – и!), в чужих краях, из чужих краев (не чужой край!) даже там, где речь заведомо идет об одной конкретной стране (cр. в «Мемориале» И. С. Тургенева 1852–1853 гг., в записи под 1845 г.: «Отъезд в чужие край. Куртавнель» или еще: «Нам очень не нравился его отъезд в чужие край, в Италию» – С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем) в столь же последовательном противопоставлении формам единственного числа сочетания свой (наш) край (не свои край!).
Понятно, что в эпоху, когда в русском обществе достаточно прочно утвердилась новая – исторически связанная с Петровскими реформами – система культурных ценностей (ср.: «Краев чужих неопытный любитель И своего всегдашний обвинитель, Я говорил: в отечестве моем Где верный ум, где гений мы найдем?» – А. C. Пушкин. «Краев чужих неопытный любитель…», 1817),[1 - Ср. гротескное противопоставление «чужие леса – свой лес» в рассказе Ф Эмина «Сон, виденный в 1765 г Генваря первого», где главный член ученого собрания животных, получивший образование «в чужих лесах», преследует тех, кто обучался «в своем лесу», так как «весьма пристрастен к чужелесным» (Русский архив, 1873 Кн 3 Вып 1 °C 1922)] обсуждаемая традиционная пара, в которой лексико-семантическая оппозиция «чужое – свое»,[2 - Следует отметить также такой широко распространенный вариант этого базового противопоставления, как «наше – не-наше» с модификациями. Ср. «– Господи! Как я кричала ныне во cнe, – рассказывала мне девочка – Будто бы какой-то ненашенский царь тебя мучил; жег он тебя на огне, щипал разожженными железными щипцами «(А И Левитов Дворянка III) Ср. также табуированное именование черта – ненаш (С Максимов Нечистая сила, неведомая сила//Собр соч СПб, [б г] Т 18 С 4 Примеч 1)] усиленная оппозицией по числу (край – край), навязывала говорящим традиционную аксиологию, и, став анахронизмом,[3 - Этому не смогла воспрепятствовать и попытка ее славянофильской гальванизации в 40 – 60-е гг XIX в Ср. показательное название программного стихотворения Н М Языкова «К ненашим», датированного 1844 г] должна была уступить место иным средствам номинации, первоначально свободным от экспрессивно-оценочных компонентов значения. Таковы, например, для первого члена пары заграница, за границу, из-за границы, за границей,[4 - Показательно отсутствие всей этой лексики в словаре Даля, где приведено только производное заграничный «за границей находящийся или оттуда привезенный» [Даль I, 570], возмещавшее отсутствие прилагательного *чужекрайный / *чужекрайний, производного от чужие край. Ср., однако, чеш. cizokrajny ‘иностранный’, слвц. cudzokrajny ‘тоже’] вытеснившие сочетание чужие край, которое в современном литературном языке вообще не употребляется.[5 - Сходное положение в белор. и укр. (ср заграниця и закордон, за гра-нщю и за кордон и т п), тогда как все остальные славянские языки с большей или меньшей последовательностью сохраняют исконные образования с корнями – соответствиями рус чуж-/ чужд-]
* * *
Указанное выше противопоставление по числу (чужие край – свой край) заслуживает особого внимания, так как представляет собой явление, хотя и известное в литературе, но недостаточно изученное и требующее более глубокой интерпретации. Исходя из того, что первый член этой пары свободно использовался в значении реальной единичности, сопряженном изначально с отрицательной оценкой, соответствующие случаи можно было бы рассматривать в ряду таких словоупотреблений во множественном числе, как: Я университетов не кончал; Я верчусь как проклятая, а ты по театрам ходишь; Муж работает, а она по заграницам разъезжает; Мне, говорит, отдых нужен. Мы работали всю жизнь, не отдыхали, а теперь вот отдыхи какие-то придумали, и др. под.
Приводя подобные факты, исследователи отмечают их принадлежность разговорной речи [Розенталь 1976: 218; Красильникова 1983: 111], их связь с категорией неопределенности [Ревзин 1969], их экспрессивность, которая понимается как «экспрессивное обозначение единичности» [Лекант 1982: 181], как выражение неодобрения и шутки [Исаченко 1954: 123], фамильярности и иронии (ср. характеристику форм мн. ч. существительного заграница в [Уш.: I, 918] и т. п. и квалифицируют их как множественное «гиперболическое» [Арбатский 1972]. Под эту категорию подводятся также формы множественного числа собственных имен (обычно – географических названий) в шутливых или неодобрительных выражениях типа скитаться по всяким Парижам, разъезжать по Европам [Исаченко 1954].
Однако едва ли справедливо видеть в гиперболизации (представлении единичного как множества) основное содержание грамматической семантики форм множественного числа в такого рода контекстах и выдвигать ее терминологически на передний план. Функционально-семантическим центром таких форм, как это будет показано в дальнейшем изложении, следует считать генерализующее обобщение, генерализацию, которая становится основой для пейоративного отчуждения. Сущность последнего состоит в том, что говорящий, отрицательно оценивая тот или иной объект, доводит эту отрицательную оценку до предела тем, что исключает объект из своего культурного и / или ценностного мира и, следовательно, отчуждает его, характеризуя его как элемент другой, чуждой ему и враждебной ему (объективно или субъективно – в силу собственной враждебности) культуры, другого – чуждого – мира.
Объяснение внутреннего механизма этой операции и особенностей ее языкового отражения и выражения следует искать прежде всего в специфике структуры образов «своего» и «чужого» мира, в которых они – эти два мира – представляются мифологическому и мифологизующему сознанию от древности до наших дней.
* * *
«Свой» мир (в максимально сжатой и по необходимости схематической характеристике) – это мир уникальных, индивидуальных, определенных в своей конкретности и известных в своей определенности для субъекта сознания и речи дискретных объектов, называемых собственными именами. «Свой» мир – это мир собственных имен. В нем и нарицательные имена ведут себя как собственные. «Свой» мир – то мир форм единственного числа со значением единичности. Формы множественного числа – там, где они необходимы, – используются в значении неоднородного множества.
«Чужой» мир (в противопоставлении «своему») – это мир этнически и / или хтонически (субстанционально), социально или культурно (и прежде всего – религиозно и идеологически) чуждый и враждебный. Это инишнее царство, ненаша земля, неверия неверная, поганая русского былевого эпоса, земля незнаемая «Слова о полку Игореве», чужие край и поганая нехристь русских славянофилов. Ср. еще «-…Был наш один изборьский в полону в неверных землях, и явилась тому полоненику матушка богородица…» (П. И. Якушкин. Путевые письма, 2 авг. 1859). Ср. также в письме Н. М. Языкова к Гоголю [1841] поздравление с возвращением из «нехристи немецкой». К этому же рейгановский образ империи зла как представление социалистического мира.
«Чужой» мир – мир неподвижный, статичный и плоский. Это мир, в котором нет дискретных объектов, и потому он воспринимается нерасчлененно – как речь на чужом языке. Ср.: «А приехали мурзы-улановья, Телячьим языком рассказывают…» (Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. – М., 1938. С. 99). Во мраке, окутывающем этот мир, не различаются ни частные детали, ни отдельные лица. Чужие предметы и предметно воспринимаемые живые существа образуют единую в своей кишащей слитности враждебную массу, состоящую из кажущихся абсолютно тождественными единиц, носителей одного имени. Индивид поэтому оказывается здесь представителем однородного ряда, из которого он актуально выделяется только в силу занимаемого им положения – правителя, предводителя войска, духовного руководителя и т. п. Взятый в синхронии, этот ряд выступает как толпа. Взятый в диахронии, он представляет генеалогическую линию как родовую бесконечность, подобную родовой бесконечности насекомых и диких животных. И так же, как в сказке уничтоженное в богатырской битве вражеское войско наутро воскресает из мертвых, чтобы начать новое сражение, так в русской былине Батыга-отец сменяет Батыгу-деда, чтобы в свой черед уступить место Батыге-сыну Все они Батыги и все – Батыги Батыговичи: «А й наеде Батька Батыгович со сыном своим со Батыгушкою….» (Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. М., 1949. Т. I. № 18).
Здесь есть смена, но нет развития. Движение идет по замкнутому кругу и потому иллюзорно. Вновь и вновь оно повторяет то, что уже было: тождество имен свидетельствует о полном тождестве их носителей. Это значит, что сын Батыги получает имя Батька не как династическое имя (ср. традицию династического именования у европейских монархов) и не в честь отца или деда, а потому, что такова его природная сущность: подобно тому как меч есть меч из множества и класса мечей, как щит есть не что иное, как щит – из множества и класса щитов, а Ворон Воронович русских сказок – ворон, так и Батыга не просто называется Батыга, но он и есть батыга – из генеалогической линии и синхронного ряда – толпы бесчисленных батыг. Таким образом, «чужой» мир – это мир форм множественного числа со значением однородного множества и мир нарицательных имен, в котором и собственные имена функционируют как нарицательные [Пеньковский 1989].
* * *
Понятно поэтому, что перевод существительных из ед. ч. во мн. ч. с одновременным преобразованием имен собственных (ИС) в нарицательные (ИН) может использоваться как знак принадлежности их денотатов «чужому» миру и тем самым как средство подчеркнутого выражения их резко отрицательной оценки:
При этом так же, как для ИН ед. ? ИН мн. мы различаем, например, театр ‘…’ + ‘свое’ ? театры
‘неоднородное множество театров’ и театр ‘…’ + ‘чужое’ 4 театры
‘однородное множество театров’ + ‘чужое’ + ‘плохое’, что нужно читать как ‘театр – это плохо’, а не как ‘плохие театры’, так и для параллельного ИС ед. ? ИН мн. необходимо различать хорошо известные и многократно обсуждавшиеся в литературе случаи типа Ньютоны ‘великие физики’, т. е. «неоднородное множество физиков, объединенных общим признаком ‘подобные Ньютону’ (по их вкладу в науку или по способности сделать такой вклад)» и случаи типа Батыга ‘былинный персонаж, предводитель татарской рати’ ? батьки ‘татарские воины, возглавляемые Батыгой’.
Следует специально подчеркнуть, что в случаях типа Ньютоны ‘великие физики’ мы имеем дело с единицами, которые занимают промежуточное положение между ИС и ИН – с разной степенью близости к ИН и с разной степенью связи с исходными ИС (в зависимости от степени однородности – неоднородности обозначаемых ими множеств и от уровня осознания этих признаков носителями языка, а также в зависимости от тех или иных особенностей контекста), но почти никогда не порывают окончательно с ИС, не переходят окончательно в ИН. Поэтому они объединяются с другими семантическими вариантами подобных имен в формах мн. ч., которые несут значение неоднородных множеств, состоящих из единиц, различающихся полом и возрастом (ср.: Ньютоны ‘неоднородное множество лиц, объединенных принадлежностью к семье Ньютона’), временем и местом существования (Ньютоны
‘неоднородное множество лиц, объединенных общностью происхождения, т. е. принадлежащих к роду Ньютонов’) или еще Ньютоны
‘неоднородное множество лиц, носящих фамилию Ньютон’. Значение неоднородного множества в случаях типа Ньютоны
‘великие физики’ свидетельствуется обычным употреблением подобных ИС / ИН с определителями временной (новые Ньютоны, Ньютоны наших дней) и этно-национальной (собственные Ньютоны, российские Ньютоны) и т. п. семантики. Все эти семантические варианты объединены также тем, что форма мн. ч. не вносит в них оценочного компонента значения. Положительная оценка, которую обычно отмечают в случае Ньютоны