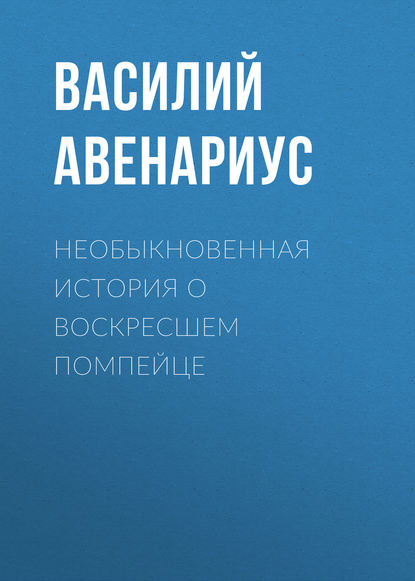По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Необыкновенная история о воскресшем помпейце
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Раз, милый мой, тебе надо узнать правду: всю Помпею Везувий засыпал своим пеплом.
– Великий Юпитер! И ничего от неё не осталось?
– Напротив, вся она прекрасно сохранилась, – благодаря именно тому, что была засыпана. Ты слышал, конечно, про знаменитого натуралиста твоего времени Плиния?
– Как не слыхать! Я имел честь даже принимать его у себя на вилле моей вместе с молодым племянником его, Каем-Плинием-Цецилием.
– Так вот дядя, Плиний Старший, погиб, наблюдая тогда извержение Везувия; племянник же, Плиний Младший, спасся и описал потом это извержение. Если хочешь, я сейчас прочту тебе его рассказ?
– Прочти, прочти, сделай милость!
Доставь из книжного шкафа требуемый том, Скарамуцциа прочел вслух отчет очевидца о разрушении Помпеи.
– И мне одному суждено было пережить всех их на столько веков… – проговорил помпеец. – Ну, что ж! богам угодно было продлить мой век, – исполним их высшую волю. Но до сих пор я не знаю еще, кому обязан своею жизнью?
Скарамуцциа удовлетворил его вопрос; затем, в свою очередь, заметил:
– Но ведь и мне еще неизвестно, кто гость мой?
– Виноват, великодушный друг! – воскликнул помпеец. – Первою обязанностью моей, разумеется, должно было быть, – успокоить тебя, что ты спас и приютил у себя не совсем недостойного. Слушай же. Я ничего от тебя не скрою.
Зовут меня Марком-Июнием-Фламинием. Фламинии, как ты, может быть, слышал, одна из древнейших фамилий римских патрициев. Отец мой. Марк Туллий Фламиний, в течение долгих лет занимал место проконсула в Родосе. К несчастью, он ослеп и вынужден был отказаться от дальнейшей службы. Мы возвратились в Рим; но, чтобы сделать из меня, своего единственного сына, достойного себе преемника, он взял с собою из Греции в наставники мне молодого философа Аристодема. До сей минуты не могу вспомнить об этом дорогом мне человеке без сердечного умиления! Он принадлежал к благородной школе Платона и, взявшись воспитать меня, весь отдался своей задаче, стараясь пробудить во мне одни чистые, светлые стремления, любовь к ближнему, к науке, к прекрасному. Пускать в дело ферулу[10 - Ферула – линейка, которою били по ладоням ленивых и непослушных учеников.] ему никогда не приходилось: не выпуская из рук грифеля и восковой доски, я готов был весь день сидеть у ног его и слушать его мудрые поучения. Но расчёт отца все-таки не совсем оправдался. Мне не было еще и 17 лет, как отец умер, оставив меня полным наследником всего своего состояния, очень значительного. Пустыми мирскими развлечениями римской молодежи я, правда, уже не увлекся. Но Аристодем давно томился тоской по родине и наговорил мне столько чудесного о своей милой Греции, что увидеть опять эту колыбель древнего искусства, которую я помнил только как сквозь сон, стало моей заветной мечтою. И вот, мы снарядили корабль, посетили сперва Родос и другие острова Греческого Архипелага, а там добрались и до самой Греции. Мы не пропустили, кажется, ни одного города, ни одного местечка, где совершилось что-либо замечательное, где сохранился какой-либо памятник искусства. Так одна Греция заняла у нас два года. Двухлетняя кочевая жизнь до того избаловала меня непрерывно-сменяющимися впечатлениями, что обратилась в неутолимую страсть. Наставник мой старался было образумить меня; но и самого его, может-быть, тянуло в чужие, неизведанные страны, и он не долго упорствовал, когда убедился, что я в конце концов настою на своем.
Так побывали мы с ним в Египте, в Мидии и, наконец, забрались в самую глубь Азии – в Индию.
Но тут я был жестоко наказан за свое упорство: Аристодем, в котором я видел уже не столько наставника, сколько лучшего друга и старшего брата, заразился индийской повальной болезнью – холерой, и в 24 часа его не стало. Надо ли говорить о моем отчаянии? Довольно того, что я потерял всякую охоту к жизни, – и стал отказываться даже от пищи. Неизвестно, чем бы я кончил, если бы во мне не принял участия один индийский факир, Амбаста, с которым мы последнее время перед тем вели горячие ученые споры. Участие его ко мне было, правда, скорее научное, чем человеческое.
– Ты, значить, уже не дорожишь жизнью? – спросил он меня.
– Нисколько, – отвечал я.
– Но науку ценишь?
– Ценю.
– Так пожертвуй собою для науки!
– Каким образом?
– Ты, помнишь, оспаривал, чтобы человек мог прожить три месяца без глотка воды, без куска пищи?
– И теперь не верю.
– Так отдайся мне ради науки!
– Но что ты сделаешь со мною?
– Боли тебе я никакой не причиню. Ты сам не заметишь, как заснешь; а через три месяца увидим, – кто был прав.
– То-есть, ты один увидишь, что я был прав; я уже не проснусь.
– Не проснешься, – так достигнешь только того, чего сам хочешь: вечного покоя, нирваны; стало быть, ничего не потеряешь. Итак, отдаешься, или нет?
– Отдаюсь, пожалуй.
Факир мой не дал мне одуматься, набальзамировал меня, как бездушный труп, усыпил меня наложением рук и закопал в землю. Сам я этого уже не сознавал; не чувствовал, сколько времени пролежал так в земле. Но когда я очнулся, то оказалось, что я пролежал ровно три месяца. Я должен отдать справедливость Амбасте, что он принял все меры, чтобы возвратить меня к жизни. Он даже перемудрил, не в меру поусердствовал: точно он налил мне в жилы какой-то чудотворной жидкости, у меня явился волчий голод, а кровь в жилах ключом заиграла. О смерти я забыл и думать; жизни, самой веселой, безрассудной жизни жаждал я всем существом. Но строгий быт богомольных, трудолюбивых индусов не давал мне развернуться. Легкомысленные потехи беспечных, разгульных римлян, которыми я когда-то пренебрегал, представлялись мне теперь особенно заманчивыми. То, чего у нас нет, всего более, ведь, нас прельщает. Я тут же решил возвратиться в Рим. Как ни отговаривал меня мой аскет-факир, который смотрел на меня уже как на свою собственность, я настоял на своем. Тогда он, скрепя сердце, собрался также вместе со мною. Он предвидел, что я еще пригожусь ему для новых опытов, а может быть, впрочем, он несколько тоже привязался ко мне. В Риме я тотчас обзавелся лучшими учителями по всем частям, требующим телесной ловкости, и вскоре в фехтовании, в метании дротика, в стрельбе из лука, в езде на колеснице, а также во всяких безрассудствах, между молодыми патрициями не было мне равного. Тут до меня дошел слух о молодой Лютеции, которая яркою звездою блистала между всеми красавицами Помпеи. Подобно другим патрициям, я собирался купить себе приморскую виллу, где мог бы спасаться от летних жаров. Теперь выбор мой остановился на Помпее. Вилла была скоро найдена, знакомство с отцом красавицы, квестором Помпонием, было скоро заключено. Как Юлий Цезарь, я с первого шага в дом рассчитывал «прийти, увидеть, победить». А между тем «пришел, увидел и был побежден» – побежден и божественной красотой её, и еще более дивной игрой её на арфе. Сама Эвтерпа[11 - Эвтерпа – муза лирического песнопения и музыки.]