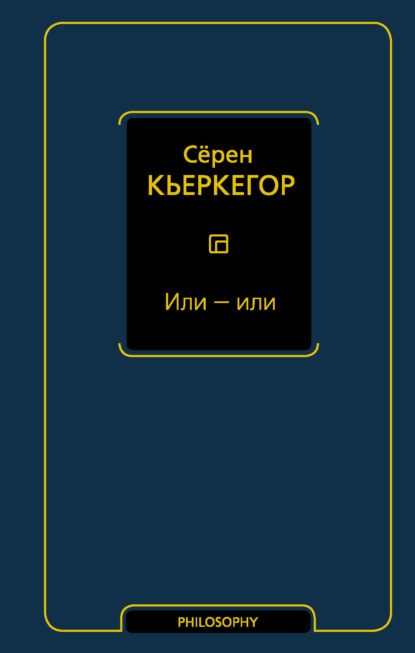По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Или – или
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Есть болтливое резонерство, которое по своей нескончаемости и в смысле значения для истории сходно со списком необозримых египетских родословных.
* * *
Старость, как известно, осуществляет мечты юности; пример – Свифт: в молодости он построил дом для умалишенных, а на старости лет и сам поселился в нем.
* * *
Можно просто испугаться того, с каким мрачным глубокомыслием открывали в старину англичане двусмысленность в основе смеха. Вот что говорит, например, д-р Гартли: «Смех при появлении у детей есть начинающийся плач, вызванный болью, или сразу подавленное и повторяющееся через короткие промежутки выражение чувства боли»… Что если все на свете было бы лишь одним недоразумением, если бы смех был, в сущности, плачем!
* * *
Корнелий Непот рассказывает, как один начальник большого кавалерийского отряда, запертый неприятелем в крепости, приказывал ежедневно бить лошадей кнутом, чтобы они не захворали от продолжительной стоянки и бездействия…
Я тоже теперь живу как осажденный, и чтобы не пострадать от продолжительного бездействия, плачу, плачу, пока не устану.
* * *
Сдается мне, я представляю собой нечто вроде шахматной фигуры, о которой противник говорит: заперта!
* * *
Аладдин[8 - Драма Эленшлегера. Сюжет взят из «Тысячи и одной ночи». – Прим. перев.] производит на нас такое освежающее впечатление именно потому, что мы видим в этой пьесе детски гениальную смелость самых причудливых желаний. А многие ли в наше время дерзают действительно пожелать, потребовать что-либо, обращаясь к природе: или, как благовоспитанное дитя, с просьбой «пожалуйста», или с бешенством отчаяния? В наше время много толкуют о том, что человек создан по образу и подобию Божию, но много ли найдется людей, которые, сознавая это, принимают по отношению к жизни тон повелителя? Не похожи ли мы все на Нурредина, низко кланяющегося духу, опасаясь потребовать слишком много или слишком мало? Не низводим ли мы каждое великое требование наше к болезненному созерцанию собственного «я»? Вместо того чтобы предъявлять требования жизни, мы предъявляем их себе… к этому нас, впрочем, готовят и дрессируют!
* * *
Громадная неувядаемая мощь древней народной поэзии в том и состоит, что в ней есть сила желаний. Желания же нашего времени только греховны и пошлы – у нас все сводится к желанию поживиться за счет ближнего. Народная поэзия превосходно сознает, что у ближнего нет того, чего она жаждет, и поэтому, если иной раз и предъявляет какое-нибудь грешное желание, то оно до того величественно, до того вопиет к небу, что заставляет содрогнуться. Эта поэзия не торгуется в своих требованиях с холодными соображениями трезвого рассудка до сих пор, например, Дон Жуан проходит перед нами на сцене со своими «1003 любовницами», и никто не осмелится улыбнуться, уже из одного уважения к преданию. А вздумай поэт создать что-либо подобное в наше время, его, наверное, осмеют.
* * *
Предание говорит, что Пармениск потерял способность смеяться в трофонийской пещере, но снова приобрел ее на острове Делос, увидев уродливый обрубок, считавшийся изображением богини Лето. Нечто вроде этого было и со мной.
В ранней юности я было разучился смеяться в трофонийской пещере; возмужав, я взглянул на жизнь открытыми глазами, засмеялся и с тех пор не перестаю… Я понял, что значение жизни сводится к «теплому местечку»; что цель жизни – чин статского или иного советника; истинный смысл и желание любви – женитьба на богатой; блаженство дружбы – денежная поддержка; истина – лишь то, что признается большинством; восторженность – способность произнести спич; храбрость – риск подвергнуться десятирублевому штрафу; сердечность – послеобеденное пожелание «на здоровье»; набожность – ежегодное говение… Я взглянул на жизнь и засмеялся.
* * *
Чем я связан? Из чего была цепь, которою сковали волка Фенриса? Из шума кошачьих шагов, из бород женщин, из корней гор, из дыхания рыб, из слюны птиц. И я скован цепью из мрачных фантазий, тревожных грез, беспокойных дум, жутких предчувствий и безотчетных страхов. Цепь эта «упруга, легка как шелк, растяжима до бесконечности, и ее нельзя разорвать».
* * *
Я, может быть, и постигну истину, но до познания блаженства душевного мне еще далеко. Что же мне делать? Скажут: «Займись делом». Каким? Чем мне заняться? Разве оповещать человечество о своей грусти, стараясь представить новые доказательства печального ничтожества человеческой жизни? Или открывать какие-нибудь новые, еще не известные доселе темные стороны жизни? Этим я мог бы, пожалуй, стяжать себе редкую награду: прославиться наподобие астронома, открывшего новые пятна на Юпитере. Предпочитаю, однако, молчать.
* * *
Удивительная вещь: во всех возрастах жизни человек занят одним и тем же, трудится над разрешением одной и той же проблемы и не только не двигается с места, а скорее даже идет назад. Еще пятнадцатилетним мальчиком я преважно написал школьное сочинение на тему «Доказательства бытия Бога, бессмертия души, необходимости веры и действительности чуда». На выпускном экзамене мне опять пришлось писать о бессмертии души, и мое сочинение удостоилось особого одобрения; несколько позже я получил даже премию за другое сочинение на ту же тему. Кто поверит, что после такого многообещающего начала я к двадцати пяти годам от роду дошел до того, что не мог привести ни одного доказательства в пользу бессмертия души! Особенно памятно мне, что одно из моих сочинений на упомянутую тему было прочитано учителем вслух и расхвалено как за мысли, так и за слог. …Увы! Сочинение это я давно куда-то забросил! Какая жалость! Может быть, оно рассеяло бы теперь мои сомнения. Вот мой совет родителям, начальникам и учителям: следует внушить детям хранить все написанные ими в пятнадцатилетнем возрасте сочинения на родном языке. Дать такой совет – единственное, что я могу сделать для блага человечества.
* * *
Как человеческая натура всегда верна себе! С какой природной гениальностью дает нам иногда маленький ребенок живую картину сложных житейских отношений. Так забавно было сегодня смотреть на маленького Людвига. Он сидел на своем высоком креслице и предовольно посматривал вокруг. По комнате прошла его няня Мария. «Мария!» – кричит он. «Что, Людвиг?» – ласково отвечает она и подходит к нему, а он, слегка наклонивши головку набок и глядя на нее своими большими лукавыми глазенками, прехладнокровно заявляет: «Не ту Марию, другую!»… А мы как поступаем? – Взываем ко всему человечеству, а когда люди приветливо идут нам навстречу, мы восклицаем: «Не ту Марию!»…
* * *
Моя жизнь – вечная ночь… Умирая, я мог бы воскликнуть, как Ахиллес:
Du bist vollbracht,
Nachtwache meines Daseins![9 - Ты завершилась,Ночная стража моего бытия! (нем.)]
* * *
Моя жизнь совершенно бессмысленна. Когда я перебираю в памяти различные ее эпохи, мне невольно хочется сравнить ее с немецким словом «Schnur», обозначающим, как известно, во-первых – шнурок, во-вторых – эпоху. Недоставало только, чтобы оно обозначало еще: в-третьих – верблюда, а в-четвертых – швабру.
* * *
Право, я похож на люнебургскую свинью. Мышление – моя страсть. Я отлично умею искать трюфели для других, сам не получая от того ни малейшего удовольствия. Я подымаю носом вопросы и проблемы, но все, что я могу сделать с ними, – это перебросить их через голову.
* * *
Как, однако, скука… ужасно скучна! Более верного или сильного определения я не знаю: равное выражается лишь равным. Если бы нашлось выражение более сильное, оно нарушило бы эту всеподавляющую косность. Я лежу пластом, ничего не делаю. Куда ни погляжу – везде пустота: живу в пустоте, дышу пустотой. И даже боли не ощущаю. Прометею хоть коршун печень клевал, на Локи хоть яд беспрерывно капал, – все же было хоть какое-нибудь разнообразие, хоть и однообразное. Для меня же и страдание потеряло свою сладость. Посулите мне все блага или все муки земные – я не повернусь даже на другой бок ради получения одних или во избежание других. Я медленно умираю. Что может развлечь меня? Вот если бы я увидел верность, восторжествовавшую над всеми испытаниями, увлечение, все преодолевшее, веру, двигающую горы, если б я видел торжество мысли, примиряющее конечное с бесконечным… Но ядовитое сомнение разрушает все. Моя душа подобна Мертвому морю, через которое не перелететь ни одной птице, – достигнув середины, она бессильно падает в объятия смерти.
* * *
Сопротивляться бесполезно. Нога моя скользит. Жизнь моя все-таки остается жизнью поэта. Можно ли представить себе более злосчастное положение? Я отмечен, судьба смеется надо мной, показывая как все мои попытки к сопротивлению превращаются в поэтические моменты. Я могу описать надежду с такой жизненной правдой, что всякий, «надеющийся и верующий» в жизнь, узнает себя в моем описании, а оно все-таки ложь: я создал его лишь по воспоминаниям.
* * *
Несоразмерность в построении моего тела состоит в том, что у меня, как у новоголландского зайца, слишком короткие передние ноги и слишком длинные задние. На месте я вообще сижу спокойно, но чуть двинусь с места, движение это проявляется громадным прыжком, к ужасу всех, кто связан со мной узами родства или дружбы.
* * *
Удивительно! С каким страхом цепляется человек за жизнь, одинаково боясь и утратить ее, и удержать за собою. Иногда мне приходит мысль сделать решительный шаг, перед которым все мои прежние эксперименты окажутся детской забавой: хочу пуститься в неведомый путь великих открытий. Кораблю, спускаемому с верфи в море, салютуют выстрелами, так же хотел бы я отсалютовать и себе самому. А между тем… Мужества, что ли, не хватает у меня? Хоть бы кирпич свалился мне на голову и пришиб меня до смерти, – все был бы исход!
* * *
Зачем я не родился в бедной семье, зачем не умер ребенком? Отец положил бы меня в гробик, взял его под мышку, снес ранним воскресным утром на кладбище и сам закопал бы в могилку, пробормотав несколько слов, ему одному понятных… Лишь счастливой древности могла прийти мысль изображать младенцев в Элизиуме, оплакивающих свою преждевременную смерть.
* * *
Я никогда не был веселым в душе, а между тем веселье как будто всегда сопутствует мне, вокруг меня словно всегда порхают невидимые для других легкие гении веселья, любуясь которыми, глаза мои сияют радостью. И вот люди завидуют мне, когда я прохожу мимо них счастливый и веселый, как полубог, а я хохочу – я презираю людей и мщу им. Я никогда не унижался до того, чтобы пожелать обидеть кого-нибудь фактически, нанести действительное оскорбление, но всегда умел повернуть дело так, что люди, вступавшие со мной в сношения, выносили впечатление какой-то обиды. Слыша, как хвалят других за честность и верность, я хохочу. Я никогда не был жестокосердым, но именно в минуты наисильнейшего сердечного волнения я принимал самый холодный и бесчувственный вид. Слыша, как превозносят других за доброе сердце, любят за нежные глубокие чувства, я хохочу. Видя ненависть и презрение ко мне со стороны людей, слыша их проклятия моей холодности и бессердечию, я хохочу, потому что презираю людей и мщу им; я хохочу – и моя злоба удовлетворяется. Вот если бы этим добрым людям удалось довести меня до того, чтобы я провинился фактически, поступил несправедливо, – тогда я был бы побежден.
* * *
Вино больше не веселит моего сердца: малая доза вызывает у меня грустное настроение, большая – меланхолию. Моя душа немощна и бессильна; напрасно я вонзаю в нее шпоры страсти, она изнемогла и не воспрянет более в царственном прыжке. Я вконец утратил иллюзии. Напрасно пытаюсь я отдаться крылатой радости: она не в силах поднять мой дух, вернее, он сам не в силах подняться; а бывало, при одном веянии ее крыл я чувствовал себя так легко, свежо и бодро. Бывало еду по лесу верхом, тихим шагом, а чудится – лечу на крыльях ветра; ныне же конь весь в пене, готов рухнуть оземь, а все кажется, что я не двигаюсь с места!
Я одинок, я всегда был одинок; я покинут не людьми – это меня не огорчило бы, – а гениями веселья. Бывало, они окружали меня со всех сторон, всюду отыскивали себе товарищей, везде ловили для меня случай; сонмы веселых эльфов толпились вокруг меня, как вокруг пьяного шаловливые школьники, и я улыбался им. Душа моя утратила самое понятие о возможности. Если бы мне предложили пожелать чего-нибудь, я пожелал бы не богатства, не власти, а страстной веры в возможность, взора, вечно юного, вечно горящего, повсюду видящего возможность… Наслаждение разочаровывает, возможность – никогда. Где найдется вино, такое душистое, пенистое, опьяняющее, как «возможность»?
* * *
Звуки проникают и туда, куда не проникают солнечные лучи. Комната у меня темная, мрачная; высокая каменная стена против окна почти совсем заслоняет дневной свет. Слышатся звуки музыки… Должно быть, из соседнего двора… Вероятно, бродячий музыкант… Какой же это инструмент? Камышовая свирель? Что я слышу! Менуэт из Дон Жуана. Умчите же меня, могучие, полные звуки, к танцам, к шумному веселью, к женщинам! Аптекарь что-то толчет в ступе, кухарка выскребает кастрюлю, конюх выколачивает о мостовую скребницу. Но звуки музыки принадлежат мне одному, увлекают лишь одного меня! О, благодарю тебя, благодарю, кто бы ты ни был! Душа моя так оживлена, так полна восторгом!