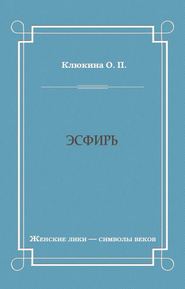По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Святые в истории. Жития святых в новом формате. VIII-XI века
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2015
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ведь «изображение не во всем бывает подобно первообразу», и у иконы существует свое назначение – она призвана помогать человеку подниматься до понимания духовных предметов.
«Изображение есть напоминание: и чем является книга для тех, которые помнят чтение и письмо, тем же для неграмотных служит изображение; и что для слуха – слово, это же для зрения – изображение, при помощи же ума мы вступаем в единение с ним», – с большим пониманием человеческой природы пишет Иоанн Дамаскин.
Ободряя, он призывает православных христиан: «Все рисуй: и словом, и красками, и в книгах, и на досках».
Писатель задается вполне логичным вопросом: почему гонениям вдруг стали подвергаться именно иконы? «Ведь христиане поклоняются Синайской горе, также Назарету, находящимся в Вифлееме яслям и вертепу, Святой Голгофе, древу Креста, гвоздям, губке, трости, священному и спасительному копью, одеянию, хитону, покрывалам, пеленам, Святому Гробу – источнику нашего воскресения, камню гроба… и много чему еще», – перечисляет Иоанн Дамаскин. И напоминает, что все эти христианские святыни – одновременно и символ, и «материальное вещество».
«Или устрани почитание и поклонение всему этому, или, повинуясь церковному преданию, допусти поклонение иконам, освящаемым именем Бога и друзей Божиих и по причине этого осеняемым благодатию Божественного Духа», – полемизирует он с иконоборцами.
Отрицающие иконы почему-то забыли: многие подвижники, почитаемые Церковью, имели у себя иконы. Из жития святого Василия Великого известно, что он молился и даже имел откровение перед иконой Богородицы, на которой был также начертан образ мученика Меркурия. А святой Иоанн Златоуст вообще не расставался с изображением апостола Павла, которого глубоко почитал.
«И когда он прочитывал его послания, то, не сводя глаз, смотрел на изображение, и с таким вниманием взирал на него, как если бы апостол был живой, – прославляя его и представляя себе, к нему направляя все свое размышление, и чрез созерцание изображения беседовал с ним» – вот, по Иоанну Дамаскину, образец достойного и правильного иконопочитания.
Многим современникам Дамаскина была хорошо известна легенда о царе Авгаре, жившем в то время, когда Христос ходил по земле. Как-то, услышав об Иисусе, царь пожелал Его увидеть, но в тот момент не мог отправиться в Палестину. Тогда правитель Эдесского царства дал ехавшему в Иерусалим купцу кусок полотна, сказав: «Если Он не пожелает прийти сюда, то напиши Его образ и принеси мне; и я поцелую Его. И будет он во спасение моему народу и в заступничество».
По одной из версий, тем самым «купцом» был апостол и евангелист Лука, хотя эта легенда известна и в других вариантах.
По преданию, плат с запечатленным на нем образом Иисуса Христа многие годы висел над городскими воротами Эдессы, крупного древнего
поселения в Северном Междуречье (ныне город Шанлыурфа в Турции).
Об этом изображении, первой нерукотворной иконе, Иоанн Дамаскин напоминает в «Третьем защитительном слове против порицающих святые иконы», приводя царя Авгаря как дошедший из древности пример иконопочитания.
Не забыл Иоанн Дамаскин и о жившем в IV – начале V века епископе Епифании Кипрском, авторитетной фигуре в церковных кругах, поднятой иконоборцами «на свой флаг».
Как-то епископ Епифаний навестил одну епархию в Палестине и, увидев в храме завесу с изображением, как ему показалось, человека, с гневом ее разорвал. А материю демонстративно велел отдать на покрытие гроба какого-то нищего.
«Если же ты говоришь, что Божественный и достойный удивления Епифаний определенно запретил их [изображения], то знай, что, во-первых, эта книга может быть неверно надписана [его именем] и подложна: будучи трудом одного, она носит имя другого, что многие привыкли делать», – напоминает Иоанн Дамаскин. И приводит обезоруживающий контраргумент: церковь самого Епифания на Кипре во время жизни Иоанна была украшена многочисленными иконами, да и вообще история с завесой могла иметь какой-то другой смысл.
«Ведь цель – не победить, но протянуть руку подвергающейся нападению истине, так как добрая воля протягивает руку силы», – говорит
Иоанн Дамаскин в «Первом защитительном слове против порицающих святые иконы». И эта протянутая рука так и представляется той, что была исцелена возле чудотворной иконы.
Многие православные христиане могли подписаться под его словами, сказанными как будто и от их лица: «Для меня недостаточно книг, я не имею досуга для чтения, я вхожу в общую врачебницу душ – церковь, задушаемый помыслами, как бы колючими растениями. Цвет живописи влечет меня к созерцанию и, как луч, услаждая зрение, незаметно вливает в душу славу Божию. Я созерцаю терпение мученика, воздаяния венцов, и, как бы огнем, воспламеняюсь желанием к соревнованию ему…»
Наиболее драматичные моменты в истории иконоборчества в VIII веке пришлись на время царствования сына Льва III, византийского императора Константина V Копронима.
По преданию, во время крещения младенец Константин испражнился в святую купель, что уже было истолковано Патриархом Германом как дурное предзнаменование. К Константину V прочно приклеилось и вошло в историю неблагозвучное прозвище Копроним (переводят как «дерьмоименный», «навозник», «засранец»), и в этом есть отголоски народной ненависти к императору-иконоборцу.
Во время его правления по всей Византии жгли монастыри, безжалостно уничтожались древние иконы – ведь на стороне иконоборцев было правительство, вооруженное законом и мечом.
Император Константин V испытывал особую ненависть к монашеству, называя его «ненавистной» расой, носящей одеяние тьмы. Он считал, что монахов надо всех или истребить, или «переделать».
Феофан Исповедник рассказывает, как во исполнение императорского указа стратиг Фракисийской фемы (большого военно-административного округа) Михаил Лаханодракон согнал в одно место всех находящихся на его территории монахов и монахинь и объявил: «Кто не хочет быть ослушником царской воли, пусть снимет темное одеяние и немедленно возьмет себе жену, в противном случае будет ослеплен и сослан на остров Кипр».
Многие в этот день, как сообщает историк, получили мученический венец, но были и те, кто изменил своим монашеским обетам.
Запомнили современники и редкое «зрелище» на ипподроме, которое Константин Копроним устроил в августе 765 года для жителей Константинополя. Выстроенные попарно монахи и монахини шли вдоль трибун, а зрители в них плевались, отпускали непристойные шутки и соревновались в том, кто придумает более изощренное издевательство.
В «Арабском житии Иоанна Дамаскина» говорится, что в царствование Константина V Копронима вместе со Стефаном Новым, исповедником за иконы, в темнице находились в заключении триста сорок отцов, «члены которых носили следы жестоких отсечений, многочисленных ударов и мучений за поклонение иконам». А когда к Стефану Новому пришли ученики, он велел им читать сочинения Иоанна Дамаскина, которые в то время звучали не просто как полемические сочинения, а как воззвания, памфлеты в защиту икон.
«Не потерпим того, чтоб в иное время мы думали другое, и чтобы изменялись под влиянием обстоятельств, и чтоб вера делалась для внешних (т. е. нехристиан. – Ред.) предметом смеха и шутки! Не стерпим подчинения царскому приказанию, пытающемуся уничтожить обычай, ведущий начало от отцов! Ибо несвойственно благочестивым царям уничтожать церковные постановления. Это – не отеческие дела. Ибо дела, совершаемые посредством насилия, а не – убеждения, суть разбойнические» («Первое защитительное слово…»).
Иоанн Дамаскин называл святых друзьями Христа, а тех, кто отрицает иконы мучеников, – врагами святых, призывая верующих: «Не бесчестите матери нашей – Церкви! Не совлекайте украшения ее!»
Иконоборческий собор 754 года предал Иоанна Дамаскина проклятию, как «мыслящего по-сарацински, сочинителя лжи, клеветавшего на
Христа и злоумышлявшего против государства, учителя нечестия, извращавшего Писание». Вместе с ним были преданы анафеме еще два защитника икон – Герман, Патриарх Константинопольский, и епископ Георгий Критский.
По одной версии, Иоанн Дамаскин присутствовал на том соборе, обличал иконоборцев, перенес тюремное заключение и пытки, после чего снова вернулся в монастырь Святого Саввы, где вскоре скончался. Но исторически более обоснованна другая версия, по которой к тому времени Иоанна Дамаскина, как и двух других преданных анафеме защитников икон, уже не было в живых.
Иоанн Дамаскин скончался около 754 года (по другим данным, около 780 года) и был погребен в Лавре Саввы Освященного возле раки с мощами преподобного Саввы.
Прошли годы, и в 787 году VII Вселенский Собор подтвердил верность учения Иоанна Дамаскина об иконопочитании.
В «Арабском житии Иоанна Дамаскина» приводится немало замечательных историй из его жизни в монастыре Святого Саввы.
Когда Иоанн прибыл в Палестину и обратился к настоятелю с просьбой разрешить ему поселиться в обители и принять монашество, тот очень обрадовался его приходу. Но никто не хотел принять Иоанна под свое духовное руководство – «вследствие его великой славы, возвышенного положения и почитания его». Наконец нашелся один из старцев, который согласился, все же сразу поставив Иоанну условие: «Не делай никакого дела без моего указания и совета. Не пиши никому писем. О мирских науках, которые ты изучил, не говори и не вспоминай вовсе». Иоанн пообещал в точности следовать всем этим указаниям.
Старец придумывал различные испытания, чтобы закалить послушание Иоанна. Например, однажды велел ему пойти продавать корзины в Дамаск, назначив за них двойную цену, в другой раз приказал вычищать в монастыре отхожие места, и Иоанн со смирением и благодарностью все исполнял.
Как-то в монастыре умер один старец, и его брат, тоже монах, по этому поводу сильно печалился. Он обратился к Иоанну с просьбой, чтобы тот составил для него тропарь «в виде утешения в его скорби, чтобы он его произносил и утешался, когда будет читать его, и отвлекался им от рыданий».
Иоанн рассказал ему о своем обещании старцу отказаться от творчества, будь то сочинение трактатов или песнопения. Но монах с рыданиями умолял, говоря, что он будет петь тропарь только наедине, когда его никто не услышит, и Иоанн Дамаскин из человеколюбия согласился. Тогда-то он и написал те прекрасные, благозвучные тропари, которые до сих пор исполняются при погребении христиан.
Когда Иоанн дописывал и громко пел последние строки, только что сочиненное песнопение услышал его духовный наставник. Узнав, что Иоанн не сдержал слово, он «изгнал его от себя», что означало: сочинитель должен был вообще удалиться из монастыря. Но ночью к суровому старцу явилась Богородица, вразумила его, после чего наставник пришел к Иоанну и сказал: «Сын мой духовный! Если отныне к тебе придет слово, которое ты скажешь, то никто не будет тебя от него удерживать, так как Бог одобряет и любит это. Открой уста твои и говори о всем, что тебя будет вдохновлять. Мое же запрещение тебе объясняется моим невежеством и малознанием».
С тех пор Иоанн Дамаскин стал писать книги и музыку, заслужив у современников прозвища «Святоречивый», «Золотой поток», «Златоточивый», «Златоструй», «Мансур Сладкопевец».
Каждый год на Пасху, на пасхальной заутрене, словно из глубины веков, сначала тихо, а затем все громче, торжествующе звучит: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав…»
Эту праздничную пасхальную службу тоже написал Иоанн, родом из Дамаска.
Праведная царица Феодора
(ок. 815 – ок. 867)
Праведная царица Феодора. Современная икона. Деян Манделц. Сербия.
…Да восстановит былую красу Божия Церковь!
…И сказали отроки царя, служившие при нем: пусть бы поискали царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц, красивых видом, в престольный город Сузы, в дом жен под надзор Гегая, царского евнуха, стража жен, и пусть бы выдавали им притиранья (и прочее, что нужно); и девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицею вместо Астинь. И угодно было слово это в глазах царя, и он так и сделал (Есф. 2: 2–4).
Должно быть, в Византии IX века были хорошо знакомы с ветхозаветной Книгой Есфирь, где вначале рассказывается о том, как в V веке до н. э. персидский царь Артаксеркс выбирал себе супругу.
Примерно такой же «конкурс красоты» устроил в своем дворце и византийский император Феофил.
В начале 830 года со всех концов Византийской империи в Константинополь были привезены самые красивые дочери из знатных семейств для избрания императрицы. В царских палатах девушек выстроили в ряд, и молодой император, держа в руке золотое яблоко, начал делать обход.
«Изображение есть напоминание: и чем является книга для тех, которые помнят чтение и письмо, тем же для неграмотных служит изображение; и что для слуха – слово, это же для зрения – изображение, при помощи же ума мы вступаем в единение с ним», – с большим пониманием человеческой природы пишет Иоанн Дамаскин.
Ободряя, он призывает православных христиан: «Все рисуй: и словом, и красками, и в книгах, и на досках».
Писатель задается вполне логичным вопросом: почему гонениям вдруг стали подвергаться именно иконы? «Ведь христиане поклоняются Синайской горе, также Назарету, находящимся в Вифлееме яслям и вертепу, Святой Голгофе, древу Креста, гвоздям, губке, трости, священному и спасительному копью, одеянию, хитону, покрывалам, пеленам, Святому Гробу – источнику нашего воскресения, камню гроба… и много чему еще», – перечисляет Иоанн Дамаскин. И напоминает, что все эти христианские святыни – одновременно и символ, и «материальное вещество».
«Или устрани почитание и поклонение всему этому, или, повинуясь церковному преданию, допусти поклонение иконам, освящаемым именем Бога и друзей Божиих и по причине этого осеняемым благодатию Божественного Духа», – полемизирует он с иконоборцами.
Отрицающие иконы почему-то забыли: многие подвижники, почитаемые Церковью, имели у себя иконы. Из жития святого Василия Великого известно, что он молился и даже имел откровение перед иконой Богородицы, на которой был также начертан образ мученика Меркурия. А святой Иоанн Златоуст вообще не расставался с изображением апостола Павла, которого глубоко почитал.
«И когда он прочитывал его послания, то, не сводя глаз, смотрел на изображение, и с таким вниманием взирал на него, как если бы апостол был живой, – прославляя его и представляя себе, к нему направляя все свое размышление, и чрез созерцание изображения беседовал с ним» – вот, по Иоанну Дамаскину, образец достойного и правильного иконопочитания.
Многим современникам Дамаскина была хорошо известна легенда о царе Авгаре, жившем в то время, когда Христос ходил по земле. Как-то, услышав об Иисусе, царь пожелал Его увидеть, но в тот момент не мог отправиться в Палестину. Тогда правитель Эдесского царства дал ехавшему в Иерусалим купцу кусок полотна, сказав: «Если Он не пожелает прийти сюда, то напиши Его образ и принеси мне; и я поцелую Его. И будет он во спасение моему народу и в заступничество».
По одной из версий, тем самым «купцом» был апостол и евангелист Лука, хотя эта легенда известна и в других вариантах.
По преданию, плат с запечатленным на нем образом Иисуса Христа многие годы висел над городскими воротами Эдессы, крупного древнего
поселения в Северном Междуречье (ныне город Шанлыурфа в Турции).
Об этом изображении, первой нерукотворной иконе, Иоанн Дамаскин напоминает в «Третьем защитительном слове против порицающих святые иконы», приводя царя Авгаря как дошедший из древности пример иконопочитания.
Не забыл Иоанн Дамаскин и о жившем в IV – начале V века епископе Епифании Кипрском, авторитетной фигуре в церковных кругах, поднятой иконоборцами «на свой флаг».
Как-то епископ Епифаний навестил одну епархию в Палестине и, увидев в храме завесу с изображением, как ему показалось, человека, с гневом ее разорвал. А материю демонстративно велел отдать на покрытие гроба какого-то нищего.
«Если же ты говоришь, что Божественный и достойный удивления Епифаний определенно запретил их [изображения], то знай, что, во-первых, эта книга может быть неверно надписана [его именем] и подложна: будучи трудом одного, она носит имя другого, что многие привыкли делать», – напоминает Иоанн Дамаскин. И приводит обезоруживающий контраргумент: церковь самого Епифания на Кипре во время жизни Иоанна была украшена многочисленными иконами, да и вообще история с завесой могла иметь какой-то другой смысл.
«Ведь цель – не победить, но протянуть руку подвергающейся нападению истине, так как добрая воля протягивает руку силы», – говорит
Иоанн Дамаскин в «Первом защитительном слове против порицающих святые иконы». И эта протянутая рука так и представляется той, что была исцелена возле чудотворной иконы.
Многие православные христиане могли подписаться под его словами, сказанными как будто и от их лица: «Для меня недостаточно книг, я не имею досуга для чтения, я вхожу в общую врачебницу душ – церковь, задушаемый помыслами, как бы колючими растениями. Цвет живописи влечет меня к созерцанию и, как луч, услаждая зрение, незаметно вливает в душу славу Божию. Я созерцаю терпение мученика, воздаяния венцов, и, как бы огнем, воспламеняюсь желанием к соревнованию ему…»
Наиболее драматичные моменты в истории иконоборчества в VIII веке пришлись на время царствования сына Льва III, византийского императора Константина V Копронима.
По преданию, во время крещения младенец Константин испражнился в святую купель, что уже было истолковано Патриархом Германом как дурное предзнаменование. К Константину V прочно приклеилось и вошло в историю неблагозвучное прозвище Копроним (переводят как «дерьмоименный», «навозник», «засранец»), и в этом есть отголоски народной ненависти к императору-иконоборцу.
Во время его правления по всей Византии жгли монастыри, безжалостно уничтожались древние иконы – ведь на стороне иконоборцев было правительство, вооруженное законом и мечом.
Император Константин V испытывал особую ненависть к монашеству, называя его «ненавистной» расой, носящей одеяние тьмы. Он считал, что монахов надо всех или истребить, или «переделать».
Феофан Исповедник рассказывает, как во исполнение императорского указа стратиг Фракисийской фемы (большого военно-административного округа) Михаил Лаханодракон согнал в одно место всех находящихся на его территории монахов и монахинь и объявил: «Кто не хочет быть ослушником царской воли, пусть снимет темное одеяние и немедленно возьмет себе жену, в противном случае будет ослеплен и сослан на остров Кипр».
Многие в этот день, как сообщает историк, получили мученический венец, но были и те, кто изменил своим монашеским обетам.
Запомнили современники и редкое «зрелище» на ипподроме, которое Константин Копроним устроил в августе 765 года для жителей Константинополя. Выстроенные попарно монахи и монахини шли вдоль трибун, а зрители в них плевались, отпускали непристойные шутки и соревновались в том, кто придумает более изощренное издевательство.
В «Арабском житии Иоанна Дамаскина» говорится, что в царствование Константина V Копронима вместе со Стефаном Новым, исповедником за иконы, в темнице находились в заключении триста сорок отцов, «члены которых носили следы жестоких отсечений, многочисленных ударов и мучений за поклонение иконам». А когда к Стефану Новому пришли ученики, он велел им читать сочинения Иоанна Дамаскина, которые в то время звучали не просто как полемические сочинения, а как воззвания, памфлеты в защиту икон.
«Не потерпим того, чтоб в иное время мы думали другое, и чтобы изменялись под влиянием обстоятельств, и чтоб вера делалась для внешних (т. е. нехристиан. – Ред.) предметом смеха и шутки! Не стерпим подчинения царскому приказанию, пытающемуся уничтожить обычай, ведущий начало от отцов! Ибо несвойственно благочестивым царям уничтожать церковные постановления. Это – не отеческие дела. Ибо дела, совершаемые посредством насилия, а не – убеждения, суть разбойнические» («Первое защитительное слово…»).
Иоанн Дамаскин называл святых друзьями Христа, а тех, кто отрицает иконы мучеников, – врагами святых, призывая верующих: «Не бесчестите матери нашей – Церкви! Не совлекайте украшения ее!»
Иконоборческий собор 754 года предал Иоанна Дамаскина проклятию, как «мыслящего по-сарацински, сочинителя лжи, клеветавшего на
Христа и злоумышлявшего против государства, учителя нечестия, извращавшего Писание». Вместе с ним были преданы анафеме еще два защитника икон – Герман, Патриарх Константинопольский, и епископ Георгий Критский.
По одной версии, Иоанн Дамаскин присутствовал на том соборе, обличал иконоборцев, перенес тюремное заключение и пытки, после чего снова вернулся в монастырь Святого Саввы, где вскоре скончался. Но исторически более обоснованна другая версия, по которой к тому времени Иоанна Дамаскина, как и двух других преданных анафеме защитников икон, уже не было в живых.
Иоанн Дамаскин скончался около 754 года (по другим данным, около 780 года) и был погребен в Лавре Саввы Освященного возле раки с мощами преподобного Саввы.
Прошли годы, и в 787 году VII Вселенский Собор подтвердил верность учения Иоанна Дамаскина об иконопочитании.
В «Арабском житии Иоанна Дамаскина» приводится немало замечательных историй из его жизни в монастыре Святого Саввы.
Когда Иоанн прибыл в Палестину и обратился к настоятелю с просьбой разрешить ему поселиться в обители и принять монашество, тот очень обрадовался его приходу. Но никто не хотел принять Иоанна под свое духовное руководство – «вследствие его великой славы, возвышенного положения и почитания его». Наконец нашелся один из старцев, который согласился, все же сразу поставив Иоанну условие: «Не делай никакого дела без моего указания и совета. Не пиши никому писем. О мирских науках, которые ты изучил, не говори и не вспоминай вовсе». Иоанн пообещал в точности следовать всем этим указаниям.
Старец придумывал различные испытания, чтобы закалить послушание Иоанна. Например, однажды велел ему пойти продавать корзины в Дамаск, назначив за них двойную цену, в другой раз приказал вычищать в монастыре отхожие места, и Иоанн со смирением и благодарностью все исполнял.
Как-то в монастыре умер один старец, и его брат, тоже монах, по этому поводу сильно печалился. Он обратился к Иоанну с просьбой, чтобы тот составил для него тропарь «в виде утешения в его скорби, чтобы он его произносил и утешался, когда будет читать его, и отвлекался им от рыданий».
Иоанн рассказал ему о своем обещании старцу отказаться от творчества, будь то сочинение трактатов или песнопения. Но монах с рыданиями умолял, говоря, что он будет петь тропарь только наедине, когда его никто не услышит, и Иоанн Дамаскин из человеколюбия согласился. Тогда-то он и написал те прекрасные, благозвучные тропари, которые до сих пор исполняются при погребении христиан.
Когда Иоанн дописывал и громко пел последние строки, только что сочиненное песнопение услышал его духовный наставник. Узнав, что Иоанн не сдержал слово, он «изгнал его от себя», что означало: сочинитель должен был вообще удалиться из монастыря. Но ночью к суровому старцу явилась Богородица, вразумила его, после чего наставник пришел к Иоанну и сказал: «Сын мой духовный! Если отныне к тебе придет слово, которое ты скажешь, то никто не будет тебя от него удерживать, так как Бог одобряет и любит это. Открой уста твои и говори о всем, что тебя будет вдохновлять. Мое же запрещение тебе объясняется моим невежеством и малознанием».
С тех пор Иоанн Дамаскин стал писать книги и музыку, заслужив у современников прозвища «Святоречивый», «Золотой поток», «Златоточивый», «Златоструй», «Мансур Сладкопевец».
Каждый год на Пасху, на пасхальной заутрене, словно из глубины веков, сначала тихо, а затем все громче, торжествующе звучит: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав…»
Эту праздничную пасхальную службу тоже написал Иоанн, родом из Дамаска.
Праведная царица Феодора
(ок. 815 – ок. 867)
Праведная царица Феодора. Современная икона. Деян Манделц. Сербия.
…Да восстановит былую красу Божия Церковь!
…И сказали отроки царя, служившие при нем: пусть бы поискали царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц, красивых видом, в престольный город Сузы, в дом жен под надзор Гегая, царского евнуха, стража жен, и пусть бы выдавали им притиранья (и прочее, что нужно); и девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицею вместо Астинь. И угодно было слово это в глазах царя, и он так и сделал (Есф. 2: 2–4).
Должно быть, в Византии IX века были хорошо знакомы с ветхозаветной Книгой Есфирь, где вначале рассказывается о том, как в V веке до н. э. персидский царь Артаксеркс выбирал себе супругу.
Примерно такой же «конкурс красоты» устроил в своем дворце и византийский император Феофил.
В начале 830 года со всех концов Византийской империи в Константинополь были привезены самые красивые дочери из знатных семейств для избрания императрицы. В царских палатах девушек выстроили в ряд, и молодой император, держа в руке золотое яблоко, начал делать обход.