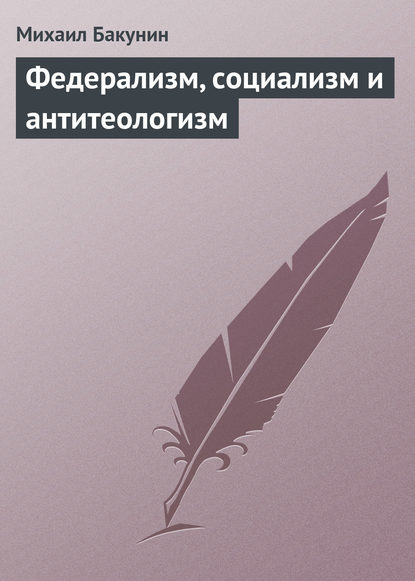По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Федерализм, социализм и антитеологизм
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Штаты Юга в великой республиканской конфедерации Северной Америки были с момента провозглашения независимости республиканских Штатов преимущественно демократичными[8 - Как известно, в Америке приверженцы интересов Юга против Севера, т. е. рабства против освобождения рабов, называют себя демократами.] и федералистскими, вплоть до желания отделиться. И все же они в последнее время вызвали осуждение защитников свободы и человечности во всем мире и своей несправедливой и святотатственной войной против республиканских Штатов Севера чуть было не разрушили и не уничтожили самую прекрасную политическую организацию из всех, когда-либо существовавших в истории. В чем причина такого странного факта? Была ли эта причина политической? Нет, она всецело социальная. Внутреннее политическое устройство Южных Штатов было даже во многих отношениях более совершенным, являло собой большую свободу, чем устройство Северных Штатов. Только в этом устройстве было одно черное пятно, как и в республиках древнего мира: свобода граждан была основана на насильственном труде рабов. Этого черного пятна было достаточно, чтобы прекратить всякое политическое существование этих Штатов.
Граждане и рабы – таков был антагонизм древнего мира, как и рабовладельческих государств нового мира. Граждане и рабы, т. е. принужденные работники, рабы если не по праву, то на деле, – вот антагонизм современного мира. Подобно тому как древние государства погибли от рабства, так и современные государства погибнут от пролетариата.
Напрасны старания утешиться мыслью, что это антагонизм скорее фиктивный, чем действительный, или что невозможно провести линию раздела между имущими и неимущими классами, так как эти классы переходят один в другой посредством множества промежуточных к неуловимых оттенков. В естественном мире также не существует линии раздела; так, например, в восходящем ряду существ невозможно указать точку, где кончается растительное и начинается животное царство, где кончается животное царство и начинается человечество. Тем не менее, существует вполне реальное различие между растением и животным, между животным и человеком. Так же точно в человеческом обществе, несмотря на промежуточные звенья, делающие незаметными переход от одного политического и социального положения к другому, различие между классами вполне определенно, и всякий сумеет различить дворянскую аристократию от финансовой аристократии, крупную буржуазию от мелкой буржуазии, а эту последнюю от фабричных и городских пролетариев; так же точно, как крупного землевладельца, рантье, крестьянина-собственника, собственноручно обрабатывающего землю, фермера от простого деревенского пролетария.
Все эти различные политические и социальные реалии – сводятся в настоящее время к двум диаметрально противоположным основным категориям, естественным врагам друг для друга: политические[9 - Привилегированные?]классы, состоящие, из лиц, имеющих привилегии в отношении как земли, так и капитала, или даже только буржуазного образования[10 - Даже за неимением имущества это буржуазное образование при той солидарности, которая связывает всех членов буржуазного мира, обеспечивает получившему его громадную привилегию в вознаграждении за труд – ибо труд самого посредственного буржуа оплачивается в три, в четыре раза дороже, чем труд самого умного рабочего.], и рабочие классы, обделенные как капиталом, так и землей, и лишенные всякого образования и воспитания.
Надо быть софистом или слепым, чтобы отрицать пропасть, разделяющую эти два класса. Подобно древнему миру, наша современная цивилизация с сравнительно небольшим числом привилегированных граждан основана на принудительном труде (к которому понуждает голод) громадного большинства населения, обреченного на невежество и грубость.
Напрасны также старания уверить себя, что эту пропасть можно уничтожить простым распространением просвещения в народных массах. Прекрасное дело основывать народные школы, но надо спросить себя, может ли человек из народа, перебивающийся изо дня в день и кормящий свою семью работой своих рук, лишенный сам образования и досуга и вынужденный убивать и отуплять себя работой, чтобы обеспечить свою семью хлебом на завтрашний день, – надо спросить себя, может ли такой человек хотя бы помышлять, желать, не говоря уж о том, чтобы иметь возможность, отправить своих детей в школу и содержать их во время обучения. Не будет ли он нуждаться в помощи их слабых рук, их детского труда, чтобы обеспечить все потребности семьи? Достаточно много будет и того, что он пойдет на жертву и отдаст детей в школу на год или на два, с трудом выкраивая им время, чтобы они могли научиться читать, писать, считать, с тем, чтобы их ум и сердце были отравлены христианским катехизисом, который умело и щедро преподносится в официальных народных школах всех стран. Сможет ли когда-нибудь это жалкое образование поднять рабочие массы до уровня буржуазного образования? Будет ли когда-нибудь заполнена пропасть?
Очевидно, что этот столь важный вопрос народного образования и воспитания зависит от решения другого, гораздо более трудного вопроса о коренном изменении нынешних экономических условий рабочих классов. – Возвысьте условия труда, отдайте труду все, что по справедливости ему принадлежит, и тем самым предоставьте народу спокойную уверенность, достаток, досуг, и тогда, поверьте, он займется своим образованием и создаст цивилизацию более широкую, здоровую, более возвышенную, чем ваша.
Напрасны и старания убедить себя вслед за экономистами, что улучшение экономического положения рабочих классов зависит от общего прогресса промышленности и торговли в каждой стране и от их полного освобождения от опеки и покровительства государств. Свобода промышленности и торговли – это, конечно, великая вещь, одна из главных основ международного союза всех народов мира. Сторонники свободы, всякой свободы, мы должны быть сторонниками и этой. Но, с другой стороны, мы должны признать, что покуда будут существовать современные государства, покуда труд будет рабом собственности и капитала, эта свобода, обогащая ничтожную горстку буржуа в ущерб огромному большинству населения, приведет лишь к одному: еще больше расслабит и развратит малое число привилегированных, увеличит нищету, недовольство и справедливое возмущение рабочих масс и тем самым приблизит час разрушения государств.
Англия, Бельгия, Франция и Германия являются, несомненно, теми европейскими странами, где торговля и промышленность пользуются сравнительно большей свободой и которые достигли самой высокой степени развития. И это именно те самые страны, где пауперизм чувствуется наиболее жестоким образом, где пропасть между собственниками и капиталистами, с одной стороны, и рабочими классами – с другой, увеличилась как ни в одной другой стране. В России, в скандинавских странах, в Италии, в Испании, где торговля и промышленность мало развиты, люди редко умирают от голода, разве только по случаю какого-либо необычайного бедствия. В Англии смерть от голода обычное явление. От голода умирают не единицы, а тысячи, десятки, сотни тысяч людей. Не очевидно ли, что при том экономическом положении, которое царит в настоящее время во всем цивилизованном мире, – свобода и развитие торговли и промышленности, удивительные приложения науки к производству и даже сами машины, имеющие целью освободить работника, облегчая труд человека, – что все эти изобретения, весь этот прогресс, которым справедливо гордится цивилизованный человек, нисколько не улучшают положение рабочих классов, а наоборот, ухудшают его и делают еще более невыносимым.
Только Северная Америка является в значительной степени исключением из этого правила. Но это исключение не опровергает правило, а подтверждает его. Если рабочие там лучше оплачиваются, чем в Европе, если никто там не умирает от голода, если в то же время классовый антагонизм там еще почти не существует, если все трудящиеся – граждане и если вся масса граждан составляет именно единое целое, наконец, если хорошее начальное и даже среднее образование широко распространено там в массах, то все это следует в значительной мере приписать, конечно, тому традиционному духу свободы, который первые колонисты принесли из Англии: рожденному, испытанному, окрепшему в великой религиозной борьбе, этому принципу индивидуальной независимости и самоуправления коммун и провинций – selfgovernment способствовало еще то редкое обстоятельство, что, перенесенный на неосвоенные земли, он был свободен от духовного гнета прошлого и мог, таким образом, создать новый мир, мир свободы. А свобода – это великая волшебница, она наделена такой удивительной творческой силой, что, вдохновляемая ею одной, Северная Америка менее чем в столетие смогла достичь, а ныне и превзойти цивилизацию Европы. Но не надо обманываться: этот удивительный прогресс и столь завидное благополучие обязаны своим существованием в огромной мере важному преимуществу, которое имеет Америка, равно как и Россия: мы хотим сказать о громадных просторах плодородной земли, которая остается необработанной за недостатком рабочих рук. По крайней мере до сих пор это великое пространственное богатство было почти бесполезно для России, ибо мы никогда не обладали свободой. Иначе обстояло дело в Северной Америке, которая благодаря свободе, подобной которой не существует больше нигде, привлекает каждый год сотни тысяч энергичных, трудолюбивых и умных колонистов и благодаря этому богатству может их принять в свое лоно. Тем самым одновременно отодвигается проблема пауперизма и момент постановки социального вопроса: рабочий, не находящий работы или недовольный заработком, который ему предоставляет капитал, всегда может, в крайности, эмигрировать на far west[11 - far West (англ.) – дальний Запад.], чтобы возделать там какую-нибудь дикую незанятую землю.
Эта возможность, всегда, за неимением лучшего, открытая для всех американских рабочих, естественно поддерживает там заработную плату на достаточной высоте и предоставляет каждому независимость, какой не знает Европа. Таково преимущество, но вот и недостаток: дешевизна промышленных продуктов зависит главным образом от дешевизны труда, и поэтому американские фабриканты в большинстве случаев не в состоянии конкурировать с европейскими фабрикантами; отсюда вытекает необходимость протекционистского тарифа для промышленности Северных Штатов. Но это привело в первую очередь к созданию массы искусственных производств и в особенности к притеснению и разорению непромышленных Южных Штатов, что заставило их стремиться к отделению; к скоплению, наконец, в таких городах, как Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон и многих других, массы рабочих пролетариев, которые постепенно начинают попадать в положение, аналогичное положению рабочих в крупных промышленных государствах Европы. – И мы действительно видим, что социальный вопрос выдвигается в Штатах Севера, подобно тому как он встал много раньше у нас.
Итак, мы вынуждены признать как общее правило, что в нашем современном мире, если и не так всецело, как в древнем мире, цивилизация малого числа основана на принудительном труде и относительном варварстве громадного большинства. Было бы несправедливо сказать, что этот привилегированный класс чужд труда; напротив, в наши дни его члены много работают, число совершенно бездеятельных заметно уменьшается, труд начинают уважать в этой среде; ибо наиболее благополучные понимают сегодня, что для того, чтобы быть на уровне современной цивилизации, для того хотя бы, чтобы быть в состоянии пользоваться своими привилегиями и сохранить их, надо много трудиться. Но между трудом зажиточных и рабочих классов та разница, что труд первых оплачивается в значительно большей пропорции, чем труд вторых, и потому оставляет привилегированным досуг, это наивысшее условие развития человека, как интеллектуального, так и нравственного, условие, никогда не существовавшее для рабочих классов. Кроме того, труд, которым занимаются в мире привилегированных, почти исключительно умственный, то есть работа воображения, памяти и мысли; между тем как труд миллионов пролетариев – это труд физический и зачастую, как, например, на всех фабриках, это труд, включающий в работу не всю мускульную систему человека, а развивающий лишь какую-нибудь часть ее в ущерб всем остальным, труд, совершаемый обычно в условиях, вредных для здоровья тела и препятствующих его гармоничному развитию. В этом отношении земледелец гораздо более благополучен: его натура, не испорченная душной и зачастую отравленной атмосферой заводов и фабрик, не изуродованная анормальным развитием одной какой-нибудь способности во вред другим, остается более сильной, более цельной, но зато его ум – почти всегда более отсталым, неповоротливым и гораздо менее развитым, чем ум фабричных и городских рабочих.
Итак, ремесленники, заводские рабочие и земледельцы образуют вместе одну и ту же категорию, категорию физического труда, противополагаемую привилегированным представителям умственного труда. Каковы следствия этого не фиктивного, а вполне реального разделения, составляющего самую основу современного как политического, так и социального положения?
Для привилегированных представителей умственного труда, которые, скажем мимоходом, при нынешней организации общества призваны быть его представителями, не потому, что они самые умные, но единственно потому, что родились в привилегированном классе, – для них все блага, но также и все гибельные соблазны современной цивилизации: богатство, роскошь, комфорт, благосостояние, семейные радости, исключительная политическая свобода вместе с возможностью эксплуатировать труд миллионов рабочих и управлять ими по своей воле и в своих интересах, все изобретения, все изощрения воображения и мысли… и, вместе с возможностью стать цельными людьми, все язвы человечества, испорченного привилегиями.
Что остается представителям физического труда, этим бесчисленным миллионам пролетариев или даже мелким земельным собственникам? Безысходная нужда, отсутствие даже семейных радостей, ибо семья для бедного вскоре становится обузой, невежество, дикость и, мы бы сказали, вынужденное почти животное состояние, с тем утешением, что они служат пьедесталом для цивилизации, свободы и разложения немногих. Но зато они сохранили свежесть ума и сердца. Воспитанные трудом, хотя бы и принудительным, они сохранили чувство справедливости, много более правильной, чем справедливость юрисконсультов и кодексов; сами несчастные, они сочувствуют всякому несчастью, они сохранили здравый смысл, не испорченный софизмами доктринерской науки и обманами политики, и, так как они еще не злоупотребили и даже не воспользовались жизнью, они имеют веру в жизнь.
Но, скажут нам, этот контраст, эта пропасть между малым числом привилегированных и огромным количеством обездоленных всегда существовала и теперь существует: так что же изменилось? Изменилось то, что прежде эта пропасть была заполнена религиозным туманом, так что народные массы ее не видели, а теперь, после того как Великая Революция[12 - Речь идет о Великой французской революции.] начала рассеивать этот туман, они тоже начинают видеть пропасть и спрашивать о ее причине. Значение этого безмерно.
С тех пор как Революция ниспослала в массы свое Евангелие, не мистическое, а рациональное, не небесное, а земное, не божественное, а человеческое, – свое Евангелие прав человека[13 - Имеется в виду Декларация прав человека и гражданина – основной документ Великой французской революции, который был принят Учредительным собранием 26 августа 1789 г.]; с тех пор как она провозгласила, что все люди равны, что все одинаково призваны к свободе и человечности, народные массы всей Европы, всего мира начинают мало-помалу пробуждаться ото сна, который их сковывал с тех пор, как христианство усыпило их своими маковыми цветами, и начинают спрашивать себя, не имеют ли они тоже права на равенство, свободу и человечность.
Как только этот вопрос был поставлен, народ, как в силу своего удивительного здравого смысла, так и инстинкта, понял, что первым условием его действительного освобождения, или, если вы мне позволите это слово, его очеловечения, является коренная реформа экономических условий. Вопрос о хлебе правомерно является для него первым вопросом, ибо еще Аристотель заметил: человек, чтобы мыслить, чтобы чувствовать свободно, чтобы сделаться человеком, должен быть свободен от забот материальной жизни. Впрочем, буржуа, громко выступающие против материализма народа и призывающие его к идеалистическому воздержанию, знают это очень хорошо, ибо они проповедуют на словах, а не на примере. Второй вопрос для народа – это досуг после работы, условие sine qua non человечности; но хлеб и досуг не могут быть им получены иначе как путем радикального преобразования современного устройства общества, и это объясняет, почему Революция как логическое следствие своего собственного принципа породила социализм.
II. Социализм
Французская Революция, провозгласив право и обязанность каждого человеческого индивидуума сделаться человеком, пришла в своих последних выводах к бабувизму. Бабеф – один из последних энергичных и безупречных граждан, созданных Революцией, а затем уничтоженных ею в таком количестве, – которому посчастливилось иметь в числе своих друзей таких людей, как Буонарроти, соединил в своей неповторимой концепции политические традиции своего древнего отечества с новейшими идеями социальной революции. Видя, что Революция угасает за недостатком коренного преобразования, впрочем, по всей вероятности, и невозможного при экономической структуре того общества, верный, с другой стороны, духу этой Революции, которая завершилась заменой всякой личной инициативы всемогущим действием Государства, он измыслил политическую и социальную систему, согласно которой республика, выражающая собой коллективную волю граждан, должна была конфисковать всякую личную собственность и управлять ею в интересах всех, наделяя каждого в равной мере воспитанием, образованием, средствами к существованию, развлечениями и принуждая всех без исключения, по мере сил и способностей каждого, к физическому и умственному труду. Заговор Бабефа не удался, он был гильотинирован вместе с несколькими друзьями. Но его идеал социалистической республики с ним не умер. Подхваченная его другом Буонарроти, величайшим конспиратором века, эта идея как священное сокровище была передана им новым поколениям; и благодаря тайным обществам, основанным Буонарроти в Бельгии и Франции, коммунистические идеи зародились в воображении народа. Они нашли с 1830 по 1848 год талантливых выразителей в лице Кабе и Луи Блана, которые создали в окончательном виде революционный социализм. Другое социалистическое течение, исходящее из того же революционного источника, стремящееся к той же цели, но совершенно иными средствами, – течение, которое мы бы охотно назвали доктринерским социализмом, было основано двумя замечательными людьми: Сен-Симоном и Фурье. Сен-симонизм был истолкован, развит, переработан и утвержден в виде чуть ли не обрядовой системы, своего рода церкви, отцом Анфантеном вместе со многими друзьями, из которых большая часть стала ныне финансистами и государственными людьми, чрезвычайно преданными Империи. Фурьеризм нашел своего интерпретатора в «Мирной демократии»[14 - Речь идет о газете «La D?mocratie pacifique» (1843–1851), основанной французским социалистом-утопистом, сторонником идей Ш. Фурье Виктором Консидераном.] издававшейся до 2 декабря г. Виктором Консидераном. Заслуга этих двух социалистических систем, впрочем, во многих отношениях различных, заключается главным образом в глубокой, научной, строгой критике современного устройства общества, чьи чудовищные противоречия они смело раскрыли; затем в том важном факте, что эти системы яростно нападали на христианство и расшатали его во имя восстановления в своих правах материи и человеческих страстей, оклеветанных и в то же время так хорошо практикуемых христианскими священниками. Сен-симонисты хотели заменить христианство новой религией, в основе которой был мистический культ плоти, с новой иерархией священников, новых эксплуататоров толпы своей привилегией гения, способностей и таланта. Фурьеристы, куда большие и, можно сказать, даже искренние демократы, придумали свои фаланстеры, управляемые избранными всеобщим голосованием руководителями, фаланстеры, где каждый сам себе, по мысли фурьеристов, нашел бы работу и место в соответствии с природой его страстей. Ошибки сен-симонистов слишком очевидны, чтобы стоило о них говорить. Двойная неправота фурьеристов заключалась, во-первых, в том, что они искренне верили, что единственно силой убеждения и мирной пропагандой они сумеют до такой степени тронуть сердца богатых, что те в конце концов сами придут сложить у порога фаланстера излишек своих богатств; во-вторых, в том, что они вообразили, что можно теоретически, a priori построить социальный рай, в котором разместится будущее человечество. Они не поняли, что мы можем провозглашать какие угодно великие принципы его грядущего развития, но мы должны оставить опыту будущего практическую реализацию этих принципов.
Вообще, все социалисты, за исключением одного, до 1848 года питали общую страсть к регламентации. Кабе, Луи Блан, фурьеристы, сен-симонисты – все были одержимы страстью поучать и устраивать будущее, все были более или менее авторитарными.
Но вот явился Прудон, сын крестьянина, в сто раз больший революционер и в делах, и по инстинкту, чем все эти доктринерские буржуазные социалисты; он вооружился критикой столь же глубокой и проницательной, сколь неумолимой, чтобы уничтожить все их системы. Противопоставив свободу авторитету, он в противоположность этим государственным социалистам смело провозгласил себя анархистом и имел мужество бросить в лицо их деизму или пантеизму заявление, что он просто атеист или, точнее, позитивист, подобно Огюсту Конту.
Социализм Прудона, основанный как на индивидуальной, так и на коллективной свободе и на спонтанной деятельности свободных ассоциаций, не подчиненный другим законам, кроме как общим законам социальной экономии; законам, которые открыты или которые еще предстоит открыть науке; социализм, стоящий вне всякой правительственной регламентации и всякого покровительства со стороны государства и подчиняющий политику экономическим, интеллектуальным и моральным интересам общества, должен был с течением времени прийти, в силу необходимой последовательности, к федерализму.
Таково было положение социальной науки до 1848 г. Полемика в газетах, листках и социалистических брошюрах привнесла массу новых идей в рабочие классы; они были ими насыщены, и, когда разразилась революция 1848 года, социализм заявил о себе как мощная сила.
Как мы сказали, социализм был последним детищем Великой Революции; но до его рождения она произвела на свет своего более прямого наследника, своего старшего сына, любимца Робеспьеров и Сен-Жюстов: чистый республиканизм, без примеси социалистических идей, перенесенный из античного мира и вдохновляемый героическими традициями великих граждан Греции и Рима. Гораздо менее человечный, чем социализм, этот республиканизм почти не принимает в расчет человека, а признает лишь гражданина; если социализм стремится основать республику людей, то республиканизм желает лишь республику граждан, хотя бы они, как это было при конституциях[15 - В конце XVIII в. во Франции было принято несколько конституций: 1791, 1793, 1795, 1799 гг.], явившихся естественным и необходимым следствием конституции 1793 года (раз уж эта конституция после недолгого колебания сознательно не затронула социального вопроса), – хотя бы они в качестве активных граждан (если воспользоваться выражением Учредительного собрания[16 - Имеется в виду Французское Национальное Собрание, принявшее в 1789 г. название Учредительное собрание, поскольку было принято решение о выработке новой конституции страны.]) основывали свое благополучие на эксплуатации труда пассивных граждан. Впрочем, политический республиканец сам по себе не является, или по крайней мере ему не полагается быть, эгоистом лично для себя, но он должен им быть для отечества, которое он должен ставить в своем свободном сердце выше себя самого, выше всех индивидуумов, выше всех наций в мире, выше всего человечества. Следовательно, он будет всегда игнорировать международную справедливость; во всех спорах, будет ли его отечество право или нет, он будет становиться на его сторону, он будет желать, чтобы оно всегда имело верх и подавляло другие народы своим могуществом и славой. Он сделается по естественной склонности завоевателем, несмотря на опыт веков, показывающий ему, что военные победы неизбежно должны привести к цезаризму. Республиканец-социалист ненавидит величие, могущество и военную славу государства, он предпочитает им свободу и благоденствие. Федералист во внутренней политике, он стремится и к международной конфедерации прежде всего из чувства справедливости, а также из убеждения, что экономическая и социальная революция может осуществиться, переступив искусственные и пагубные границы государств, лишь при совместных действиях если не всех, то, по крайней мере, большей части наций, составляющих ныне цивилизованный мир, и что все нации рано или поздно должны будут к ним присоединиться. Исключительно политический республиканец – это стоик; он не признает для себя прав, а только обязанности, или, как в республике Мадзини, он признает лишь одно право: право быть самоотверженным и жертвовать собой для отечества, жить лишь для служения ему и с радостью умереть за него, как говорится в песне, которой г. Александр Дюма слишком щедро одарил жирондистов. «Умереть за отечество – это самый прекрасный, самый завидный жребий»[17 - В 1847 г. знаменитый романист Александр Дюма поставил в своем так наз. «Историческом театре» пьесу «Рыцарь из Красного дома», в которой прозвучала ставшая затем популярной революционная песня «Умереть за родину».]. Социалист, напротив, опирается на свое позитивное право на жизнь и на все как интеллектуальные и моральные, так и физические жизненные наслаждения. Он любит жизнь, он хочет полностью ею насладиться. Так как его убеждения составляют часть его самого и его обязанности по отношению к обществу неразрывно связаны с его правами, то, оставаясь верным тем и другим, он сумеет жить, следуя справедливости, как Прудон, и, если нужно, умереть, как Бабеф; но он никогда не скажет, что жизнь человечества должна быть принесена в жертву и что смерть является самым сладким жребием. Для политического республиканца свобода лишь пустой звук; это свобода быть добровольным рабом, преданной жертвой государства; готовый всегда пожертвовать ради него собственной свободой, он легко пожертвует и свободой других. Итак, политический республиканизм обязательно приведет к деспотизму. Но для республиканца-социалиста свобода, соединенная с благоденствием и создающая всеобщую человечность посредством человечности каждого, это все, между тем как Государство является в его глазах лишь инструментом, служителем благоденствия и свободы каждого. Социалист отличается от буржуа справедливостью, ибо он требует для себя лишь действительный плод своего собственного труда; от чистого республиканца он отличается своим искренним и человечным эгоизмом, живя открыто и без громких фраз для самого себя; он знает, что, поступая по справедливости, он служит всему обществу, а служа всему обществу, служит самому себе. Республиканец суров и часто – от патриотизма, как священник – из-за религии, – жесток. Социалист естествен, умеренно патриотичен, но зато всегда очень человечен. Одним словом, республиканца-социалиста и политического республиканца разделяет пропасть: один, полурелигиозное существо, относится к прошлому; другой, позитивист или атеист, принадлежит будущему.
Эта противоположность проявилась в полной мере в 1848 году. С первых часов революции республиканцы и социалисты не смогли прийти ни к какому соглашению: их идеалы, все их инстинкты влекли их в диаметрально противоположные стороны. Все время от февраля до июня[18 - В июне 1848 г. в Париже произошло восстание рабочих, которое было подавлено генералом Кавеньяком.] прошло в перестрелке; вызвав междоусобную войну в лагере революционеров и парализуя их силы, это естественно должно было склонить чашу весов на сторону выросшей до громадных размеров коалиции реакционеров всех оттенков, которые, гонимые страхом, объединились и образовали единую партию. В июне к ним присоединились и республиканцы, чтобы раздавить социалистов. Они полагали, что одержали победу, а на самом деле столкнули в бездну свою дорогую республику. Генерал Кавеньяк, знаменосец контрреволюции, был предвестником Наполеона III. Тогда это поняли все, если не во Франции, то всюду за ее пределами, ибо эта пагубная победа республиканцев над парижскими рабочими была отпразднована как великое торжество всеми дворами Европы, и офицеры прусской гвардии, с генералами во главе, поспешили отправить адрес с братскими поздравлениями генералу Кавеньяку.
Напуганная красным призраком, европейская буржуазия впала в полное раболепство. По природе своей она либеральна и фрондерски настроена, и потому ей не нравится военный режим, но она выбрала его перед лицом опасности народного освобождения. Пожертвовав своим достоинством и всеми своими славными завоеваниями XVIII-го и начала этого века, она полагала, по крайней мере, что покупает мир и спокойствие, необходимые для успеха ее торговых и промышленных предприятий: «Мы приносим вам в жертву свою свободу, – как бы говорила она власти военных, вновь поднявшейся из руин третьей революции, – взамен предоставьте нам возможность спокойно эксплуатировать народные массы и защитите нас от их притязаний, которые могут казаться справедливыми в теории, но которые ненавистны нам с точки зрения наших интересов». Буржуазии обещали все и даже сдержали данное ей слово. Почему же буржуазия, вся европейская буржуазия в настоящее время недовольна?
Она не рассчитала, что военный режим дорого стоит, что уже в силу своей внутренней организации он парализует, беспокоит, разоряет нации и что, более того, верный свойственной ему логике, которой он никогда не изменял, он имеет неизбежным последствием войну: войны династические, войны ради славы, войны завоевательные или территориальные, войны ради равновесия – постоянное уничтожение и поглощение одних государств другими, реки человеческой крови, сожжение деревень, разорение городов, опустошение целых провинций – и все это, чтобы удовлетворить честолюбие царствующих лиц и их фаворитов, чтобы их обогащать, чтобы подчинить, держать в повиновении народы и войти в историю.
Теперь буржуазия понимает это, и потому она недовольна режимом[19 - Речь идет о диктаторском режиме, установленном Шарлем Луи Наполеоном Бонапартом, который после своего избрания президентом Франции (10 декабря 1848 г.) совершил 2 декабря 1851 г. контрреволюционный переворот, а 2 декабря 1852 г. провозгласил себя императором Наполеоном III. Свергнут с престола революцией 4 сентября 1870 г.], установлению которого она так сильно способствовала. Он ей надоел; но чем она его заменит?
Конституционная монархия отжила свое время, да она никогда и не пользовалась особым успехом на европейском континенте; даже в Англии, этой исторической колыбели современного конституционализма, ныне под сокрушительными ударами поднимающейся демократии она поколеблена, она шатается и вскоре будет уже не в состоянии сдерживать волну народных страстей и требований.
Республика? Но какая республика? Только политическая, или демократическая и социальная? Имеют ли еще народы социалистические настроения? Да, более чем когда-либо.
В 1848 году погиб не социализм вообще, а только государственный социализм, тот авторитарный и регламентированный социализм, который верил и надеялся, что Государство сможет полностью удовлетворить потребности и законные стремления рабочих классов, что, достигнув всемогущества, оно захочет и будет в состоянии положить начало новому общественному порядку. Итак, не социализм умер в июне, а Государство объявило себя банкротом перед социализмом и, признав себя неспособным заплатить ему долг и тем самым выполнить заключенный с ним договор, оно попробовало его убить, чтобы самым легким образом освободиться от этого долга. Убить его не удалось, но Государство убило веру, которую социализм в него питал, и тем самым уничтожило все теории авторитарного или доктринерского социализма, из которых одни, как «Икария» Кабе или «Организация труда» г. Луи Блана[20 - Речь идет о романе французского писателя – утопического коммуниста Э. Кабе «Путешествие в Икарию» (1840) и работе французского утопического социалиста Луи Блана «Организация труда» (1839).], советовали народу во всем положиться на Государство, а другие продемонстрировали свою бездейственность рядом смехотворных опытов. Даже банк Прудона[21 - В 1849 г. Прудон организовал в Париже так наз. народный банк, в котором участвовало более 12 тыс. вкладчиков. Просуществовал банк всего два месяца, не совершая никаких операций. Прудон предполагал, что его банк сделает излишними деньги, поскольку в банке любой желающий мог получить за произведенные им продукты меновые свидетельства (боны), чтобы на них получить в другом банке товары на ту же сумму.], который при более счастливом стечении обстоятельств мог бы процветать, потерпел крах, раздавленный буржуазией, проявлявшей к нему неприязнь и враждебность.
Социализм проиграл это первое сражение по очень простой причине: он был полон стремлений и отрицательных теоретических идей, тысячекратно обосновывавших его борьбу против привилегий, но у него совсем не было положительных, практических идей, необходимых для того, чтобы на развалинах буржуазной системы построить новую систему, систему народной справедливости. Рабочие, сражавшиеся в июне за освобождение народа, были объединены инстинктом, а не идеями. Те неясные идеи, которые они имели, являли собой Вавилонскую башню, хаос, из которого ничего не могло выйти. Такова была главная причина их поражения. Надо ли из-за этого сомневаться в будущем и в действительной силе социализма? Христианству, поставившему своей целью основание царства справедливости на небе, нужно было несколько столетий, чтобы одержать победу в Европе. Нужно ли удивляться, что социализм, поставивший перед собой гораздо более трудную задачу – основание царства справедливости на земле, не одержал победу в течение нескольких лет?
Господа, нужно ли доказывать, что социализм не умер? Чтобы в этом убедиться, надо лишь бросить взгляд на то, что происходит в настоящее время во всей Европе. Если отбросить все дипломатические сплетни и слухи о войне, наполняющие Европу с 1852 года, то какой серьезный вопрос, если не вопрос социальный, стоит во всех странах? Это великий незнакомец, чье приближение чувствуют все, который заставляет трепетать каждого и о котором никто не смеет говорить… Но он сам за себя говорит, и чем дальше, тем громче; не доказывают ли рабочие кооперативные ассоциации, эти банки взаимопомощи и рабочего кредита; эти тред-юнионы[22 - Тред-юнионы (trade-unions) – одна из разновидностей профессиональных союзов рабочих, получившая наибольшее распространение в Англии.], эта интернациональная лига рабочих всех стран[23 - Речь идет о Международном товариществе рабочих (I Интернационале).], все это нарастающее движение трудящихся в Англии, Франции, Бельгии, Германии, Италии и Швейцарии, не доказывает ли все это, что рабочие не отказались от своей цели, не потеряли веру в свое близкое освобождение и в то же время поняли, что для приближения часа своего освобождения они не должны более полагаться ни на государства, ни на помощь, всегда более или менее лицемерную, привилегированных классов, а рассчитывать только на самих себя и на свои собственные спонтанные ассоциации?
В большинстве европейских стран это движение, внешне по крайней мере, чуждое политике сохраняет исключительно экономический и, так сказать, частный характер. Но в Англии оно твердо стало на раскаленную землю политики и, организовавшись в громадную лигу, «Лигу Реформы», уже одержало большую победу над политически организованной привилегией аристократии и крупной буржуазии. С чисто английским терпением и последовательностью «Reform League» наметила себе план действий; она ничем не брезгует, не дает себя запугать и не останавливается ни перед каким препятствием. «Самое позднее через десять лет, – говорят они, – беря в расчет самые большие препятствия, мы будем иметь всеобщее избирательное право и тогда…», – тогда они совершат социальную революцию!
Во Франции, как и в Германии, социализм, молча действуя через частные экономические ассоциации, достиг уже такой силы в среде рабочих классов, что Наполеон III, с одной стороны, и граф Бисмарк, с другой, начинают искать союза с ним… В Италии и Испании, при плачевном фиаско всех политических партий и страшной нищете, всякий другой вопрос скоро затеряется в вопросе экономическом и социальном. А в России и в Польше есть ли, в сущности, другой вопрос? Это он недавно разрушил последние надежды старой, исторической, дворянской Польши. Это он угрожает существованию и разрушит эту уже сильно расшатанную страшную всероссийскую Империю. Даже в Америке не проявился ли в полной мере социализм в предложении замечательного человека, бостонского сенатора г. Чарльза Самнера наделить землей освобожденных негров из Штатов Юга?
Как видите, господа, социализм – всюду; и, несмотря на июньское поражение, он путем подпольной работы постепенно проник в самые недра политической жизни всех стран и везде дает о себе знать как скрытая сила века. Еще несколько лет, и он проявится как открытая и действенная сила.
За немногими исключениями, все народы Европы, некоторые даже не зная слова «социализм», являются сегодня социалистическими; они не признают другого знамени, кроме того, которое им возвещает прежде всего их экономическое освобождение, и в тысячу раз охотнее отступились бы от всякого другого вопроса, но не от этого. Следовательно, только через социализм можно вовлечь их в политику, в настоящую политику.
Не достаточно ли сказанного, господа, чтобы убедиться, что нам непозволительно умолчать в своей программе о социализме и что такое умолчание обрекло бы все наше дело на бессилие? Провозгласив себя в нашей программе республиканцами-федералистами, мы показали себя достаточно революционными, чтобы оттолкнуть от себя добрую часть буржуазии: ту, которая спекулирует на нищете и несчастьях народов, ухитряется извлекать выгоду даже из великих бедствий, ныне более чем когда-либо постигающих народы. Если мы отставим в сторону эту деятельную, беспокойную, интриганскую, спекулятивную часть буржуазии, то у нас еще останется большинство буржуа: спокойных, предприимчивых, причиняющих иногда зло, но скорей по необходимости, чем по доброй воле, которые ничего так не желают, как быть освобожденными от этой фатальной необходимости, ставящей их в постоянное враждебное отношение с рабочим народом и в то же время разоряющей их самих. Нельзя не отметить, что в настоящее время мелкая буржуазия, мелкая промышленность и мелкая торговля начинают бедствовать почти так же, как и рабочие классы, и если так будет продолжаться, то это достойное уважения буржуазное большинство может скоро слиться по своему экономическому положению с пролетариатом. Крупная торговля, крупная промышленность и в особенности крупная и бесчестная спекуляция давят его, пожирают, толкают в бездну. Мелкая буржуазия становится все более революционной, и ее идеи, остававшиеся долгое время реакционными, ныне, вследствие горьких уроков, начинают проясняться и обязательно разовьются в обратном направлении. Самые умные начинают понимать, что для честной буржуазии единственное спасение – в союзе с народом и что социальный вопрос касается ее в той же степени и таким же образом, в какой мере и как он касается народа.
Это постепенное изменение в воззрениях мелкой буржуазии Европы является фактом столь же утешительным, сколь и неоспоримым. Но не надо обманываться: инициатива нового развития будет принадлежать народу, а не ей; на Западе – фабричным и городским рабочим; у нас, в России, в Польше и в большинстве славянских стран – крестьянам. Мелкая буржуазия сделалась слишком трусливой, робкой, скептической, чтобы взять на себя какую-либо инициативу; она даст себя увлечь, но никого не повлечет за собой, ибо бедна на идеи и ей не хватает веры и страсти.
Та страсть, которая крушит препятствия и творит новые миры, есть только у народа. Итак, инициатива нового движения бесспорно будет принадлежать народу. И мы бы умолчали о народе? и мы бы ничего не сказали о социализме, новой религии народа?
Но, скажут нам, социализм проявляет склонность к союзу с цезаризмом. Во-первых, это клевета; напротив, именно цезаризм, видя на горизонте появление грозной силы социализма, стремится завоевать его симпатии, чтобы эксплуатировать их на свой манер. Но не является ли это для нас лишней причиной устремить сюда свою энергию, чтобы не допустить этого чудовищного союза, плодом которого явилось бы, конечно, самое большое бедствие, угрожающее свободе мира?
Мы должны заняться этим, даже и не принимая в расчет всех практических мотивов, ибо социализм – это справедливость. Говоря о справедливости, мы подразумеваем не ту, которая заключена в кодексах и в римской юриспруденции, основанных в громадной степени на фактах насилия, силою же внедренных, освященных временем и благословением какой-либо, христианской или языческой, церкви и признанных т. о. за абсолютные принципы, из которых логически следует все остальное[24 - В этом отношении юридическая наука подобна теологии: одна исходит из реального, но несправедливого факта присвоения силой, завоевания; другая – из факта фиктивного и нелепого, божественного откровения как высшего принципа. Основываясь на этой абсурдности или на этой несправедливости, обе науки прибегают к самой строгой логике, чтобы построить, с одной стороны, теологическую, с другой – юридическую систему.], – мы говорим о справедливости, основывающейся единственно на сознании людей, на справедливости, которую вы найдете у каждого человека и даже в сознании детей и суть которой передается одним словом: равенство.
Эта всеобщая справедливость, которая, однако, благодаря насильственным захватам и религиозным влияниям никогда еще не имела перевеса ни в политическом, ни в юридическом, ни в экономическом мире, должна послужить основанием нового мира. Без нее нет ни свободы, ни республики, ни благоденствия, ни мира! Итак, мы должны руководствоваться ею во всех наших решениях, дабы мы могли деятельно способствовать установлению мира.
Эта справедливость повелевает нам взять в свои руки дело народа, с которым до сих пор столь ужасно обращались, и потребовать для него вместе с политической свободой также экономическое и социальное освобождение.
Мы не предлагаем вам, господа, ту или иную социалистическую систему. Мы призываем вас снова провозгласить великий принцип Французской Революции: каждый человек должен иметь материальные и нравственные средства для развития всей своей человечности. Принцип этот, по нашему мнению, выражается в следующей проблеме:
Организовать общество таким образом, чтобы каждый индивидуум, мужчина или женщина, появляясь на свет, имел бы приблизительно равные возможности для развития различных способностей и для их применения в своей работе; создать такое устройство общества, которое сделало бы невозможным для всякого индивидуума, кто бы он ни был, эксплуатировать чужой труд и позволяло бы ему пользоваться общественным богатством, являющимся, в сущности, продуктом человеческого труда лишь в той мере, в какой он своим трудом непосредственно способствовал его созданию.
Полное осуществление этой задачи будет, конечно, делом столетий. Но история ее выдвинула, и отныне мы не можем оставлять ее без внимания, не обрекая себя на полное бессилие.
Добавим сразу, что мы решительно отклоняем всякую попытку социальной организации, которая, будучи далекой от самой полной свободы как индивидов, так и ассоциаций, требовала бы какого-нибудь регламентирующего авторитета. Во имя свободы, которую мы признаем как единственную основу и единственный законный творческий принцип всякой организации, мы всегда будем протестовать против всего, что хоть сколько-нибудь будет похоже на государственный социализм и коммунизм.
Единственное, что, по нашему мнению, может и должно сделать государство, это начать с постепенного изменения права наследования, с тем чтобы по мере возможности упразднить его полностью. Право наследования, будучи всецело созданием государства, одним из основных условий самого существования авторитарного и божественного государства, может и должно быть уничтожено свободой в государстве; другими словами, государство должно раствориться в обществе, свободно организованном на началах справедливости. Это право, по нашему мнению, необходимо упразднить, ибо, пока существует наследование, будет существовать наследственное экономическое неравенство – не естественное неравенство индивидуумов, а искусственное неравенство классов; а оно всегда будет непременно порождать наследственное неравенство в развитии и культуре умов и останется источником и освящением всякого политического и социального неравенства. Равенство исходного пункта в начале жизненного пути для каждого, при том, что это равенство будет зависеть от экономического и политического устройства общества, и с тем, чтобы каждый, независимо от разницы натуры, был бы дитя своих дел, – вот в чем состоит проблема справедливости. По нашему мнению, единственным наследником умирающих должен быть общественный фонд воспитания и образования детей обоего пола, включая их содержание от рождения до совершеннолетия. Добавим, что у нас, как у славян и русских, социальной идеей, основанной на общем и традиционном для населения чувстве, является та, что земля, собственность всего народа, может быть во владении лишь тех, кто обрабатывает ее собственными руками.