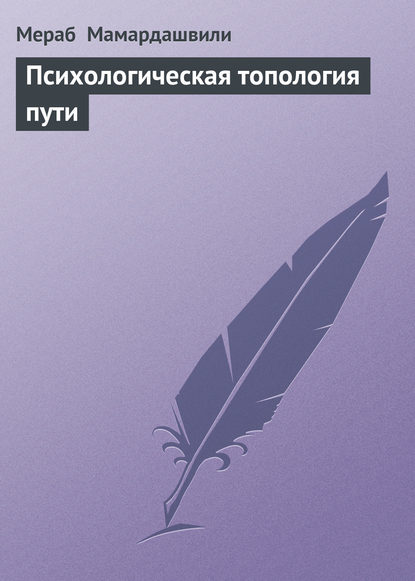По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Психологическая топология пути
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Держите в голове уравнение всего и вся, что нет высокого и низкого; здесь нужно вспомнить все, что мы говорили перед этим, – задачу труда в отличие от лени, труда под знаком молнии, потому что вновь идут гладкие фразы. Но они содержат в себе все это. И еще – поиск сюжета, о котором писать. Я продолжаю читать, а вы мысленно накладывайте это на свой опыт, но для этого нужны какие-то ориентиры, конечно, и я пытаюсь их вам дать. Ведь наше мышление устроено так, и ваше, и мое (мышление как психологическая наша способность), что мы под мыслью понимаем следующее: вот я сяду и подумаю. Сюжет, тот, который я подумаю, всегда произволен, то есть вызван моей волей. Значит, я сначала делаю A, B, подумал о чем-то или взял себя в руки и сосредоточился, и через энное число шагов, их может быть два, я имею сюжет. Предмет мысли. Так якобы мы мыслим. Но в действительности все не так. Это мы так думаем, что мы думаем, а думаем, если думаем, совершенно иначе. И вот с этим сталкивается наш автор, и это он описывает. Так вот, Пруст говорит, что «эта задача, совестливая задача, напряженная, devoir de conscience…». (Гений латинского языка одним и тем же термином объединяет conscience morale – совесть, а conscience – это сознание; следовательно, этимологически сознание и совесть есть одно и то же; интересное совпадение.) «…Этот невыносимый долг совести, который на меня накладывали эти впечатления формы, запаха или цвета, а именно – долг увидеть то, что скрывалось за ними, по отношению к этому долгу я очень быстро, не откладывая в долгий ящик, находил извинения или поводы, которые позволяли бы мне ускользнуть от этого требуемого от меня усилия»[149 - См.: Sw. – p. 179.]. Вспомните свидетелей – апостолов Христовых, которым хотелось спать, – все то же самое. Дальше Пруст пишет так: «К счастью, мои родители окликнули меня в этот момент…» С какой радостью откликаемся мы на оклик, который позволяет нам избежать такого труда; кстати, родителям кажется, что мы их очень любим, потому что у нас радостная улыбка, правда, связанная не с тем, что мы любим родителей, а с тем, что их оклик освободил нас от того, что мы должны были в ту секунду сделать и не могли, потому что слишком много труда на это требовалось. «…Я сказал себе, что сейчас у меня нет необходимого для труда спокойствия и в следующий раз я займусь продолжением моего изыскания, и лучше было бы сейчас об этом не думать, чтобы не тратить необходимые силы и сохранить их на момент, когда я вернусь домой и спокойно в своей комнате смогу об этом подумать. И я переставал тогда думать об этой неизвестной вещи, которая облачалась, разговаривая со мной, в форму. И я думал, что, вернувшись домой, спокойно в своей комнате смогу, как достают из кармана, вынуть все эти впечатления и более тщательно их разглядеть. Но, попав домой, я уже думал о других вещах, и так в моем сознании, подобно тому как в комнате накапливаются цветы, которые мы приносим с прогулки, накапливались – камень, на котором проиграл отблеск солнца, крыша, звук колокольни, запах цветка, много различных образов, под которыми уже давно умерла та предчувствуемая реальность, для которой мне не хватило воли, чтобы ее расшифровать и раскрыть»[150 - Ibid.]. Пропущена молния Иоанна.
И дальше идет отрывок, где Пруст приводит противоположное: однажды, во время одной из прогулок, он едет в коляске, и пред ним предстают две колокольни Мартенвиля, к которым присоединилась третья колокольня, сплетаясь в какой-то узор… Появились эти две колокольни, то сливающиеся, то расстающиеся с третьей колокольней, и возникло какое-то состояние. Состояние, не связанное ни с абстрактной идеей, ни с философским сюжетом, какая-то непонятная, загадочная радость. Не объяснимая, конечно, тем, что ты видишь колокольню. И вглядывается наш герой, сидя в коляске, в танец этих колоколен на горизонте, то отдаляющихся, в зависимости от поворотов дороги, то приближающихся, и чувствует, что он никак не может добраться до глубины, до конца, до причины своего впечатления, что что-то скрывается за этим движением, за этим ярким светом (кстати, таким ясным светом всегда казался мне странный свет в Тбилиси, он так и застрял во мне с юности, и потом я был очень удивлен, встретив у Мандельштама «Хмельней для глаза в оболочке света…»[151 - См.: Мандельштам О. Стихотворения. Л., 1979.]. «И я не мог никак понять причины этого удовольствия и природу того чувства обязанности, которое испытывал и которое состояло в том, чтобы расшифровать эту причину удовольствия. И опять у меня появился соблазн сохранить в голове эти движущиеся линии и потом о них подумать на досуге. И, наверно, если бы я так и поступил, то эти две колокольни навсегда присоединились бы к тем многим деревьям, крышам, запахам, звукам, которые я отличил когда-то от других в силу того таинственного удовольствия, которое они мне доставили и которое я никогда не углубил. Я сошел побеседовать с моими родителями в ожидании доктора, потом я обратился к кучеру, но поскольку кучер не пожелал со мной разговаривать, то я внешними обстоятельствами вынужден был наброситься на самого себя»[152 - Sw. – p. 180.]. Здесь начинается классическая тема, которая проходит через весь роман (и поэтому я предупреждал вас, что мы имеем дело с романом мотива), здесь в музыкальном смысле слова упакованы все темы кусочками. Скажем, тема дружбы и интеллектуальной беседы. В данном случае речь идет о кучере, который не захотел с ним беседовать, и поэтому Марсель вынужден был внешними обстоятельствами схватиться за самого себя. А если бы захотел и начал бы с ним разговаривать, то Марсель с ним так же рассеялся бы, как в дружбе, в интеллектуальной беседе, когда мы звуком произносимых слов разгоняем то впечатление, которое было в нас и которое мы сами должны были бы расшифровать. От звука слов шарахаются вещи и от нас убегают. Это обычно бывает прямым следствием интеллектуальной беседы… Но тем не менее кучер с ним не заговорил, и снова он углубляется в это впечатление. И дальше Пруст приводит (уже в кавычках) пассаж, который он в свое время послал (описание колокольни Мартенвиля) в газету «Фигаро», и он был там опубликован, и этот отрывок (с некоторыми поправками) воспроизводится в позднее написанном романе, и дальше уже идет текстуальное воспроизведение расшифрованного впечатления. И опять мы имеем бусинку на четках…
Значит, Пруст разрешил эту непонятную радость, понял ее, разрешил ее тем, что отождествил эти три колокольни с тремя девушками из легенды (покинутыми в лесу и т д.), которые обнимаются, и ему стал ясен смысл того, что говорили ему эти деревья. Они говорили ему что-то о человеческой нежности и о любви, связующей трех сестер. Ну, не бог весть, какая мысль, казалось бы. После этого он говорит, что почувствовал себя, как будто разрешился от бремени или, как наседка, снес яйцо и мог теперь радостно квохтать, что все-таки разобрался, что они ему говорили. А перед этим проскользнула такая фраза: «Я тогда себе не говорил, что за этими колокольнями Мартенвиля скрывалось что-то аналогичное красивой фразе»[153 - См.: Sw. – p. 181.]. То есть видит он колокольни, а за ними скрывается красивая фраза или форма. Потом появляются у него девушки – не три колокольни, а три девушки, причем из легенды. В действительности здесь появляется тема, которая относится и к красивой фразе, и к трем девушкам, тема того, что у Пруста будет называться acte durable, то есть длящийся акт[154 - Fug. – p. 562.]. Я говорил вам о длящихся актах в очень возвышенных терминах, чуть ли не божественных, – что агония Христа длится вечно, – что мы внутри некоего чего-то, что происходит, не происходя. То есть мы не можем сказать, что произошло. Мы находимся внутри того, что происходит. Представьте себе такую космологию мира, в которой мир был бы как произносимая и никогда не произнесенная фраза. Ну а если подумать, то ведь в действительности это есть единственное определение, которое можно дать человеческой истории. История и человечество есть попытка быть человеком. Мы – внутри ее. Мы не можем судить ее извне. Эта попытка может удастся, а может и не удастся. Это одна затянувшаяся и по сегодняшний день происходящая или произносимая, если угодно, фраза. Или, словами Пруста, «красивая фраза». Это – население мира множественными состояниями одного и того же, которое все время происходит. Или же – пушки Фолкнера, которые в роковой день сражения между северянами и южанами уже заряжены, но еще не выстрелили. Хотя известно, что они выстрелили. Но это есть факт физической истории, а в душевной жизни и в структуре единой истории каждый юноша, как говорит Фолкнер, становящийся личностью, должен решить, как он поступит в тот момент, когда флаги развернуты, пушки заряжены, но за флагами еще не пошли в бой солдаты, и пушки еще не выстрелили, и всего этого могло не произойти. То есть – что? – Христа не распяли. Есть вещи, по отношению к которым человек в той мере является человеком, в какой он не может даже принять нечто как совершившееся. Мы ведь в действительности не допускаем, что, например, случилось распятие Христа. Вот в той мере, в какой для нас это недопустимо, то есть – не случившийся факт, в нас что-то происходит, и мы являемся людьми.
Или другой acte durable. Длящийся акт. Альбертина ушла от нашего героя, и улицы для него оказались населены… можно сказать так: узнаваниями. В каждой женщине ему чудилась Альбертина. За одной он даже погнался, потерял ее, потом снова встретил около своего особняка (вернее, особняка, в котором он жил, особняк принадлежал Германтам). Он успел уже построить целый роман, вспомнив, или ему казалось, что он вспомнил, имя, и он дал телеграмму Сен-Лу, чтобы тот ему сообщил точное имя, а пока Сен-Лу ответил бы, он успел построить целый авантюрный любовный роман с этой узнанной или, вернее, неузнанной женщиной, а потом оказалось, что это была Жильберта, его первая любовь. Насколько можно узнавать не то, что есть, и не узнавать того, что есть. Или узнавать то, чего нет, или не узнавать того, что есть. Но здесь нам важно размножение самого состояния, которое и есть смысл. Другой acte durable (обратите внимание на то, как мы испытываем ощущение, которое мы на нашем глупом языке называем красотой): он идет по тротуару, и на его глазах – на шоссе остановилась машина и в нее садится женщина. Вот мы видим это. Десятки женщин садятся в машину, мы это видим, но этого как бы не существует для нас. А если видим, то есть в нас что-то происходит, – волнение часто ведь непонятно, нет ничего банальнее женщины, садящейся в машину, – но если видим, то мы видим, с точки зрения Пруста, acte durable. Это как бы бесконечная и год за годом садящаяся женщина. Акт, который длится, совершается, и мы воспринимаем его – данный индивидуальный акт останавливает наше внимание – только в том случае, если мы за ним увидели длящийся акт. Он для нас красив. И действительно, та женщина, садящаяся в такси, показалась нам красивой и вдруг ударила нас чем-то повторяющимся и незавершенным. Актом. Потому что он ведь не завершился тем, что именно эта женщина села в машину. Завтра или через год другая женщина, садящаяся в машину, так же нас взволнует. Ну, я не буду рассказывать – чем… Ясно – формой ноги; чем угодно. Мы будем так себе объяснять, потому что мы ведь должны все себе объяснять, мы ведь не можем не объяснять, к сожалению. А вот это – acte durable. Банальный – что может быть банальнее этой сцены на улице… женщина садится в такси. И вот мы живы, если оказались внутри этого бесконечного акта, разрешая внутри его какую-то свою задачу. Ведь кого-то принял Пруст за женщину, с которой можно иметь эротическую авантюру (она потом оказалась Жильбертой), потому что по отношению к ней он находился внутри бесконечного акта восприятия Альбертины. Значит, мы теперь восстановили, во-первых, тему вечного или длящегося акта, но мы одновременно, незаметным образом ввели тему времени. Прустовскую тему. Вот в таком невинном тексте…
Значит, Марсель возвращается домой. И вот теперь у него распадаются две стороны. Повторяю; это путешествие… как поется у Окуджавы, как это звучит у него? – по обе стороны твоей души?
– В любую сторону твоей души…
– Да, в любую сторону твоей души. Да, так. Вот эти слова Окуджавы – я их помню так же, как Пруст видит женщину, садящуюся в такси и т д. Вот, пожалуйста, acte durable. Значит, я что-то ищу и нахожусь внутри этого – в обе стороны моей души. Так вот – обе стороны души… Итак, мы прошлись по Германтам, и теперь Марсель возвращается к себе, и вдруг все меняется. Казалось бы, нет большой физической и географической разницы между страной Германтов и страной Мезеглиз, или стороной Сванов. Кстати – о том, что нет разницы и потом она исчезнет, когда мы пройдем во все стороны своей души, – в конце романа Жильберта, первая его любовь, потом встреченная им уже в качестве вдовы его друга Сен-Лу, скажет ему невинную фразу: «А ведь ты знаешь, что в сторону Германтов можно было попасть, пройдя направо от калитки…»[155 - T.R. – p. 693.]. А он выходил налево, откуда дорога распадалась на две стороны. Оказывается, есть прямой путь, на котором вообще нельзя заметить разницу между стороной Германтов и стороной Сванов. Все, оказывается, одно и то же. И нужно было прожить целую жизнь, чтобы убедиться, что нет разницы между этими сторонами. Ну ладно, я отвлекся… И вот стороны распадаются – чем? Вот тем, что я говорил вам. Значит, светлая авантюра без обязанностей, без душевной гири, – а туг он возвращается домой, и снова его охватывает атмосфера предчувствия того, что он у себя в комнате будет ожидать поцелуя матери и он теперь – в своей второй стороне души. И он знает, что каждый раз, когда прогулка затягивалась, этот поцелуй отменялся. Как он отменялся когда-то в детстве (а наш герой никогда не мог заснуть без этого поцелуя, начинались его мучения). И теперь он возвращается в сторону поцелуя и знает, что этого поцелуя не будет. Но знает также и то, что, когда он проснется и солнце будет сиять, он уже не будет об этом помнить, он снова будет думать о стороне Германтов и о приключениях в ней. И две вещи будут чередоваться в его душе и никак не будут связаны одна с другой. И так закладывается основа всей душевной жизни. Эти стороны, говорит автор, «связаны с событиями самой незаметной жизни в нас», а именно: жизни интеллектуальной (в широком смысле слова), духовной… как угодно назовите эти события, которые наложат отпечаток на всю его жизнь. Конечно, эти интеллектуальные события, «эта интеллектуальная жизнь прогрессирует в нас незаметным образом, истины этой жизни меняют в нас смысл происходящего, меняют вид нашей жизни, открывают нам новые дороги, открытие которых давно уже уготовано в нашей душе, но мы ничего этого не знаем, и идет тихая незаметная работа; и мы датируем эти истины, когда эти истины для нас очевидны, но в действительности истины эти относятся не к этому времени, а ко времени этой незаметной работы»[156 - Sw. – p. 183.]. И дальше – про цветы, которые он видел в траве, вода, которая играла под солнцем, пейзажи и т д., все это, очевидно, даже в своих индивидуальных частностях, даже в самых эфемерных своих частностях, сохранилось в моей душе, и, может быть, эти цветы, эта вода, которая играла под солнцем, обязаны мне и моей душе (то есть тому, что они сохранились в моей душе) тем, что они вообще пережили тот короткий момент своей физической жизни, который им был сужден (цветы, как известно, вянут; вода может перестать течь и т д.). И все это сохранилось в моей душе, и вот то, что сохранилось в душе, есть то, что Пруст называет «глубокими отложениями моей умственной почвы», на которые в последующем я опираюсь. Может быть, вера, которая творит, иссякла во мне, или, может быть, потому, что реальность формируется только в памяти, цветы, которые мне показывают сегодня, мне не кажутся настоящими»[157 - См.:Sw. – p. 184.]. Дальше идет очень красочное описание всего того, что осталось в душе, что пережито в стороне Мезеглиз или в стороне Германтов; это все, когда я увижу (скажем, когда я увижу боярышник, яблони в цвету) в любых своих путешествиях, я воспринимаю (то есть то, что я вижу) не в первый раз. Я воспринимаю – потому что это «находится на той же глубине, на том же уровне, что и мое прошлое, и именно поэтому непосредственно сообщается с моим сердцем»[158 - См.:Sw. – p. 185.].
Я сейчас очень коротко на этом остановлюсь. Здесь без нажима, без ничего дана вся тема и структура времени у Пруста. Я приведу вам смысл этой темы, перекинув вас одновременно и на другой пример у Пруста, потому что там есть некоторые словосочетания, которые нам важны для проблемы впечатления. Есть такая тема, на которую, кстати, даже психоаналитики обратили внимание (но довольно банальным образом; в том числе Манони, ученик Лакана, который много писал о литературе с психоаналитической точки зрения, обратил внимание на эту тему у Пруста). Ее условно можно назвать темой «сад Женщины». Сад Женщины – это Булонский лес, который для Пруста населен впечатлениями юности, то есть впечатлениями аллей, по которым в прекрасных колясках медленно проезжают красавицы Парижа. Потом, через энное число лет, он смотрит на этот лес и видит, как он выражается: «Лес, как лес». «Озеро, как озеро»[159 - См.:Sw. – p. 421.]. Здесь очень глубокое, связанное с проблемой времени наблюдение относительно того, как работает наше восприятие. То есть, что является для нас впечатлением, а что не является таковым. Оказывается, впечатлением для них является то, во что вложены «gisementes profonds de mon sol mental»[160 - См.:Sw. – p. 184.]. Отложения моей ментальной, или духовной, или душевной почвы. То, что запечатлелось, прозвучало какой-то нотой, требующей расшифровки, – потом, когда ты встречаешь, скажем, цветок, ты способен воспринять его как цветок. То есть взволноваться, увидев цветок. Помните, я говорил вам: от чего мы волнуемся и от чего не волнуемся? По отношению к чему полна наша душа, а что оставляет нас пустыми и холодными? Можем ли помыслить, захотев помыслить, или не можем? Ведь красота цветка должна нас волновать, а не волнует. Или волнует. Но раз она может волновать или не волновать, то это уже проблема, – ведь красота цветка одна и та же. Или: качество женщины, на свидание с которой стремишься, а пришел – скука смертная. В чем дело? Мы же присутствуем с предметом, а вот работает sol mental – отложение душевной почвы. Оно, во-первых, связывает во времени разные события поверх времени и пространства – эти события могут быть разделены в рамках хронологического времени, но связаны в этом времени. В каком-то внутреннем времени. Значит, мы имеем проблему внутреннего времени. Во-вторых, структура времени есть структура возможного нашего восприятия, или впечатления. Лес как лес не волнует, а волнует «сад Женщины». То есть я способен воспринять красоту любого озера, если это не просто озеро, которое я вижу. Если за ним стоит проработавшаяся структура, – она соединит мою голову и мою способность волноваться, мою способность воспринять с воспринимаемым предметом. Не сам предмет на меня подействует; этого нет – так мы не устроены. Я представляю себе прекрасную женщину – оказывается, чтобы взволноваться прекрасным, недостаточно этой идеи и недостаточно присутствия самого предмета. Сам предмет, как Пруст говорит: озеро как озеро (а я скажу: женщина как женщина), лес как лес. Птицы пролетали над этим озером, как над любым другим, и ничего не вызывали в душе. А – что вызывается или не вызывается в душе, нам важно, потому что вся наша проблема – полнота душевной жизни. Проблема присутствия. Как присутствовать в какой-то момент или в любой момент со всей полнотой нашей способности понимать, переживать и волноваться (то есть присутствовать можно) – это и называется присутствовать. Но чаще всего мы, присутствуя, – отсутствуем. Значит, перевернем – то, о чем мы говорим и что Пруста заинтересовало, это есть законы присутствия. Потому что, повторяю, мы чаще всего, присутствуя, отсутствуем. Но по каким связкам и как завязывается наше присутствие – это интересно.
Значит, мы ввели проблему времени. Дальше вводится уже чудовищная проблема. И потом это все на энное число страниц попадет, будут идти другие описания и т д., потом снова тот же мотив, который соединит нити и предшествующего описания, и промежуточного. Снова проиграется уже другими словами, казалось бы. Потом снова исчезнет и т д. Так вот, я к мотиву возвращаюсь – Пруст снова выходит на сюжет возвращения домой и вдруг пишет мимоходом. Я сказал вам уже, что возвращение домой – сторона Мезеглиз, или сторона Свана, – это возвращение в зону, в ту сторону души, в которой ты ожидаешь поцелуя матери. И вот – возвращение в те часы и в те места, которые «пробуждали во мне angoisse (непереводимое слово: страх, предожидание со страхом, тоска), которая позже эмигрирует в любовь»[161 - См.:Sw. – p. 185.]. Значит, мальчик смотрел на колокольню, погулял в стороне Германтов, возвращается в сторону Мезеглиз… и тут же дается структура того, что с ним потом будет происходить. Потому что angoisse, или, как я уже сказал, структура ожидания поцелуя матери, эмигрировала в Альбертину и в других. И вообще во все формы возможных отношений с любимой женщиной. Кто бы она ни была. Внутри каждого отношения неумолимо разыгрывается эта структура. И в каком-то смысле – напоминаю вам, что роман Пруста есть роман освобождения, – роман Пруста есть роман, написанный против матери (но в очень тонком смысле слова, не понимайте этого прямо), Конечно, это роман материнской любви, но – любви в особом смысле слова. Есть, скажем так, любовь в двух смыслах. Есть любовь, которой мы жалкие рабы – других или своих же собственных эмоций или того, что мы считаем своими собственными эмоциями. Любовь, в которой мы лжем самим себе. А есть любовь, на которую способна классическая душа. Любовь, которой можно любить, не проходя адский цикл погони за обладание предметом любви. То есть любить вещь саму по себе, зная, что невозможно ею обладать. Одновременно это есть и спасение от смерти, потому что, как говорил Пруст, «именно привязанность к предмету влечет за собой гибель собственника»[162 - T.R. – p. 807.]. Того, кто привязан к предмету. Я сказал, что этот роман написан в каком-то смысле против матери, – это освобождение от эгоистической любви к матери, которая, как в зерне, заключена в потребности материнского поцелуя со всеми вытекающими отсюда формами судорожного бега к тому, чтобы воссоединиться с этим поцелуем, бега такого, в котором ты можешь давить себя, других, шагать по трупам, лишь бы быть поцелованным матерью. С другой стороны, это есть зависимость от любимого объекта, не дающего поцелуя. Эта зависимость унизительна для классической души. Вот представьте себе: вы любите родину, родина обладает недостатками… и если вы любите ее так, как Пруст был привязан к материнскому поцелую, вы будете вечным рабом пороков своей собственной родины именно потому, что вы ее так любите. Не будучи способным любить ее независимо. Так вот, мы в любви никому не обязаны отчитываться, и в том числе не отчитываемся перед предметом любви, и никому ничего не должны доказывать. Любовь – мое дело, в том числе моя любовь к родине, например. И доказывать ее я никому не должен. Поэтому я свободен от ожидания, что моя родина станет совершенной или мама меня поцелует. Есть вещи, в силу которых моя мать может не поцеловать меня, не может быть, чтобы моя любовь к ней зависела бы от того – поцелует она меня или не поцелует. Или не может быть, чтобы моя любовь к родине зависела от того – имеет или не имеет моя родина пороки. И, наоборот, если все зависит от красоты предмета любви, то этот предмет будет максимально порочным, потому что ожидание или стремление владеть прекасным предметом любви, который во всех отношениях был бы совершенен, есть порок. Люди, живущие с этим чувством, порочны. Следовательно, все наоборот: родина никогда не станет прекрасной, если мы не будем независимыми в любви к ней. То есть если мы будем обладать страстью кому-то доказывать, что мы ее любим. В том числе себе или самому объекту этой любви. И эта независимость есть то, в чем мы можем быть свободными. Это и есть любовь, конечно, в высшем смысле слова. Почему? Да потому, что она – перед лицом невозможного. Не случайно я начал невинный треп насчет того, что мы никогда до конца не отдаем душу: никто из нас еще не существует, и мы находимся внутри длящегося акта, и самое интимное в нас – это то, что мы должны сделать, но не сделали. Но ведь и мать такова, она ведь тоже имеет дело с невозможным… Узнать в другом человеке партнера по невозможному – в метафорическом смысле – это и есть высшее принятие других людей, или стран, или кого угодно (я тут отождествляю; страны, люди, все это одно и то же в смысле механики наших привязанностей, наших зависимостей). И в этом смысле, повторяю, – путь, проделанный против матери. То есть против такой любви к матери, которая тебя делает рабски зависимым от того, как она (мать) поступит (поцелует или не поцелует). Это можно перенести и на другие формы любви: Марсель проходит свою любовь к Альбертине, открывая в самом себе зверя, – что в действительности я не Альбертину люблю, в действительности я хочу ею просто обладать как вещью и навсегда запереть или в темнице своего сердца, или в темнице своего особняка. Так вот – освобождение от эгоизма и выход к партнерству как к чему-то, что для всех одинаково невозможно и в чем каждый чего-то никогда не даст другому, потому что он сам этого не имеет. Aucun etre ne veut livrer son бme – никто не хочет отдать мне душу. До конца.
И вот – с этой angoisse, которая эмигрирует в любовь, Пруст говорит: «Конечно же, это соединение во мне совершенно разных впечатлений (то есть впечатлений легкости от страны Германтов и angoisse, испытываемой в стороне Свана), тот факт, что я испытывал эти противоположные чувства в одно и то же время, предуготовило мне в будущем много разочарований и много ошибок. Потому что очень часто я хотел видеть кого-то, а в действительности я хотел еще раз увидеть куст боярышника»[163 - Sw. – p. 185.]. Или в случае Свана: иногда ему казалось, что он любит Одетт или хочет ее видеть, а в действительности ему хотелось слушать музыку. И желание слушать музыку он осознавал как желание побыть с Одетт[164 - См.:Sw. – p. 304.]. Или – я хочу в действительности просто насладиться видом боярышника, но это желание топографически так разместилось в моей душе, что я считаю, что я хочу видеть мою возлюбленную. Но это будет разочарованием… – увидев возлюбленную и желая видеть куст боярышника, – конечно, в присутствии возлюбленной я вовсе не буду в том состоянии, в котором я должен был бы быть, встретив предмет своей мечты. Или, скажем, желание путешествия можно принять за возобновление своих чувств к какому-то человеку. И все это уже заложено в топографии нашей души. Но в то же время это есть преимущество, заключает Пруст, в то же время это как раз «давало глубину моим чувствам»[165 - См.:Sw. – p. 185.], или, выражаясь на нашем языке, открывало время нашей возможной истории. Скажем так: эти завязки, которые образуются в нашей душе, есть завязки того, что мы в действительности можем воспринять и узнать. Это нечто, что мы можем воспринять и узнать, отмечено одним знаком, или предъявляет к нам одно условие – мы должны рискнуть, то есть положить себя на карту. Это все рискованные чувства, это не безразличные чувства, не абстрактные сюжеты. Задета наша судьба. В том числе все, что в будущем случится с автором. Он знает, что будут такие-то разочарования, такие-то ошибки. Но, не сделав этого, ничего не узнаешь. Значит, можно сформулировать так: если не ангажируешься, ничего не узнаешь, а если ангажируешься, то неминуемо надышишь на стекло, через которое смотришь. Другого не дано. Не рискнув, не узнаешь, а рискнув, обязательно будешь узнавать искаженно. Вот эти две карты, соединение которых выводит нас на те немногие истины, на которые мы выходим. Но с какими способностями мы выходим на эти немногие истины и что это за странная категория, называемая Прустом впечатлением? И как в действительности устроено наше восприятие и мышление, и что мы можем делать в определенных ситуациях, которые есть ситуации неясной или невнятной радости? Неясного, невнятного волнения, всегда несоразмерного с предметом, который это волнение вызывает. Это есть ситуация человеческого пафоса. Пафос всегда (poesis его можно назвать) избыточен по отношению к тому, что происходит в мире, Избыточно наше сожаление об умершем. Умершего сожалением не возродишь. Избыточно наше раскаяние…
ЛЕКЦИЯ 10
8.05.1984
Я возвращаюсь к теме впечатлений, которую начал в прошлый раз, читая вам отрывки в моем неудачном переводе. Но я надеялся, что вы сможете корригировать его по тексту. Теперь хочу обратить ваше внимание на гнезда смысла тех отрывков, с которыми мы познакомились. Хочу предупредить, что впечатления, конечно, основная тема Пруста. То, что он называет впечатлениями. Чаще всего он называет такого рода впечатления вечными[166 - S.B. – p. 308.]. Очень странное словосочетание, если вдуматься. Впечатления, по определению, бывают мгновенными. Но нет, Пруст говорит о вечных впечатлениях. Из того, что я читал, можно было догадаться, что отношение того, кто получает нечто, называемое «впечатлением», вот к этому нечто, такое же, как у просыпающегося к самому себе и к мирам, которые выбиты из орбит. Хотя в случае просыпания Пруст не употребляет слова «впечатление», но это одно и то же. Я просыпаюсь к самому себе (если просыпаюсь) так же, как я разгадываю или впервые понимаю смысл впечатления. Так же как акт моего просыпания или самого себя я не могу локализовать сразу же, не могу понять его смысла – впечатление какой-то настойчивой странной мелодией гипнотизирует меня, но само оно все время кончается в том, что Пруст называет: «неустойчивое противостояние»[167 - См.:J.F. – p. 654, Sw. – p. 6; S.G. – p. 769.]. То есть оно может выпасть и в одну сторону, и в другую. Куст, увиденный в темноте, может оказаться и кустом, и человеческой формой. Во всех случаях мы имеем сознание, которое просыпается к самому себе в некоем неустойчивом состоянии. Оно находится как бы на грани двойного бытия. Но мы уже много шагов сделали для того, чтобы те слова, которые я сейчас говорю, не были бы случайными. Мы теперь чувствуем, что все эти вещи, называемые впечатлениями, могут что-то сказать нам о нас самих, о каких-то гармониях в мире. Вспомните, я говорил вам о длящемся акте, – ведь то, что я теперь называю вслед за Прустом впечатлением, есть, другими словами, то же, что мы почувствовали бы, если бы были способны чувствовать, оказавшись внутри вечного или, как говорит Пруст, objet durable – длящегося объекта[168 - J.S. – p. 400, 401.]. Или вечного акта, длящегося и не кончающегося – условно скажем так – в нашем макроскопическом языке. То есть наш язык пропитан причинной терминологией, и если в нем что-то случилось, то случилось. Например, Христа распяли. Это есть в макроскопическом языке. И тем не менее какие-то основы нашей духовной жизни требуют от нас воспринимать это как несовершившееся событие. Событие, внутри которого находимся мы, и наше движение внутри этого события влияет на то, каков смысл этого события. Ну ясно ведь, – пример очень пластичный, на примерах Пруста это, может быть, не так видно, потому что там пирожное «мадлен» или что-нибудь еще, а вовсе не Христос, – что структура в этих случаях одна и та же. Конечно, то, как я пошевелюсь внутри этого впечатления или внутри длящегося объекта, участвует в том, каков смысл этого события. И чтобы у него вообще был смысл, оно должно продолжать длиться по сегодняшний день. И теперь понятно, почему впечатления можно назвать «вечными». Значит, когда мы говорим о впечатлениях, не всякое восприятие относится к категории впечатлений. И из того, что называется впечатлениями, мы что-то можем узнать о самих себе, о каких-то гармониях в действительном мире. А всякий действительный мир, по Прусту, по нашему разумению, наверно, прекрасен, – если мы можем его увидеть. Мы узнаем из этих впечатлений о том, что я называл тайной времени (смысл события, которое мы относим к длящимся событиям, варится где-то втайне). Впечатления, конечно, приходят к нам случайно. Из них же мы узнаем о нашей включенности в эти впечатления. И из них же мы узнаем о сцеплениях нашего предназначения.
И вот то, что я сейчас называю впечатлениями, то есть такими вещами, в которых мы узнаем о самих себе, о гармониях в мире (о тайной упорядоченности мира, о тайном смысле), узнаем о сцеплениях нашего предназначения, – это же называется у нашего героя разумом. Довольно странное словосочетание. Я приведу вам цитату из первоначального наброска романа, который издан уже не самим Прустом, а ревнивыми издателями, любителями Пруста, называется он «Против Сент-Бева». А Сент-Бев, если это имя вам что-нибудь говорит, известный литературный критик Франции XIX века, и для Пруста он выступал как идеализированная фигура литературного критика, с которым Пруст ощущал себя в вечном разногласии, и первый набросок романа рождался как полемическое опровержение представлений Сент-Бева о том, какое место вообще акт творчества занимает в личности человека, совершающего этот акт, что может критик вычитывать из текста романа или поэмы и т д. об авторе или о жизни автора. Пруст пишет: «Под тем, что обычно называется умом (или разумом – по-французски «intelligence» означает «разум»), философы стремятся ухватить некий высший разум, единый и бесконечный, как чувство (необычность сочетания, хотя нам кажется, что конечнее и преходящее наших чувств ничего не бывает), являющийся одновременно объектом и инструментом их медитации… Они ищут некое таинственное и глубокое чувство вещей»[169 - S.B. – p. 355, 880.]. Как вы видите, здесь имеются две странности, по меньшей мере. Во-первых, разум отождествлен с некоторым чувством, хотя и бесконечным чувством. Но наложите на это пока просто ассоциацию (она вам поможет, потому что она точная) – под чувством мы будем понимать ощущение человека, проснувшегося внутри бесконечного акта или длящегося акта. Внутри, условно скажем, фразы, которая продолжает говориться. Как если можно было бы представить себе мир как бесконечно договариваемую фразу. Конечно, если мы находимся внутри ее, мы можем испытать только – что? Ощущение. Не знание, а только лишь чувство. Но это же чувство оказывается у Пруста и разумом. И во-вторых, это чувство одновременно есть объект, смысл которого я хочу разгадать. Скажем, три колокольни – Пруст утверждает, что одновременно сама материя этого впечатления в моем восприятии есть не только объект, но и инструмент. Инструмент моего мышления, инструмент чувства и т д. Еще одно предупреждение: я употребляю слова «рассудок», «чувства», «разум», «ощущение». Я-то знаю, будучи философом, сколько предрассудков заложено в наших представлениях. Естественно, вы прекрасно знаете, что восприятие есть восприятие, мысль есть мысль, мысль не есть восприятие. Ощущение есть одно представление, и есть другое, и все это отличается от суждения и т д. То есть вы имеете элементарную классификацию. Но я, говоря о таких вещах, вынужден не считаться с такой классификацией. И поэтому договоримся, что мы ничего не знаем о том, что есть ощущение, чувство или эмоции, есть восприятие, мысли, суждения и т д. Всех этих предметов и классификаций мы не знаем. Ничего этого нет. Ну, в каком-то смысле это законно, потому что мы должны пользоваться только такими терминами, которые мы сами ввели на каком-то материале. У нас нет материала различать чувства и разум. Из всего того, что мы говорили, мы пока этого различить не можем. Поэтому давайте без классификаций. Все это я называл сознанием, так и будем продолжать называть. Не знаем, что это – чувство, мысль или что-то еще. Ничего этого нет, мы не знаем.
Текст, который я вам зачитывал, относится к 1892 году. Очень ранний текст, когда Прусту было (он родился в 1871 году) 22 года. Он только начинает, и тогда же начинает с той точки, на которой кончает. А именно – на точке особой формы чувствительности. Он называет ее разумом. Ее можно называть формой-чувствительностью. То есть Пруст начинает с того, что есть какие-то вещи, называемые впечатлениями, и есть моя способность в них вгрызаться, скажем так. Их воспринимать и двигаться внутри их. Вот как он двигался внутри трех колоколен. И конечно, из того, что мы говорили раньше (кое-какие вещи я буду восстанавливать), мы понимаем, что если восприятие смысла впечатления тождественно просыпанию, то просыпание тождественно восприятию впечатления; во-вторых, такое просыпание явно есть длящийся акт, нельзя проснуться в одну секунду. Растянутый акт – потому что внутри этого акта заключен целый мир. Целый мир смысла, который возникает, если я пройду свой путь в расшифровке впечатления. Или, просыпаясь, восстановлю или «нанижу на нить, – как выражается Пруст, – дни, часы, минуты, месяцы, годы»[170 - Sw. – p. 5.], и снова миры, выбитые из орбит, окажутся на какой-то орбите. И, добавляя все, что мы говорили, мы теперь понимаем, что просыпание есть держание места. Я держу место. Топос – что-то неподвижное. Вы помните, когда я употреблял термин «сознание», я все время пытался как-то пространственно дать смысл этого термина. Говорил о том, что нам кажется, что все движется, а в действительности нечто стоит на месте, а бежим мы. Я приводил вам пример одной фразы, не расшифровывая, из Пруста. Он говорил, что все считают, что прошлое текуче, мимолетно, что оно убегает; в действительности «оно стоит на месте»[171 - C.G. – p. 418…]. Так вот, сознание, смысл, разум, чувство – соединяйте все эти термины – это нечто, что стоит, и поэтому мы его называем местом. И в то же время мы знаем, конечно, что есть топография, некая карта нашей души, в которой иначе все распределено, чем мы себе представляем. В этой карте нет низкого и высокого, принц и нищий там уравнены, – мы знаем: педераст уравнен с нормальным человеком, рабочий уравнен с аристократом. Я вам говорил, что в этом месте нет привилегий. Оно – точка равноденствия. В том числе там нет несчастных и счастливых.
Более того, если есть люди, чувствующие себя несчастными и поэтому что-то знающими, то они уже не там, где они что-то могут понять. Я вам напоминал, что по смыслу Евангелия (а Евангелие – это топография души) у бедных отнята привилегия чувствовать себя «пупом земли». Она отнята и у богатых тоже, но отнята и у бедных. То есть у богатых отнята – не потому, что они богатые, и дана бедным; у бедных тоже отнята. Значит, мы предполагаем нищего духом – здесь, в этой точке. И можно начать с пирожного и прийти к великому смыслу, а можно из книги Паскаля, оттуда можно начать. Безразлично – откуда мы начинаем, откуда мы идем. Место отправления не повлияет на результат. На результат повлияет лишь промежуток. Поэтому у Пруста появляется все время слово «между». Между двумя – когда он обращается к воспоминаниям о некоем прошлом, совпавшем с актуальным переживанием, похожим на него[172 - T.R. – p. 870, 871.]. Но, к сожалению, все комментаторы и читатели воспринимают Пруста как человека, который восстанавливает свое прошлое (движется к прошлому), для которого прошлое – идеал. А Пруст все время предупреждал, что не в прошлом дело, не прошлое он хочет восстановить и, восстанавив прошлое, насладиться прошлыми событиями, прошлыми переживаниями, восприятиями. Именно в этих случаях, когда он говорил, предупреждал об этом, он повторял: да не там, между прошлым и настоящим. Вот это словечко «между» нас должно заинтересовать. Тем более что потом он вместо «между» будет говорить – вне времени[173 - J.S. – p. 402.]. Время в чистом виде, вне времени. Это – противоречивое словосочетание. И вот это словечко «между» нужно соединить с тем словом, которое я приводил вам и пометил, со словом «вне». Вне себя[174 - T.R. – p. 877.]. То есть со словом «экстериоризация». Короче говоря, движение впечатления у Пруста есть движение не внутрь психологического богатства души, не во внутренний духовный мир, духовную жизнь, в то, что мы называем внутренней духовной жизнью, – есть якобы какие-то глубины сердца, непостижимые глубины чувства и т д. Парадоксальным образом у Пруста это движение расшифровки впечатления есть выворачивание себя во внешнее пространство. Движение – вне. Вот представьте себе некоторую вывернутую поверхность и движение расшифровки смысла – выворачивание поверхности. (Ну, есть такие парадоксальные фигуры в геометрии. Там они выглядят как интеллектуальные игры, но в духовной жизни реализуются самые невероятные представления абстрактной геометрии.) Более того, у Пруста это движение выворачивания себя – как бы наизнанку – одновременно имеет фундаментальный этический смысл. Без этого выворачивания, то есть без «экстериоризации предметов своих желаний или стремлений», – как говорит Пруст, мы создаем вокруг себя и живем в мире ненависти, злобы и войны. В мире миллионов или миллиардов эгоизмов, которые по неумолимым законам сталкиваются один с другим. И лишь экстериоризация предметов желаний вынимает нас из этого инфернального цикла повторения злобы, ненависти, человеческой разделенности и т д. (пока мы этический смысл только пометим)[175 - Fug. – p. 495.].
Сделаем следующий шаг. Вот я сказал: вывернуть себя. То, что мы до сих пор говорили, тот материал, который мы имеем, позволяет нам понятным образом на первом этапе это расшифровать так: то, что называется выворачиванием, или движением вовне, есть то, что я называл преобразованием. Вот я сказал: между принцем и нищим нет разницы. Из любой точки можно идти. Из какой точки шел, не повлияет на результат. А что повлияет? Между, или вне. Степень трансформации материала. Впечатление от бензина не имеет само по себе абсолютно никакого значения, вернее, смысла. Сильная душа может преобразовать впечатление от неэстетического объекта в красоту. Так же, как педераст может преобразовать свои испытания в истину об общей природе любви, а не о своей частной, болезненной. Все зависит от того, каков будет градиент преобразования. У Пруста есть один потрясающий пример: сцена развертывается на Елисейских полях, куда нашего мальчика-героя водили гулять с няней, где начинались его первые любови. Где появляется Жильберта – первая любовь Марселя. Няня заходит в какое-то строение (это был туалет). И он ждет ее. Его поразил запах сырости. (Ну, если не считаться с мягкой манерой Пруста, который не всегда называет вещи своими именами, – это просто запах мочи.) И вот из этого запаха идет целая симфония мыслей и впечатлений. Именно впечатлений – мыслей, а не просто впечатлений. Перед ним странный, загадочный запах, который развязывает в нем интенсивную духовную работу. А ведь это просто запах мочи, не больше. Но гипнотизирующий и требующий разгадки. Вызывающий одновременно радость какого-то ощущения себя в мире испытания. Когда мы настолько вырываемся из мира – то, что называется радостью у Пруста, – что нам уже безразлично, что нам больно и что мы можем умереть[176 - S.B. – p. 421.]. То есть радостью в данном случае называется какое-то ощущение абсолютной прозрачности того, что ты видишь перед собой, и полное слияние себя с этим, настолько, что ты ощущаешь понятое тобой вне времени, а поэтому время не страшно для того, что – вне времени. И поэтому состояние называется радостью. Во всех случаях, когда вы встретите это слово у Пруста, оно означает вот это ощущение, которое я, конечно, передал вам плохо. Но не хуже, чем Пруст, потому что то, как передал Пруст, тоже непонятно. Вернее, понятно, если только вы сами это испытали. Вербально – ни я, ни Пруст не можем этого вам передать. Доказательством того, что Пруст не смог, является то, что я должен об этом говорить. То есть я должен интерпретировать. В других случаях Пруст такого рода состояния будет называть мистическими законами[177 - См.: S.B. – p. 417.]. Или таинственными законами. Кстати, не забывайте, что мои высокие рассуждения, так же как радость у Пруста, вызваны – чем? Не высоким сюжетом, а запахом уборной. А теперь наложите на понимание того, что называется радостью у Пруста, модель всеми вами испытанного освобождающего вас страдания, когда вы уже до такой степени страдаете, что уже не конкретные объекты причиняют вам боль, скажем, смерть близкого вам человека или измена близкого человека, а уже вы переживаете какую-то общую суть мира. Вот этот элемент есть во всяком действительном страдании. И тогда у вас есть какое-то ощущение, которое можно передать так; вы как бы ощущаете себя в аду, но презираете своих мучителей, которые вонзают вам вилки в бока или бросают вас в чан с кипятком, вы чувствуете, что они с вами ничего сделать не могут, но вы рабы. Вот это есть радость. Или то, что Пруст называет радостью.
Так вот, этот запах мочи является вечным впечатлением. Почему вечным? Да по одной простой причине: например, там, где он начинает разматывать испытанное ощущение, которое явно несоизмеримо с предметом, – нельзя прийти в такое высокое состояние, которое от меня потребовало сейчас тех слов, которые я употреблял, просто оттого, что тебе ударил в нос сырой запах уборной, – явно там происходит что-то другое, что приняло (вспомните текст о колокольнях) форму запаха мочи. А «дух веет там, где хочет», и он может и эту форму принять. Если послушаешь, то что-то узнаешь. Наш герой слушает, и что он узнает? Длящееся впечатление, являющееся элементом какого-то непрерывного или неоконченного континуума. Смысл его каждый раз неясен. И он, кстати, неясен до последней страницы романа. Почему? Сейчас я вам поясню. Дальше, через две страницы, это ощущение совмещается у Пруста с воспоминанием о комнате, которая условно называется комнатой «женщины в розовом». Эта комната в доме дяди нашего героя, к которому он, маленьким, иногда приходил с поручениями от своих родителей или просто навещал своего дядю по материнской линии. (Если употреблять немецко-идишное слово – то, что немцы и евреи называют Feinschmecker. Вот представьте себе сладострастника, все время причмокивающего губами – ах, ах, ах, или – ифь, ифь, ифь, как вкусно. И очевидно, у этого файншмеккера появлялись не только красивые предметы, но и женщины.) И вот наш мальчик появляется в комнате у дяди, когда из этой комнаты после визита уходит какая-то дама. Она была в розовом. Потом, я должен пометить, эта дама оказывается Одетт. Дама Де Креси, а в качестве Одетт она возлюбленная Свана, а любовь Свана к Одетт – архетип любви героя. То есть он по схеме любви Свана будет переживать свою собственную любовь и пробегать те же станции любви, что пробегал Сван в своей любви и ревности. Но мы ничего этого пока не знаем. Мы знаем только одно: был какой-то смысл места, где есть моча, потом есть какой-то смысл места, где бывают женщины, и внутри этого смысла – судьба героя. Потому что он будет любить так, как любил Сван. Теперь мы начинаем догадываться, что называется вечными впечатлениями. Конечно же – не конкретный запах уборной и конечно же – не просто промелькнувшая женщина в розовом платье в комнате у дяди. Сейчас мы обратим внимание на следующее. Пруст делает такую реплику… и эти размышления, и эта эляция, то есть ощущение, что, так переживая, я выше мира, я не завишу от мучающих меня ощущений, это есть радость, но в то же время… страдание, – так вот, эти состояния «были вызваны во мне, порождены во мне не какой-нибудь абстрактной идеей или высоким сюжетом, а запахом сырости»[178 - J.F. – p. 494.См.:S.B. – p. 380; J.S. – p. 110 – 111.]. Хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Потому что, хотя все это говорится как бы мимоходом, это и есть самое главное. И все бусинки у наших четок, которые мы перебираем, содержат в себе такого рода обороты – нет, не из сюжета, не из высоких мыслей, а из простых вещей. Не из «Мыслей» Паскаля, а из рекламы мыла… Что существенно в такого рода впечатлениях? Сделаем еще один шаг. Существенно то, что мышление или описание происходит. (Я чувствую, насколько непонятно то, что говорю. И я все никак не могу найти простую схему, простую модель, на которой можно было бы эту вещь, которая сама по себе мне внутренне ясна, можно было бы ее пояснить.) Мы имеем дело с романом, который есть продукт акта письма, и роман этот описывает акт «писания» романа (но не воспринимайте это формально: что это есть «писание» именно романа). И мы имеем дело с тем, что человек создает или ищет какую-то форму, а писать роман, или симфонию, или поэму – это искать форму, и он же сам осмысляет этот акт. И осмысляет его потому, что этот акт есть существенное событие. Не просто происходят вещи – например, запах уборной, три колокольни, «женщина в розовом», поцелуй матери, – в мире происходит еще факт размышления об этих вещах и их описание в целях найти их форму. То есть смысл. Само искание смысла того, что происходит, тоже есть событие, и оно может быть самым существенным событием. То есть для нас событием является не то – как, что в реальности, какова реальность. Мы даже не знаем, что там на самом деле. Можно описать, что на самом деле происходило то-то и то-то. Существенно, что среди происходящих событий есть еще событие извлечения смысла из происходящих событий. И от того, произойдет ли это событие, зависит – что? Я в двух словосочетаниях скажу, на таком ученом и не очень внятном языке и на таком экзистенциальном, что ли, уровне. На ученом это будет звучать так: от этого зависит – извлекая опыт или не извлекая. А на научном уровне: зависит, как сложится судьба. Сейчас я попробую соединить эти две вещи. Я говорил вам уже, что в мире вещи повторяются. Повторяемся и мы. Сама повторяемость есть дурная бесконечность. Например, можно согрешить и раскаяться, снова согрешить и снова раскаяться. Это имеет смысл этический, психологический, социальный, какой угодно. Есть две вещи. Есть опыт, то есть то, что можно наблюдать извне (вот в мире произошло то-то; скажем, произошла война). А есть он же, но извлеченный в какой-то структуре. Опыт произошел, но, если он не извлечен, он будет повторяться. На языке религиозной символики повторяемость называется адом. Ведь что такое ад? Вы бесконечно повторяете один и тот же акт. Например, бесконечно прожевываете кусок мяса, который вам полагался вообще. Слишком большой отхватили. А наказание – вы его вечно будет прожевывать, не прожевав до конца. И все, что не имеет конца, бесконечно длится, как дурная повторяемость, – есть адовая мука. Ведь в аду не происходит ничего, не кончается ничего. Грех все время продолжается вместе с наказанием за него. И там происходит все то, что является призрачным забытием. Ад – это забытое. А раз забытое, значит, будет повторяться. Ну, скажем, бывают войны, которые будут повторяться, потому что нация, воевавшая, не извлечет опыта. (Последним примером я вступил в саму сердцевину дела. То, что я сказал, конечно, не совсем понятно, и поэтому прошу от вас терпения. Не только по отношению ко мне, но и к тем мыслям, которые будут роиться в ваших головах. Им нужно дать время, чтобы они покрутились. Не так страшно, когда мысли без ответа крутятся в голове. Ничего страшного. Пускай покрутятся. И кстати, это кручение мыслей и есть круг жизни.)
То, что я сказал, содержит в себе две существенные для нас мысли, и они как раз начинаются в той точке, в которой идет наш анализ. То есть в точке чего-то, называемого впечатлением. В примере, который я приводил, фактически я хотел передать вам ощущение существования чего-то, что можно назвать тканью. Есть какая-то деликатная ткань истории, этики, человеческой души; она каким-то образом устроена. Внешне она оформлена словами, но слова никогда не есть эта ткань. Скажем, есть слово «грех», а есть грех испытания и извлеченный смысл. Есть закон, и есть он же в каком-то другом виде. Или – запрет доноса есть моральная или этическая норма. Но одно дело она – как норма, словесно выраженная в виде закона, и она же – в том ключе, в котором мы работаем. Отличить словесно этого нельзя, по определению. Потому что когда я словесно выражу то, чем мы занимаемся и что является у Пруста, условно скажем так, – онтологическим опытом, то словесное выражение этого опыта совпадает – с чем? – со словами, которые есть. Ну, скажем так: ощущение ткани, которое начинает жить с точки впечатления, – такой тканью является, например, истина, она есть существенный элемент того, что мы можем и должны сказать о том, что мы испытали: из впечатления мы должны среди прочих вещей извлечь и истину. И вот об истине Пруст говорит, что истина не есть нечто, что где-то находится, нечто такое, о чем можно узнать, кого-то расспросив, например свидетелей, или нечто, что тебе пришлют по почте[179 - См.:S.B. – p. 181, 183; C.G. – p. 241; T.R. – p. 915.]. Так? Теперь я приведу еще пример, чтобы вызвать у вас ощущение ткани, – не знания, не смысла, мы еще этого не знаем и, может быть, даже и не узнаем. Пруст говорит, что истина не есть нечто, что можно прислать по почте. За этим стоит та ткань, которая покрыта словами, но которая от слов отличается. Мы знаем, что истина есть нечто, что можно иметь, а если можно иметь, то можно, например, скрывать. Например, считается, что есть истины, которые разумно сообщать, а есть истины, сообщение которых может оказаться вредным. Правду не всегда можно говорить (я имею в виду, конечно, не интимные секреты, а вещи, относящиеся к гражданской жизни, которые не обладают такой интимностью, и поэтому там запрет стыдливости не должен распространяться, там распространяются другие запреты). И я хочу, чтобы вы настроились на то, что истина есть нечто, что обладает тканью, – такой, что можно разрушить весь нормальный процесс приобретения истины, потому что приобретение истины есть именно процесс. Истины не существует. Скажем, такого рода социальный запрет, в котором говорилось бы, что есть истины, которые удобно или неудобно возвещать, сам разрушает человеческий процесс приобретения истины. Разрушает ткань. Как это выразить более резко и доступно? Я могу вам доказать такую теорему, что если истина секретна, то дело кончается тем, что ее нет ни у кого, в том числе у тех, которые должны были бы в секрете держать истину. Потому что ткань способности человека открывать истину настолько тонка и сложна, настолько она не должна нигде разрываться (поскольку это именно ткань), что любое покушение на органику истины – а органики истины нет до интерпретации, никто не держит ее в готовом виде – кончится тем, что ни у кого ее не будет. Мы ведь часто предполагаем, например, что мы чего-то не знаем, а начальство знает. Я могу держать пари, что в социальном процессе, в котором допущены два таких начальных шага – что есть какое-то место (начальство), которое будет искать истину, и есть мы, которым можно ее сообщать или не сообщать, – что истины не будет и у начальства. Там тоже ее не знают. Почему? Да потому, что разрушена ткань приобретения истины. А ткань приобретения истины отлична от правил, в которых она сформулирована.
Повторяю – Пруст говорит: не из абстрактного сюжета в мою душу пришло возвышенное духовное состояние смысла (связанное с запахом уборной). Это то же самое, что сказать – не из этического запрета доноса ко мне пришло понимание того, что нельзя доносить, и во мне возникла неспособность доносить. Вот это я называю тканью. Пруст, казалось бы, говорит о совершенно других вещах, но, повторяю, что я везде буду показывать вам одну и ту же структуру нашего бытия. Вот садится человек и хочет писать, то есть заниматься интеллектуальной деятельностью, и вдруг он говорит: когда я садился писать и хотел развить какой-то абстрактный философский или эстетический сюжет, в голове было пусто, и ничего не мог написать. Ведь что мы делаем, когда мы начинаем мыслить? Или нам кажется, что мы начинаем мыслить. Мы собираем данные, мы выбираем направление, в котором идем. Или – мы знаем что-то в абстрактном представлении. Например, мы хотим создать что-то красивое или написать красивое, зная, что красиво. Пруст утверждает: то, что есть, и то, что окажется красивым, ничего общего не имеет с идеей красоты[180 - См.:S.B. – p. 380; J.S. – p. 110 – 111.]. Или, переведя на тот язык, который мы ввели, недоносительство ничего общего не имеет с запретом доноса. Вот как нам это понять? Повторяю, недоносительство ничего общего не имеет с запретом доноса, хотя и то и другое одно и то же. Поставим себя снова в положение Пруста. Мы хотим мыслить, мы выбираем предметы. Выбирая предметы, мы знаем правила мышления. То есть то, что мы получим о предмете, чему-то должно соответствовать или чему-то должно не противоречить. Есть критерий. Так вот, эти критерии, утверждает Пруст, ничего общего не имеют – с чем? – с тем, что Пруст называет впечатлением[181 - T.R. – p. 878.]. То, чего мы не можем знать, но что может только быть или не быть. Может только присутствовать или не присутствовать. То есть то, что я называл раньше «невербальным». А невербальное обладает одним признаком (по сравнению со всеми предметами нашей мысли или со всеми законами) – мы его не искали, оно пришло. Почему запах уборной может содержать истину для Пруста? По одной простой причине: он в своих поисках смысла не искал этого запаха. Почему пирожное «мадлен» может оказаться чем-то, что содержит в себе целый мир? А потому, что в поисках мира я не искал пирожного. Я его не выбирал. А все выборы есть предвыборы – я выбираю в качестве человека, который еще чего-то не знает, в качестве человека до-истины, то есть человека, который мыслит в терминах предрассудков. Ведь я пользуюсь теми средствами, которые у меня есть, и беда в том, что я чаще всего оказываюсь в ловушке своего же собственного мышления. А если что-то приходит независимо от известных мне способов движения, то это «что-то» может нести истину. Ведь впечатление есть то, что запечатлено во мне независимо от меня. Я этого не искал, не выбирал. Пруст говорит: я твердо знаю, что когда нечто возникло во мне в момент, когда я споткнулся о неровные плиты мостовой (он идет по мощеному двору Германтов – одна из классических сцен-реминисценций, когда оживает прошлое: нога натыкается на неровные плиты, и вдруг с ослепительной ясностью встает перед ним Венеция, которую он усилиями произвольной памяти никак не мог вспомнить; вспомнил только декорацию, а не смысл), – «я не искал этой неровности мостовой»[182 - См.:T.R. – p. 879.]. Значит, этот удар впечатления приходит к нам вне наших связей, а связи сплетены произвольными усилиями нашего поиска. Неровности мостовой мы не искали. Так вот, когда вы встретите (знаменитая проблема у Пруста, и она занимает внимание всех комментаторов) словосочетание «непроизвольная память» или «непроизвольные воспоминания», то в действительности это, конечно, есть проблема не просто памяти или воспоминания, а в более широком смысле – проблема произвольного ума и непроизвольного ума[183 - S.B. – p. 557 – 559.]. Произвольный ум – это ум, который организует свое движение и контролирует его волей и сознанием. В том числе, если ты ищешь сюжеты, ты ищешь сюжеты уже существующие. С готовыми критериями. У тебя в голове – законы, правила. Но дело в том, что в мире Пруста существует следующий закон (я сейчас выражусь очень абстрактно, но в данном случае это будет единственным способом выразить саму по себе вещь очень сложную), – от закона нет непрерывного и прямого пути к нему же самому в следующий момент времени. В данном случае это есть единственно экономное и «мускулистое» выражение. Действительно, можете ли вы так понять, оценить этический поступок другого человека или свой, чтобы это понимание было бы следствием приложения вывода из закона к конкретному случаю? Я утверждаю, что этого не может быть. Оценка конкретного случая не есть следствие выводимого нами из нашего понимания закона. В том числе закона о том, можно доносить или нельзя доносить. Этим я хочу сказать, что непрерывно воссоздается содержание закона. Чтобы закон длился в следующий момент времени – в промежутке должно снова родиться. И мир Пруста, как мир Декарта, как мир Платона, есть мир непрерывного многократного творения мира[184 - См.:T.R. – p. 476, 669, 796; C.G. – p. 327.]. Мы не имеем мира, который был бы однажды создан с законами и потом длился бы. Такого мира нет, И это мы знаем на своем собственном этическом опыте. Мы никогда не сможем получить понимания какого-то конкретного случая, так чтобы это понимание было бы простым выводом и приложением к этому случаю какого-то нравственного закона. Это противоречит тому, как устроена наша душа. Мы не так устроены в действительности. Хотя нам кажется, что мы устроены именно так. И поэтому, скажем, так же как недостаточно запретить донос в одном случае, так же недостаточно иметь в голове сюжеты, чтобы написать книгу. Я связал это с совершенно другой, казалось бы, вещью. Но это одно и то же.
Так вот, в связи с темой впечатления Пруст говорит, что книги не пишутся из книг, книги не рождаются книгами[185 - См.:S.B. – p. 307 – 309; T.R. – p. 879]. А я, завязывая другие примеры, добавлю: человек не рождается из бумажки. Но беда в том, что все наши существующие представления (я имею в виду не только официальные представления, но и обыденные представления) предполагают, что человек рождается из бумажки. А в нашем мире – в мире впечатлений – человек саморождается непрерывно из некоего невербального корня, который – или есть, или нет. Выражением, формой этого корня является то, что мы ввели на прошлых лекциях под названием сомнения и полной отстраненности. Полная отстраненность есть освобождение пространства, для того чтобы внутри освободившегося пространства могло возникнуть присутствие. Собственноличное присутствие какого-то состояния. Вот то, что я называю – невербальное. Его нельзя получить приложением предшествующего знания. Не получается. И это я называю – чего нельзя знать. Нельзя предположить, нельзя измыслить. Все, чего нельзя предположить, нельзя измыслить, нельзя получить выводом из существующего закона, все это есть область впечатлений. Или – независимых испытаний мира. То есть чего-то, что в нас произошло, имея печать радости и тайны, и произошло в нас независимо от нас. Нечто называемое впечатлением. Его нота – есть нечто длящееся, мы находимся внутри его и нашим шевелением зацепляем свои судьбы. Конечно же, Пруст шевелился внутри впечатления сырости, внутри ощущения сырости, когда он стоял около уборной и ожидал свою няню, потому что там из этих шевелений завязывались – «женщина в розовом», то есть архетип любви Свана, тайна своей формы любви, а именно: сырость – материнское лоно (или вообще просто лоно). И Пруст оказывался человеком, который может жить только окруженный мягким, или сырым, если угодно, лоном. Без поцелуя матери я не могу заснуть. А потом этот поцелуй матери мигрирует в Альбертину, и я уже не могу испытать потребность в нежности, не испытав тем самым потребности в Альбертине. Судьба.
Но пока обратим внимание на временную форму, которая уже показывает себя. Мы имеем дело, казалось бы, с ассоциациями. Скажем, запах сырости ассоциируется с «женщиной в розовом», потом с Альбертиной и т д. Или: цветы, испытанные, в Бальбеке, позволяют потом воспринимать и переживать цветы, увиденные в Париже. Так вот, слово «ассоциация» нас погубит, если мы его будем употреблять. Здесь нет никаких ассоциаций. Ассоциировать некому. У нас нет субъекта, который мог бы ассоциировать. Ведь ассоциируем мы актами понимания и сравнения. Должен быть кто-то, кто сравнивает запах уборной с комнатой «женщины в розовом» или цветы в Бальбеке с цветами в Париже. Нет этого субъекта. Значит, я делаю следующий шаг: то, чего нельзя знать, что должно само присутствовать, чего нельзя измыслить, предположить, обладает еще свойством бессубъектности. Это – бессубъектное сознание. И то, что нам кажется ассоциациями, это есть испытания, реальные события, где одно событие вложено в другое. Как говорит Пруст, «вкушать» Комбре (это родное имение) в Париже означает – не сравнивать Комбре и Париж, а в Париже испытывать такое состояние, которое включает в себя, содержит в себе реально переживание, испытанное в Комбре[186 - T.R. – p. 871,867.]. И наоборот – тогда состояние в Париже есть живое состояние. То есть оно может случиться как переживание. Почему? Потому что, как выражался Пруст, есть умственная почва. Или, выразимся другими словами, есть какой-то временной конус, который, вопреки причинной структуре, воспроизводит в будущем некоторые состояния – как реально переживаемые, или живые. Ведь обычно мы считаем, что наши состояния вызываются какими-то причинами. То есть источником наших состояний или переживаний является воздействие на нас внешнего мира. Например, я вижу цветы. Вид цветов воздействует на меня, и я переживаю цветы. Нет, этого не может быть, утверждает Пруст. И мы можем это утверждать вслед за ним. Этого не может быть – потому что событие происходит не в пространстве воздействия, а в некоем континууме самого впечатления или в континууме понимания. И для того чтобы цветы в Париже были источником переживания, цветы Бальбека, за десять лет перед этим случившиеся, должны вложиться сюда, и, как говорит Пруст, цветы, которые я вижу в первый раз, для меня вообще не есть цветы. В каком смысле слова? Да они просто не могут воздействовать, и все. То есть они не могут вызывать живого переживания. А наша история есть в действительности объем живого, расширяющийся объем, но – живого. В этом заключается вся проблема Пруста: проблема воспроизводства жизни, то есть полноты чувств, способности волноваться, – а что такое переживание? – мы волнуемся. Способность воспроизводства этой жизни в разных точках и в разных временах. Поэтому, скажем, автора волнует женщина, похожая на Альбертину, а в «непохожей» он вообще не увидит женщины. Но это же есть сужение наших человеческих возможностей. Как бы конус, идущий из прошлого в будущее и влияющий там на источники наших возможных переживаний, этот конус не совпадает со всей совокупностью объектов, которые, согласно нашим причинным представлениям, должны были бы на нас воздействовать. Повторяю, совокупность объектов, предметов внешнего мира, которые, по нашим представлениям, должны были бы на нас причинно воздействовать, то есть вызвать у нас состояние, – скажем, женщина, я ее воспринимаю, я должен волноваться, – так вот, оказывается, наше восприятие, способность быть живыми, переживать и т д. находятся внутри какого-то конуса, который не совпадает с этим ансамблем внешних объектов. Точно так же, как объем актов, с внешней перспективы являющихся предательством, не совпадает с тем конусом, внутри которого мы будем предавать или не предавать. Это же относится к истине и к тысяче других вещей.
Значит, давайте закрепим следующий пункт: нечто соответствующее какому-то закону происходит не путем вывода из закона. Или, то же самое: книги не рождаются из книг. То есть они не рождаются из наших ходов мыслей, которые ищут сюжет, тему, которые имеют критерии, правила, оценки и т д. Этот пункт сейчас нужно будет закрепить, он очень важен нам для понимания всего содержания романа Пруста. Скажем так: я говорил, что из закона не получаются события, хотя, и теперь это мы пометим, случившееся событие может соответствовать закону. То есть то, что должно заново родиться, может быть вторым, или третьим, или энным числом того, что уже было. Я утверждаю, например, что когда вы учите геометрию и действительно знаете определения и владеете геометрическим определением (например, фигуры), или математической формулой, – то вы его заново рождаете энный – первый раз. Оно совпадает с уже существующим, но оно все равно заново родившееся. Это, как философ скажет, как бы то же самое о том же самом. Даже в тех случаях, когда то же самое. Хотя обычно в такой ситуации рождается новое. Но иногда повторяется старое. Уже существующее. Но это повторение не есть дление старого. То есть не есть простой переход закона из одного момента времени в следующий момент времени. Я предупреждал, что нет непрерывного хода от закона в один момент времени к нему же в следующий момент. И для того, чтобы дать вам образ этой ситуации – ее уловить очень трудно, – я расскажу вам нечто вроде философской байки… Существует легенда о Сократе, что он на улицах останавливал прохожих и задавал им какой-нибудь вопрос. И потом мотал их по ответам, показывая, что они вообще не знают сами, о чем говорят. Таким путем он вызывал понимание, если ему удавалось, в людях, что в действительности они имеют дело с чем-то невидимым, чего нельзя словесно передать от одного к другому, а что должно быть в каждом. Должно присутствовать и говорить своим присутствием. Скажем – что такое трусость? Трусость – один собеседник ему отвечает – это радость от вида бегущего врага. Тогда Сократ ему говорит: но ведь не трус еще больше должен радоваться, когда враг бежит[187 - Platon. Euvres complйtes. «Bibliothйque de la Plйiade. 1954. T. I, Laches.]. И в итоге всякими вопросами (я сейчас не буду в это вдаваться) он заново рождал в них то, что уже в словах существовало. То есть словесно я знаю, что такое мужество. Но если этого не существует, то я не знаю. Когда это возникает, это будет то же самое мужество. Было уже. Но, увы, другого пути нет. Так вот, байка: один софист, уехавший из Афин на несколько лет, покинувший Афины для долгих путешествий, вернулся, входит в Афины – и снова на перекрестке стоит Сократ и явно собирается отловить какого-нибудь прохожего, чтобы задать ему вопрос. Софист говорит ему: «Послушай, Сократ, ты опять все то же самое о том же самом?» Сократ отвечает: «Да, то же самое о том же самом».
Так вот, я хочу сказать, что в результате явившегося нам впечатления, которое от нас не зависело, которое ударило нас вне наших связей, вне направления нашего движения, мы можем – и это предупреждение – установить то же самое, что уже было, но это и есть другой акт в мире, и без этого акта нет мира. Мир не живет правилами и законами, хотя, если он живет, в нем осуществляются правила и законы. Этот пункт в философии называется онтологией, или онтологическим опытом. Он всегда в себе содержит нечто, чего в психологическом смысле нельзя пережить, но что тем не менее есть. Вот есть эти состояния; в психологическом смысле слова нельзя сказать, что мы их переживаем и в этом смысле имеем опыт. Все это есть нечто, что не получается из опыта, а должно быть или не быть. Когда оно есть, опыт получает смысл, он может быть, например, извлечен. Вот если есть снова возникшее то же самое о том же самом, то я могу навсегда извлечь урок из своего предательства и не повторяться. То есть больше не предавать. И тогда, следовательно, я уже высвобождаюсь из ада, потому что ад состоит из забытия. Забытие, или забытие. Ада ведь не существует в действительности, это не есть какой-то факт, это – забытие. Так вот, если я извлек опыт… а опыт я могу извлечь только из того или на основе того, чему не могу научиться на опыте. Что может присутствовать или не присутствовать. Напомню вам один пример, который я уже приводил: историю нельзя начать. Ведь в России на опыте предательства ничему не научились. Почему? Потому что в нем есть нечто, чему вообще нельзя научиться на опыте. Что может только быть или не быть. Если есть, тогда опыт предательства будет плодотворен. То есть из него будет извлечен урок. Или война будет плодотворной. Например, есть нации, которые, выигрывая войны, не становятся от этого возвышеннее и благороднее. Есть такие нации, им война не принесет даже того немногого плодотворного, что она вообще может принести. Почему? Отсутствуют онтологические структуры. А их нельзя начать. Вот, скажем, нельзя встать и захотеть быть исторической нацией. Не получится. (Может случиться с нами, но не потому, что мы захотели.) Потому что нельзя начать историю. В ней можно только быть или не быть. Точно так же – в той структуре сознания, в которой извлечется опыт, можно быть, а можно и не быть. Если «не быть», то мы все забываем.
Значит, у Пруста есть два прошлых. Есть прошлое как элемент длящегося или подвешенного акта, который все время происходит. И если мы в нем участвуем, в нас формируется душа, Например, распятие Христа есть прошлое в этом смысле слова. Это – несвершившееся прошлое, которое я должен довершить. Восприятие пирожного «мадлен», десятки других переживаний – тех, которые Пруст называет утраченным временем как предметом поиска. То есть то утраченное время, которое мы ищем, есть несвершившеся прошлое, которое я довершаю. Участвую в сплетениях становления его смысла. Ну, как бы прошлое есть нечто, чему я должен помочь разрешиться. Это – одно прошлое. И это прошлое есть то, которое временили. Zeitet. Я говорил вам: труд жизни, или впечатление. Впечатление – вся категория восприятий, отношение к которой должно быть у человека следующее: нужно временить. То есть ждать и не разрешать никаким действием. Так же как мы, например, можем временить наше страдание от гибели близкого человека – друга, жены, матери и т д. Ведь, вглядитесь, что там происходит… Это – продуктивное страдание в том случае, если оно ничем не может быть заменено. Ему нельзя ничем помочь. И его нельзя ни в чем разрешить. Пруст все время говорит, что он никогда не находил удовлетворения в практическом удовольствии; все действительные вещи должны быть убраны из практики[188 - См.:T.R. – p. 877, 871; Centenaire de Marcel Proust – p. 61 (lettre a la rincesse Bibesco).]. Он имел в виду – что человек всегда спешит какое-то возникшее в нем состояние разрешить каким-то действием. Но, говорит Пруст, есть состояния неразрешимые[189 - См.:T.R. – p. 1046 – 1047.]. Например, состояние страдания неразрешимо. Страдающему нельзя помочь; поэтому в нашем обыденном языке мы говорим: время поможет. Время поможет в том случае, если он стоял внутри страдания и ничем не пытался его заменить или разрешить. Он временил. Все, что не временилось, будет забыто. Уже в другом смысле слова. А то прошлое, которое потом будет разрешено, это только то прошлое, которое временилось. То есть внутри которого мы в недеянии стояли. Без недеяния, с точки зрения Пруста, – то есть то, как он видит организацию нашей душевной и духовной психологической жизни, – нет структур. А есть чисто реактивная вплетенность человека в бесконечное сплетение причин и действий.
ЛЕКЦИЯ 11
15.05.1984
Мы остановились на проблеме впечатления или особого рода какого-то восприятия. Естественно, что слова «впечатление», «восприятие» или «импрессия» связаны в наших головах с привычными ассоциациями, которые навеяны критической литературой об импрессионизме, о модернизме, о современном романе и т д. Вы знаете, что в этой литературе слово «впечатление» всегда идет в контексте: мимолетное мгновение, которое сейчас и которое нужно ловить. Имеются в виду мгновения нашей психологической жизни или нашего восприятия. Имеется в виду какая-то внутренняя субъективная игра воображения, связанная с этими мгновениями, психические ассоциации, которые развертываются, завязываются у человека. Поток сознания и т д. Все те слова, которые я сейчас сказал, никакого отношения к делу не имеют. На самом деле жизненная задача Пруста стала жизненной задачей многих художников в XX веке. Ее я определял так: если в XX веке общества смещались к рабству, то художники смещались к героическому искусству. Вот такой был разрыв между одним и другим. То есть художники смещались к героическому искусству именно потому, что что-то происходило в обществе, что они воспринимали как закат или угрозу свободе, и им ничего не оставалось, как попытаться быть героями. Я сказал «герои». Вы, конечно, сразу вкладываете в это психологический смысл, который, безусловно, здесь есть, но я имею в виду другое. Более глубокий, философский смысл. В философии героем называется человек, который полностью присутствует здесь и сейчас. Или – человек совершенный, который одновременен себе во всех своих частях. (Дело в том, что психологический, эмпирический человек не одновременен самому себе: одна нога или один палец у него – в одном месте, а другой палец или другая нога – в другом месте. В действительности он разорван во времени и в пространстве и почти что никогда не присутствует там, где нужно присутствовать целиком.) В греческой философии такой героизм всегда обозначался символом стояния. То есть символом вертикального человека. Не того, который по горизонтали рассыпан по точкам пространства и времени, а того, который собран. Полностью собран. Что совсем не просто. Есть такая очень старая философская притча. Ею часто пользовались для того, чтобы объяснить, что такое философия. Солон (древнегреческий оратор) как-то встретился с Крезом, с одним из сказочно богатых царей древности, и Крез, ощущая сам себя очень счастливым, потому что он был богат, владел царством, спросил, будучи уверен, что сам-то он счастлив, у Солона, встречал ли он когда-нибудь счастливого человека, и что такое счастье? На это Солон ответил, что ни один человек не может сказать, что он счастлив, пока он жив. Солон имел в виду, что человек не весь присутствует в человеке. Он распростерт по более широкому пространству, и ты никогда не знаешь, когда и где на выставленную тобой ногу или руку кто наступит. К этому греки добавляли такую байку: во время Олимпийских игр два брата победили в соревнованиях колесниц. А для греков победа такого рода всегда сопровождалась словом «ореол». Не случайно потом этот ореол перекочевал в икону – в изображение. Ореол – какой-то круг, внутри которого человек полностью собран, круг, который охватывает или вбирает в себя человека целиком и завершает его. Человек полон и завершен (вспомните еще и толстовскую проблему о завершенности смысла: это не пояснение, а просто, чтобы ваша мысль скакала в разные стороны, и так она вернее будет тянуть нить нашей жизни). И вот два брата увенчаны ореолом. Они свершились. И на вершине своей славы, утомленные подвигом, они заснули. И пока они спали, их мать взмолилась, чтобы во время сна, – пока они не вышли из своего ореола, который их замкнул, – Бог их взял к себе. И Бог внял молитве матери, и они ушли из жизни. Иными словами, здесь символ смерти есть указание на нечто, что невозможно, пока мы живы, но что свершается в какой-то момент, называемый смертью. Но когда мы мертвы, мы не обладаем тем, чем мы обладаем, когда мы умираем. То есть мы завершаемся, когда умираем, умерли, а будучи мертвыми, мы этого не имеем. К тому же мы не знаем, когда умрем. И поэтому – обратный отсвет смерти (в этом смысле, не в психологическом смысле – что я хочу умереть; как часто упрекают экзистенциалистов в XX веке, что они больны манией смерти и т д., это все ерунда; тот, кто так говорит, не понимает, о чем идет речь). Дело в том, что обратный отсвет этой смерти сюда собирает нашу жизнь в той мере, в какой мы ее можем собрать. Значит, героическое совершенство, как видите, непростая вещь. Оно есть явление человеческой зрелости, или акмэ, как говорили греки, но его нельзя ни продлить, ни повторить. Таково разъяснение слова, которое я употребил в обороте «героическое искусство». Оно означает, что люди хотели средствами своего искусства быть, присутствовать полностью и целиком там, где речь шла об их жизни и об их судьбе, и не быть рабами рассеянного состояния.
Еще одно пояснение. Мы говорили об этическом или гражданском смысле тех абстрактных и, казалось бы, философских или эстетических рассуждений, которым предавались в прошлый раз. Как видите, нет у меня различия между этикой и эстетикой, между философией и эстетикой и т д. Мы установили, повторяю, этический, гражданский смысл наших рассуждений, или – метафизический смысл наших рассуждений. И тем самым мы уперлись в проблему свободы и гуманизма. А вы знаете, что ту разновидность искусства, к которой принадлежат Пруст, Джойс, Вирджиния Вулф и т д., обычно упрекают в том, что она отказалась от идеалов гуманизма. Или разочаровалась в них, считая их невозможными, или отказалась от них. Да, конечно, произошел отказ от традиционного гуманизма, то есть от традиционного образа человека как такого существа, которое следует каким-то высоким нормам и идеалам. Но это произошло по причине глубокого осознания, что в действительности человек человечен не путем следования идеалам и нормам, что норма или идеал, в той мере, в какой они выполняются, – потому что человек им подчиняется как чему-то, что приходит ему извне (скажем, нормы культуры), – тоненькая пленочка на вулкане, который очень легко может ее (пленку) разорвать. Об этом еще Ницше предупреждал европейскую культуру в конце XIX века. Это предупреждение осталось в силе и в XX веке. Что имелось в виду? А то, что если человек полый, то есть пустой внутри, и не из его корня, вот того, который я назвал невербальным корнем испытания, – если не из невербального корня выросли идеалы, то этим идеалам грош цена и они рухнут в бездну распада и хаоса. Как и случилось – была первая мировая война, потом вторая. Следовательно, человек оказался проблемой в этом смысле слова. А мы установили – даже просто анализируя восприятие, или то, что я условно называл топологией того, что мы можем видеть, понимать и т д.; точка, к которой нельзя прийти, в нее ничего не входит и т д., все эти квазиученые слова, – что в познании испытания или впечатления нет «царского пути». Никто никаким положением не избавлен от необходимости самому понимать, страдать, любить, ненавидеть и т д. А если так, то страдание, любовь, ненависть и т д. подчиняются определенным законам, которые мы, как неумолимую орбиту, должны проходить. И поэтому тот путь, который выбрали художники, в том числе Пруст, можно назвать так: он не есть антигуманистический путь, он – путь восстановления действительного облика возрожденческого человека. Человека, который – один на один с миром и который должен проделать испытание, для которого нет никаких внешних гарантий. И это испытание представляет уникальную ценность. Это испытание я называл внутренним словом или внутренним корнем. Оно (испытание) имеет уникальную ценность, или бесконечную ценность. (Кант называл это бесконечной ценностью морального лица. А лицо ведь – только мое или ваше. Нет лиц, заданных нормой, идеалом и т д.)
Так вот, этот путь будем называть так: путь индивидуальной метафизики. Или путь индивидуальной этики. Я сказал: этический, гражданский смысл мы выявили – это есть путь индивидуальной метафизики. То есть путь такого испытания мира, чтобы в этом мире был возможен «я» как самостоятельная, автономная инстанция. Как лицо. Это есть метафизика. Метафизический акт – каков мир и каким должен быть мир и какова реальность, чтобы в этом мире был «я» с этой моей претензией. С этим моим требованием. С этим моим испытанием. Уникальным и невербальным. От этого никто никого не может избавить. Напомню вам человека, глубоко родственного Прусту по типу испытания по типу мучения и проблемы, которую он решал средствами искусства, – это французский актер и режиссер, известный, скорее, как «теоретик» театра, Антонен Арто, который начал – то, что начал, – в 1922 году, а в этом году как раз умер Пруст. И я бы сказал, что, по моему глубокому убеждению и ощущению (хотя то, что я сейчас скажу, не претендует ни на какую филологическую или литературоведческую точность), в момент, когда умер Пруст, душа его переселилась в совершенно другого человека – в Арто, и совершенно в другом материале все то же самое проделывалось заново. То есть тот же самый внутренний метафизический поиск. Арто, как вы знаете, был теоретиком так называемого метафизического театра, или алхимического театра. И сейчас я просто поясню термин «алхимический театр». Я говорил, что текст есть нечто такое, внутри которого рождается личность того, кто этот текст создает. А чем занималась алхимия? Вы знаете, что она занималась поисками философского камня. Или философского золота, которое должно было рождаться какими-то трансмутациями. У алхимиков символы, то есть названия металлов и все химические операции в действительности были символами внутренней жизни и трансформации в ней. Они пытались рождать что-то в своих душах путем совершенно материальных построений. В случае алхимиков – химических, а в данном случае мы имеем в виду более широкое, принципиальное отношение к тексту вообще. Текст есть нечто такое, что может породить искомый философский камень. Именно текст порождает. А для Арто театр был машиной, которая своими сцеплениями, своей организацией должна была породить особое качество души. Или особое состояние души. Поэтому он называл театр алхимическим театром. Или метафизическим театром. И вот Арто – внутренне – то же испытание и тот же запрос к миру, как у Пруста, а внешне он связан с сюрреализмом, с Бретоном. Он участвовал в сюрреалистических манифестах 20-х годов начиная с 1924 года. Он с ними то сближался, то порывал. Сюрреалисты тоже были участниками того, что я называл героическим искусством, но в силу социального темперамента тех конкретных лиц, которые создавали это движение, прежде всего Андрэ Бретона (он всегда был болен тем, что можно назвать соблазном революционности или соблазном социальных преобразований; и разрыв между Арто и Бретоном произошел, кстати, по этому пункту), они обычно выясняли свои отношения путем манифестов. Отлучали друг друга от школы, то есть от этого движения, потом мирились шумно, опять же путем манифестов, под которыми подписывались (было очень модно подписывать манифесты в начале века). И Бретон в манифесте, в котором Арто отлучался от сюрреализма, употребил характерное выражение, что Арто пытается подменить революцию идеей преобразования внутреннего человеческого существа. Или человеческой личности (l'кtre – французское – означает и бытие, и человеческое отдельное существо, по-русски мы можем сказать: личность). Обратите внимание на словосочетание: преобразование самого себя или внутреннее преобразование человека (в отличие от преобразования массового социального бытия). Арто ему ответил так: «Что мне вся эта ваша революция в мире, если я знаю, что я останусь раненым и несчастным в самой сердцевине моей мясорубки?[190 - Artaud, Antonin. L'Ombilic des Limbes. Gallimard, 1968. (A la grande nuit ou Le bluff surrealiste).]. Арто сказал то, о чем мы уже говорили: что, как бы ни устроилось вокруг, нет «царского пути». Никто, ничто вне нас не избавит тебя от необходимости – какой? – помните, неумолимая воля Альбертины, или точка, в которой мы сталкиваемся, – страдать, любить, самому понимать. И – на чем был Арто «зациклен», – что ведь мысль, понимание нужно «рожать», а это почти что невозможно. Арто это испытывал как «мясорубку». Психический режим нашей жизни или нашего сознания работает так, что он не может произвести мысль. И точка, в которой мысль производится (я уже ее вам описывал), обладает одним свойством: она – то приходит, то уходит. И – как она приходит и уходит – неизвестно. Пруст улавливал ее через то, что он называл впечатлениями. Но он тут же признавался, что это есть действительное «я», или внутреннее, подлинное «я», которое мы фактически (прошлым нашим рассуждением) лишили психологических свойств и назвали, выделили какое-то бессубъектное сознание. Мы говорили, что речь идет не об ассоциациях во впечатлениях, а об испытании, и там нет субъекта, который что-то внутри ассоциации понимает и актами понимания связывает нечто в такую связь, которую мы называем ассоциацией. Там этого нет. Там события происходят. Мы не можем этому приписать субъекта в смысле классической психологии. Это некоторое сознание, и в то же время оно без меня, то есть без моего психологического «я», – если я действительно что-то испытываю и понимаю, то только тогда, когда оно присутствует. Например, в случае Пруста – когда оно было, только тогда он действительно пережил смерть бабушки, любимого существа. Действительно испытал – все остальное было знанием о том, что бабушка умерла. И там потрясающее не только описание, великолепное по своим литературным качествам, там настоящий анализ того, как может случаться в мире, чтобы мне что-нибудь действительно пережить. Не названием назвать – бабушка умерла, а пережить смерть бабушки. Разные вещи. Я вам говорил в свое время, что в тех явлениях, которыми мы занимаемся, одним и тем же словом называются разные вещи. Слово – одно, а вещь сама, то есть сознание или переживание, может быть, а может не быть. Может быть ее вербальная копия, и нет самого сознания. А когда есть само сознание? Когда есть какое-то «я», которое мы не знаем, некое бессубъектное, – тогда Пруст говорит о нем: что это за существо, вот то мое «я», которое, когда оно было, тогда я и пережил, понял, что бабушка умерла. Действительно испытал эту любовную связь, называемую переживанием смерти бабушки, то есть человека, которого любишь. Так вот, что это за существо? Я ничего о нем не знаю. И знаю только одно, что оно интермитентно[191 - S.G. – p. 756.]. То есть оно прерывисто. Иными словами, оно появляется, потом – пространство и время, в которых его нет, потом снова появляется, и весь вопрос в том, что если «я» есть, то есть я понимаю, испытываю полностью, или героически, если угодно, тогда, когда оно есть, то где же гарантии, на чем основано его появление или исчезновение? Для Арто такой проблемой была мысль[192 - См.: Artaud, Antonin. L'Ombilic des Limbes. (letres б Jacques Riviere)]. Он имел в виду, что по психическим законам организованный поток наших деяний, нашего сознания и т д. работает в таком режиме, в котором появление упорядоченной мысли маловероятно. И если она появляется, то я не знаю законов, по которым я могу ее сам «рожать» в следующий момент и контролировать. Для него это было мукой мысли. И кстати, театр был одной из машин, которая должна была быть организована и построена так, чтобы с большей вероятностью рождать состояния, называемые мыслью. (Я ясно выражаюсь? Не очень, да? Хотя слова я употребляю простые, но понимаю, конечно, что это ухватить сложно. На это я могу ответить только так: понять то, что я говорю, можно лишь при условии, которое я уже ввел, – что вы сами это испытаете. Понять, что такое мысль, а я это описываю снова, можно, только если сами будете мыслить. Сами будете мыслить, и тогда все станет на место и будет понятно.) …Так вот, от этого нас никто не может избавить. Более того, когда человек говорит такую вещь, а я говорю это вслед за Арто (Пруст тоже не любил идеологические романы), то одновременно он отдает себе отчет и в механизме, который стоит за обликом революционера. Я его выражу так. Ведь вся проблема того, что я называю мужеством невозможного или героизмом состоит в том, что, что бы ни было, независимо от времени и места, я могу. Такой взгляд на мир предполагает, конечно, что человек принял фундаментальное одиночество, которое в этом имплицировано. Потому что в этом всякий человек один. Я должен вам сказать, что есть глубокая философская истина в следующем утверждении: действительная человеческая связь возможна только между одинокими людьми. Все остальные больше разобщены, чем им кажется. (Непонятно? А вы покрутите у себя в голове и приложите к своему опыту. Только предупреждаю: то, что я сказал, доказуемо.) Арто прекрасно понимал, и Пруст прекрасно понимал, – и поэтому они избежали соблазна социальности, – что отказ от идеи «я могу» находится на пути к какой-то успокоительной или утешительной иллюзии. Ведь связывать себя с преобразованием общества так, что если общество преобразовано, то я буду хорошим, означает, что я не могу жить в мире, потому что не имеет смысла мне одному быть высоким. Я могу быть высоким, только если все будет высоким вокруг меня. Вот пафос революционера. Почему они преобразуют общество? По одной простой причине: они боятся быть одними – такими, кого можно было бы назвать человеком. Механизм здесь тот же самый, что у Пруста, когда он описывает весь архетип своей любовной жизни, когда рассказывает о поцелуе матери. Схема простая: не могу быть один[193 - S.G. – p. 756.См.: S.G. – p. 733; p. 787.]. А это есть чувство, от которого Пруст избавляется путем целого романа. Избавляется, чтобы смочь быть одному. А когда человек боится, ему нужны успокоения и утешения. И тогда высокие социальные идеалы и мечты о лучшем обществе и есть это утешение и успокоение. Вот весь комплекс революционерства (в том смысле, в каком я говорил). И он для нас является обходом очень простой проблемы: я – здесь, в этой точке, и здесь и теперь мне нужно соединиться с самим собой. И с самим собой я соединяюсь, разрабатывая или прорабатывая впечатления.
И когда Пруст занимается впечатлениями, он занимается не мгновенными ощущениями, не ловит мгновения, не углубляется в свой собственный мир, не предается коллективной игре воображения, а ищет реальность, имея в виду, что все то, что вырастает из нас самих, кует нам цепи рабства, но эти цепи можно разбить, если понять, что они выросли из нас самих, а не из мира. Я пока делаю предупреждение о том, как нам нужно понимать само место проблемы впечатления. Впечатление от колокольни, от деревьев, от пирожного «мадлен» и т д., – вы знаете, что мы под «впечатлением» всегда имеем в виду какое-то непосредственное ощущение, непосредственное чувство. Оно мгновенно, и кто-то может захотеть этим впечатлениям предаваться… Так вот, Пруст пишет в письме (1912 г.): «…ничто не является для меня более чуждым, чем искать в непосредственном ощущении (а казалось бы, что более непосредственно, чем то, что мы назвали впечатлением), и тем более в материальной его реализации (если я ищу непосредственного мгновенного ощущения, то я тут же осуществляю материальную реализацию – я наслаждаюсь), присутствие счастья. Любое ощущение, каким бы бескорыстным оно ни было (у нас есть корыстные ощущения, связанные с нашими аппетитами к еде или сексуальными аппетитами и т д., а есть «высшие» ощущения – я наслаждаюсь запахом розы, я ведь не могу ее сожрать), запах, ясный луч света, если они присутствуют, то я чувствую, что они слишком еще находятся в моей власти, чтобы быть мне счастливым»[194 - См.: Centenaire de Marcel Proust, p. 61 (lettre б la princesse Bibesco).]. Повторяю, присутствующее ощущение не может быть тем источником, о котором мы говорим, потому что, пока оно присутствует, оно еще от нас зависит (помните, я говорил вам: независимо от нас запечатленное и т д.) в том смысле, что мы же им пользуемся. Когда запах розы присутствует, он от нас зависит в том смысле, что мы наслаждаемся запахом розы. Или пирожное «мадлен» присутствует тем, что я чувствую, наслаждаюсь вкусом пирожного, и именно присутствие этого вкуса никогда не откроет ворота для воспоминаний, которые заложены в этом пирожном. Оно стоит на дороге этих воспоминаний. Пока это пирожное «мадлен» в моей власти, то есть во власти моего использования этого пирожного путем поедания и наслаждения вкусом, я еще не имею счастья. «Но когда одно ощущение напоминает другое, когда я их испытываю между (опять слово „между“) настоящим и прошлым (весь роман о прошлом, казалось бы, а вот видите, как опасны слова и как важно понимать; потому что понимать можно, только понимая, а все иное не есть понимание; и вот, оказывается, нет никаких непосредственных ощущений и нет никакого прошлого, то есть не о том, что мы имеем в виду под прошлым, идет речь)». Пруст писал письмо принцессе Бибеско и поэтому в скобках сказал, что здесь невозможно разъяснить, почему «не в прошлом», а «между». Когда между прошлым и настоящим, тогда «я могу испытать счастье… Если я не перестаю желать, то я могу сказать, что я никогда не надеюсь при этом». Опять другой тип стояния. Героическое стояние – в отличие от революционных требований к миру. Революционеры надеются, а в нашем мире, в котором мы ходим, – в мире метафизического мужества, или мужества невозможного, – нет надежды. А есть только одно – найти или постоянно воспроизводить в себе основу, или, как я говорил в случае Арто, – машину – чего? вечности желания. Или самовозобновления состояний, в которых ты что-то понял, полностью испытал, был счастлив или несчастлив, – через несчастья тоже можно что-то узнавать. Поэтому все действенные состояния, то есть реализованные, сами себя исчерпывают, в отличие от тех состояний, которые ищет Пруст, – в которых состояние возобновляет причину своего собственного появления. Речь идет здесь о бесконечных или вечных впечатлениях, которые повторяются. И вот это повторение есть ритм скрытой жизни реальности. (Не той реальности, которую мы видим нашими глазами, в которой делания исчерпываются с удовлетворением желания. Реализуются практически и тем самым исчерпываются.)
Прустовский роман («Под сенью девушек в цвету») получил сразу же после войны Гонкуровскую премию – тогда, пожалуй, самую престижную во Франции. Хотя первый том практически был напечатан Прустом за свой собственный счет в издательстве Грассе, и этот первый том был отвергнут издательством Галлимар, в котором потом уже Пруст будет печататься. Эти возникшие недоразумения были связаны с темой впечатлений или мгновенных ощущений, они были связаны с тем, что роман написан от первого лица. Конечно, все восприняли роман как исследование автором самого себя – как конкретного психологического «я», нечто вроде биографии, мемуаров и пр. Но это ничего общего не имеет с замыслом Пруста. Так же, как под впечатлением он не имел в виду мгновенных психологических состояний, так и под «я» он не имел в виду «исследование» – в отвратительном смысле «копания» в самом себе, как говорит Пруст[195 - См.: S.B. – p. 640. T.R. – p. 1041.]. У него не могло быть мемуаров, потому что он прекрасно понимал, что если мы пишем мемуары, то есть рассказываем о конкретных событиях, и к этим событиям слишком близки (мы ими наслаждаемся, применяем себе на пользу или страдаем), то мы не можем найти истину по одной простой причине: мы свободны от композиции, от фиктивной конструкции. А фиктивная конструкция есть единственное, что в своем пространстве может родить истину и смысл. То есть сильная композиция как бы вытягивает из куска мяса, пронизываемого мгновенными ощущениями, наслаждениями, радостью, огорчениями, конкретными событиями, которые мы все практически используем, вырывает из этого куска мяса, который сам, по режиму психического своего функционирования, ничего не может родить, – вырывает из него истину и смысл. И поэтому, чтобы понять, что с нами происходит, не мемуары нужно писать, а нужно врать. То есть иметь фиктивную композицию романа, структуру или сильную форму. Пруст говорил о кафедрале, о соборе[196 - См.: S.B. – p. 89, 141. T.R. – p. 1040, p. 1044 – 1045.]. Собор как нечто, что внутри себя рождает историю (собор ведь не есть изображение чего-то). Короче говоря (я добавляю это к проблеме героического искусства или того, что артисты, художники смещались к героизму тогда, когда общества смещались к рабству), художники поняли, что произведение есть что-то, что не описывает нечто вне самого себя, являясь, словами Пруста, тогда бессмысленным дублем реальной жизни[197 - См.: T.R. – p. 874, 871; S.B. – p. 418.]. И тогда действительно разумны слова Паскаля. Вы знаете, очевидно, он говорил, иронически, о живописцах так: «Почему-то принято придавать какое-то значение в живописи изображению лица, которое не имеет никакого значения»[198 - См.: Pascal. Pensees. Misere de l'Homme, p. 1121.]. Так вот, для Пруста искусство не таково – оно не есть описание чего-то. Значит, художники поняли, что – я называл это сначала композицией или сильной формой – произведение есть такой объект, который не есть реплика или зеркало других объектов. Он сам рождает в себе свои собственные содержания, в том числе рождает и в человеке, который пишет это произведение или его понимает и воспринимает, поскольку оно совпало с его личным опытом. Оно дает ему машину производства смысла. И эта машина смысла, мы теперь понимаем, находится в отрыве от непосредственности наших впечатлений и от практических реализаций. Пруст говорил так: «…я как бы никогда не испытываю, не переживаю нечто в мгновение самого переживания. Чтобы мне пережить объект, мне нужно с ним расстаться»[199 - См.: Centenaire de Marcel Proust, p. 67 (lettre б madame Catusse).]. Так же, как цветы Бальбека, цветы юности, Пруст переживает в Париже – в другом месте и в другое время. Уже взрослым человеком. Любить одно в другом, и не тогда, когда это непосредственно с тобой, – таков путь поиска смысла впечатлений у Пруста. И кстати, то, что я сейчас сказал: понимать – после того как что-то произошло, и любить, и испытывать, когда уже объекта самого нет, то есть воссоздавать в своем сердце, – Пруст делает это предупреждение в письмах[200 - C.G. – p. 92.]. Короче говоря, как всякий творческий человек, Пруст столкнулся с тем, что его творческий труд сразу же породил культурную тень, или культурный эквивалент его самого, который заслонил и исказил смысл самого труда. (Такой странный, обидный, конечно, закон. Это случилось почти что со всеми мыслителями и художниками. Ну, например, это случилось с Кантом в истории философии. Стоило человеку сделать что-то, как мгновенно появился расхожий культурный эквивалент философии Канта, который ничего общего с кантовской философией на самом деле не имеет. Он рождался буквально при жизни Канта. Так же как при жизни Пруста возник расхожий дубликат, или эквивалент, его романа.)
Следовательно, когда мы занимаемся проблемой впечатления, нам нужно представить себе следующую картину. Со словом «впечатление» у Пруста чаще всего связано следующее слово: dislocation – дислокация (или разрыв), которое можно описать так. Все наши впечатления длятся во времени. Это время может быть минимальным, но впечатления все равно длятся. То есть одно впечатление переходит в другой момент времени самого себя. Оно – длится. А то, что Пруст называет впечатлениями – они не переходят в следующий момент времени и вызывают разрыв временной. Скажем, впечатление от колоколен – та необъяснимая радость, которая вызвана видом колоколен, – она не переходит в следующий вид или в следующее впечатление о колокольнях. Следующее появление колоколен не имеет ничего общего с состоянием самого впечатления. Выразимся так (и тем самым введем понятие времени) – впечатление есть такая вещь, в которой я – испытывающий впечатление – ввожу различение между мной, который ищет смысл впечатления или хочет понять его, и мною, который испытывает это впечатление. Повторяю, есть различие между испытывающим «я» и понимающим или пытающимся понять «я». То есть я не совпадаю со своим собственным состоянием. Это ясно? Да? Если я думаю об ощущении или сознаю ощущение, то «я» не есть это ощущение. Я отличил себя – от чего? – от самого себя. А что такое время? Простое интуитивное определение времени как такового: время есть отличие предмета от самого себя. А пространство есть отличие одного предмета от другого предмета. Повторяю, пространство есть различенность предметов, а время есть отличие предмета от самого себя. То есть единственное, что отличает предмет от самого себя, есть время (в этом случае – когда мы в чистом виде это понятие выделяем; предельное различие, минимальное – это отличие его от самого себя). (Предметы в пространстве могут отличаться многими свойствами друг от друга. Но различие как таковое их друг от друга есть пространство. То, как они, не употребляя никаких других свойств, отличны друг от друга, – это есть их расположение, или есть пространство. Они занимают разные точки в пространстве – разные предметы.) Так вот, я отличил себя от состояния – это есть время. И это отличие не входит в следующий момент моего же длящегося состояния. Скажем, я продолжаю видеть колокольню. «Я» как ищущий смысл (или состояние, взятое со стороны своего временного различия) не совпадает с состоянием самого этого переживания или впечатления в следующий момент времени. Оно не перетекает в него и вызывает то, что Пруст называет дислокацией, или разрывом. И рождает как раз тот промежуток, который между. Между, как я говорил, прошлым и настоящим. Такая дислокация может быть между – вот какое-то прошлое воспоминание одного и того же предмета наслаивается на сегодняшний его вид, и они не совпадают – то есть прошлое воспоминание не имеет того окружения предметов, которое имеет сегодняшнее восприятие. Оно не может с ними соединиться и тем самым вырывает восприятие из контекста. Значит, каждый раз мы имеем дело с вырванными из контекста ощущениями. Ну, скажем, когда я иду (вслед за Прустом) по мощеному двору дворца Германтов и при этом неровность плит возрождает в моем сознании (живыми запахами, звуками) Венецию, потому что там я когда-то споткнулся о неровности площади у собора святого Марка, то ясно, что я иду не по двору Германтов. То есть последовательность хождения, или впечатление хождения, не разорвана. Акт хождения не вкладывается в самого же себя в следующий момент времени, это – дислокация. Такого рода впечатлениями могут быть любые. Такая дислокация возможна. Скажем, Альбертина говорит мне что-то – но независимо от содержания говоримого, то есть какого-то рационально организованного сообщения, которое адресует мне Альбертина, у меня есть впечатление от качества ее голоса и от того, что она покраснела. Чтобы вам было понятно, что я имею в виду под впечатлением, которое никакого отношения к фактам пока не имеет, – я могу утверждать, что я ведь, будучи юношей, ничего не знал реально о том, что происходит в обществе, более того, я, конечно, не знал, как оно устроено, но я чувствовал только одно, что язык газеты не может быть языком действительности. У него было качество – чего? Не по содержанию – я в содержании не мог ничего понимать, ничего не знал, я не знал противоположных фактов, у меня были какие-то другие впечатления – качество языка было для меня впечатлением. То есть – тем, что потом повторялось как мотив, потому что магически на меня действовало: вызывало во мне ясное сознание, что таким языком правды не изъяснишь, и в то же время требовало продумывания, то есть имело внутри себя будущую историю или свое время. Не время моей эмпирической жизни и хаоса ее впечатлений, а время, условно скажем так, своего мотива. Или – внутреннее время мотива. Повторяющегося, или имеющего ритм. Ведь те впечатления, на которых Пруст застрял в какой-то момент времени, – они, подминая под себя его реальную жизнь, повторяются своими связками в его последующей жизни. Как запах уборной, – он повторяется сценой комнаты «женщины в розовом», потом это повторяется реальным переживанием любви Свана и Одетт и т д…
Следовательно, впечатление может быть не только от колоколен, пирожного и т д., оно может быть и идейным, или идеологическим. Мы в любых областях можем испытывать нечто, называемое впечатлением. Нечто, что вызывает в нас такую дислокацию, – то есть впечатлению не находится места в содержании самого же впечатления, в содержании ощущения, которое я продолжаю испытывать, и оно подвисает. Где-то. И оно как раз предполагает, что я ничем его не разрешаю. Я остаюсь при нем: не пытаюсь на его место поставить знание, не пытаюсь, скажем, заменить страдание от смерти любимого человека мыслью о том, что можно любить и других людей. И мне кто-нибудь скажет – зачем же ты страдаешь, ведь, во-первых, полюбишь другого, или, если я раскаиваюсь в каком-то поступке, он мне скажет – ведь прошлое нельзя сделать небывшим, поэтому твое раскаяние бессмысленно… А в действительности вся проблема организации нашей душевной жизни состоит в том, чтобы остаться в «недеянии», как я говорил. То есть никак не разрешать переживания. Наши реакции, реактивные наши состояния толкают нас на то, чтобы разрешать как-то. Ну, скажем, убили друга, я мщу, убивая обидчика. Или, скажем, убили солдата, значит, можно сжечь деревню, в которой его убили якобы из-за угла или не по правилам. Это есть якобы переживание смерти друга. И вот есть две разные вещи: переживание смерти друга, в котором ты застрял, то, что я называл трудом жизни, и есть реактивное разрешение: зачеркивание самого переживания путем действия, в котором якобы это переживание реализуется. Эти действия могут быть любыми. В войне, скажем, действие мести. И там никогда человек не узнает смысла. То есть он никогда не увидит ни себя, ни своего врага с обеих сторон тела. И он никогда не поймет судьбы и будет игрушкой реакций, реактивных состояний. А если амплифицировать эти состояния, которые есть у десяти, у двадцати, у ста субъектов, то мы получим в масштабе общества целую фашистскую истерику, которую мы могли видеть в 30-е годы. Значит, мы получаем крупные, глобальные общественные явления. Из чего? Из механизмов индивидуальной психологии или индивидуальной метафизики. Психология – когда мы не проделали метафизической работы. А метафизическая работа в данном случае есть работа труда жизни: ты стоишь на месте и ничем не заменяешь состояния или впечатления. Пруст говорит, что он всегда избегал материальной реализации впечатлений. Он понимал, что если прервать движение впечатления другим каким-то движением, то там разовьется совершенно другая судьба. И другие нити. В том числе нити рабства. Кстати, прерванные движения могут быть патогенными. Я уже в случае общественном говорил, что они могут быть патогенными. То есть могут развязать глобальные социальные явления. Но и в психической жизни как раз те вещи, в которых мы не временили смысл, сомкнувшись с объектом, – он прервал состояние, разрешив его, – могут, уложившись в глубины нашей души, оказаться патогенными и рождать в последующем, актуализируясь, болезни.
Теперь точка того, что я раньше назвал трудом жизни, то есть каким-то прямым ударом истины, внутри которого я должен держаться (держа этот удар) и ни в чем его не растворять, что, конечно, предполагает определенное мужество, – эта точка обрела еще другие характеристики, связанные с впечатлением. Нам нужно представить эту точку как бы подвешенной. Ведь что такое – труд жизни? Труд жизни есть некоторое состояние дления, при котором ничего не происходит. Некоторый внутренний акт, который не имеет никаких продуктов. Мы как бы ждем. Греки называли такое состояние известным вам словом «апория», но оно сейчас для вас – его контекст – может быть неожиданным, и контекст этот раскрывает этимологический смысл этого слова. Апория – какая-то логически противоречивая ситуация, скажем, – суждений, мыслей. А в действительности, этимологически, апория означает у греков непроходимое место. И с этим непроходимым местом они связывали другое гениальное слово, называемое «амехания». Это полный эквивалент восточному термину недеяния. И все герои греческих трагедий всегда оказываются в состоянии амехании, когда нельзя впасть в сцепления, то есть когда нельзя делать ни того, ни другого. Все сцепилось так, что и там есть истина, и здесь есть истина, и там попадешь в сцепление какого-то реактивного механизма, и здесь попадешь в него, и ничего другого не дано. И можно только ждать. Это – амехания. И это есть одна из разновидностей полного и завершенного состояния. Зрелости. Амехания у греков всегда была связана и с акмэ. То есть с периодом человеческой зрелости, или взрослости. В отличие от инфантильности, о которой я говорил. Инфантилизм оказался целым мировоззрением – мир для инфантильного человека состоит из злых и хороших предметов. Одни все время в заговоре против меня, а другие должны меня по головке гладить. И по какую сторону Пиренеев больше любят русского человека… Или как если бы наш герой Марсель спрашивал, по какую сторону калитки Комбре больше его любят. А он ставит другой вопрос, вцепившись в впечатление, он ставит вопрос о смысле. Как ставит его Гамлет, который на все реагирует в амехании, то есть в недеянии, но реагирует – внутренним деянием. Деяние поиска – что это значит? Каков смысл всего этого? И кстати, я должен вам сказать – пример мучения Арто. Это была, действительно, абсолютно безумная фигура (он и в самом деле потом сошел с ума), который реально – на своем теле – пережил состояние, что мысль случайна. И когда она есть, это самое большое чудо, и за нее нужно платить своим телом. То есть этой мыслью должна быть плоть. Я ее должен дать. Французский художник Андрэ Массон, который в свое время был связан с сюрреалистами, и многие книги сюрреалистов выходили с его иллюстрациями, назвал Арто – «наш Гамлет». И действительно, это был реальный, живой – не из книги, реальный Гамлет во французской культуре.
Значит, я напомнил вам амеханию, то есть подвешенное состояние. Некоторая точка вашего пребывания, апория, непроходимая точка – в ней преданы амехании, то есть недеянию. Подвешены. С этой точкой совмещено впечатление. Оно как бы заставило остановиться в этой точке, называемой амеханией или апорией. Подвешенная точка – на которую происходит собирание с разных точек пространства и времени. Вот в этой амехании наш герой собирает в Бальбеке, и в эту же точку собирается с точки Парижа, с точки двора Германтов, где он идет по мостовой, и с точки Венеции. То есть связь различных точек пространства и времени дается не по нашей последовательности – и пространственной, и временной, а они берутся как произвольные точки, соединяемые только по закону этой подвешенной точки. С этой точки я как бы выбираю с разных мест пространства и времени. Это есть ткань. (Кстати, в математике есть очень похожий образ такой выборки точек, когда имеется, скажем, четыре точки, задается какая-то одна точка, выбираются произвольные две из этих четырех, потом из новой точки, которая есть сплав этих трех, снова выбирается и т д. Это необязательный образ, я просто говорю, что такие вещи в математическом воображении проигрываются.) Так вот, дело в том, что мы имеем дело с опытом человека, который на своей шкуре испытал, что то, что происходит в реальности, происходит по законам такого собирания. Движением – не в реальном пространстве и времени – на подвешенную точку (если ты не задержался) наслаиваются выбором из различных, разнородных точек (в том числе из прошлого; что, кстати, не обязательно, – точки могут быть и одновременными). И мы знаем, что такое построение нашей душевной жизни очень деликатно. Фактически ей ничто не гарантирует, чтобы она держалась. Чтобы она вообще была. И вот это есть испытание Антонена Арто. Он знал, что мыслить можно – только подвесившись и выбирая с различных точек, а гарантий для этого нет. Это место, на которое или из которого выбирают, приходит и уходит так же, как прерывистое или перемежающееся «я» у Пруста. Откуда приходит и куда уходит? И Пруст отвечал на вопрос – куда уходит – очень сложно и в то же время просто. Он отвечал на этот вопрос темой непроизвольного всплывания воспоминания. Если я задержался, подвесил свой опыт в амехании, то я могу разобраться в испытанной мной дислокации (в смещении, разрыве), могу пройти в созданный дислокацией разрыв, промежуток разрыва, пройти могу, задержавшись и трудом, и там мне помогают сами непроизвольные воспоминания. В русском языке нет точного перевода французского слова, которое одновременно является и религиозным понятием и религиозным символом, это – grвce, милосердие Божие. Мы вот так напряглись… и там, где нет оснований, иногда нам помогает grвce, Божественное милосердие, а Пруст скажет: grвce, милосердие непроизвольных реминисценций[201 - См.: Centenaire de Marcel Proust, p. 65 (lettre б Rene Blum).].
Да, должен вам сказать, что Пруст для своего романа – и это важно для grвce, потому что я сказал: откуда приходит и куда уходит перемеживающееся «я»… (Мы не можем захватить его в свою собственность и считать, что оно впредь все время будет. Что-то другое в мире должно сделать так, чтобы оно появилось у нас. Ну, ясно, что мы должны поработать. Должны подвеситься в длящемся опыте, то есть в недеянии или в амехании.) Так вот, Пруст колебался между двумя названиями для своего романа. Он выбрал известное вам название «В поисках утраченного времени», и сейчас я коротко вам определю, что значит «утраченное время». Прошлое время (которое является нашей проблемой) – то, что я назвал словом «временили». То, что временилось внутри амехании: задержанного или длящегося, или подвешенного опыта. А потерянное время – это то, которое не временили. Вот, например, действие такое: Гамлет узнал, причем тень ему сказала, – как можно верить тени, когда даже людям нельзя верить, потому что люди являются тенью самих себя, своих собственных мнений или мнений общества, а он поверил тени – и сразу выхватил шпагу и пронзил ею своего отца. Вот эти действия являются потерянным временем, по терминологии Пруста. Он так прямо, конечно, не говорит. Но по смыслу это именно так. То есть время, которое не временили, есть потерянное время. Время, которое временили, тоже уходит в прошлое, может быть забыто и может войти в какие-то предметы, но оно имеет шанс восстановиться в памяти. Всплыть непроизвольно, поскольку мы над ним работали – временили. А вот то, что не временили, будет в аду. Будет вне бытия, или за бытием. И вот, пояснив смысл потерянного времени, я возвращаюсь – Пруст колебался и выбрал название «В поисках утраченного времени». А манило его и другое название: он хотел назвать всю свою эпопею «Интермитенциями сердца». А в итоге только одна главка в одной из частей романа называется «Интермитенции сердца», или – перемежения сердца. Ну, мы понимаем, что «сердце» здесь можно заменить перемежениями бытия, перемежениями «я», или интермитенциями «я», интермитенциями сердца. И вот что пишет Пруст в связи с тем, что нужен некоторый отрыв, или отстранение, от самих себя во времени, которое и есть время. Отстранение от самих себя и есть время в чистом виде. Или время амехании, время недеяния. Или есть время апории, то есть непроходимого места. Отстранение от себя и есть единственный путь, на котором мы что-то в себе и в других можем познать, и оно создает какой-то промежуток – между. Между прошлым и настоящим есть какое-то зияющее между, созданное дислокацией. Или открытое, разверстое дислокацией. Что же в этом «между» нас может держать? И Пруст пишет так: «Я выбрал общее название: В поисках утраченного времени. Эта книга в высшей степени реальная…» Характерный оборот – непосредственное восприятие, которое сразу находит слова, которые кажутся необязательными, но если понимаешь это восприятие, то тогда они точно стоят на месте; итак, эта книга о реальности скрытой, повседневной, то есть о реальной реальности, скажем так. (Дальше в скобках идет очень сложная фраза, но я не виноват в данном случае; она сложна, поскольку в письмах Пруст мог позволить себе такую плохо артикулированную фразу; в романе он позволял себе длинные фразы, но они имеют четкую, фантастическую артикуляцию.) Я повторяю: «Эта книга в высшей степени реальная, но в некоторой мере поддерживаемая в порядке имитации непроизвольной памяти[202 - которая, по-моему, хотя Бергсон не делает этого различения, является единственно верной, поскольку произвольная память (то есть организуемая нашими волевыми и сознательно контролируемыми усилиями; скажем, я вспоминаю то-то, восстанавливаю факты и т д.) ума и глаз дает нам от прошлого только неточные факсимиле, которые не более похожи на реальность, чем картины плохих художников на весну]…»[203 - Ibid.]. Обратите внимание, что имеется в виду не описание весны плохими художниками, а имеется в виду сама весна. Дать саму весну или дать само воспоминание, воспоминаемое событие. Не картину его, а оно само – в собственном лице, собственным существованием, собственной персоной, как выражаются в XX веке феноменологи. Здесь закрывается скобка и дальше идет фраза, из-за которой я привел эту цитату. Теперь опустим скобки, которые нам тоже были полезны, и прочитаем без этого интермеццо скобок: «…в высшей степени реальная книга, поддерживаемая, в порядке подражания непроизвольной памяти, милосердием, корневищем воспоминаний»[204 - Ibid.]. То есть реминисценцией – уложенный корень реминисценций может в порядке милосердия, послав тебе непроизвольное воспоминание, связать то, что для связи своей не имеет гарантированных оснований или само собой отлаженных и работающих механизмов, на которые можно было бы положиться, а самому отвернуться в сторону, лечь поспать… (Так же, как мы сейчас, в XX веке, в нашей стране все спим и думаем, что на летающих тарелочках будут всякие чудеса появляться, – разновидность общественного сновидения. Или когда мы, как дикари, которые своей пляской пытались вызвать дождь, ритуальными плясками пытаемся вызвать обилие продуктов, которые на нас посыпятся.) Значит, у нас есть внутренний корень. Ну, представьте себе – я сказал: «подвешенная точка», наложите ее на образ дерева, у которого есть корень (древний символ), – ведь те законы духовной жизни, которые мы сейчас провозглашаем вслед за Прустом, на опыте Пруста, они гласят, что для подвешенного места точками, выборка которых происходит с этого места, могут быть и моя точка – здесь, и точка «дикаря», несколько другая…
ЛЕКЦИЯ 12
12.05.1984
Мы говорили о том, что есть какая-то внутренняя длительность, или длящееся действие, или вечный акт, скрытый, на основе которого в человеческих существах появляются какие-то состояния или впечатления, вырастая из некоторого корня, который я назвал невербальным корнем испытания и привел вам метафору мирового дерева, воспользовавшись тем, что у самого Пруста эта метафора фактически разъясняется в растительных терминах. В терминах корневища или черенка. И этот черенок обладает странным свойством: внутри производимого им действия нет нашей человеческой последовательности. Той последовательности, которую мы наблюдаем, в которой человек живет, проживает свой срок жизни, потом живет другой человек и т д. Можно сказать, что термины той длительности не есть (я приводил примеры этого в другой связи) термины, конечным образом разрешимые в рамках условий и границ человеческой жизни. И поэтому когда мы говорим «корень» или «мировое дерево», то мы имеем в виду не индивидуальное явление, свойственное человеческой психологии, а что-то такое, для чего как раз и понадобился символ. Например, мирового дерева; оно является символом целого сознательной жизни, вернее – исполнением всей сознательной жизни в некотором совершенстве. И при этом считается, что в реальной человеческой жизни, в жизни отдельной человеческой особи это не случается. Я говорил вам, что в тот момент, когда мы целиком собою владеем, в этот момент мы умираем. То есть, когда совершенство к нам приходит, жизнь от нас уходит. И такого рода состояния (я их называл героическими состояниями, состояниями полного свершения и т д.) нельзя ни повторить, ни продлить. И следовательно, если что-то происходит, то мы находимся не снаружи того, что случилось, – потому что, если бы мы были снаружи, тогда то, что случилось, можно было бы повторить или продлить, – мы находимся внутри. Иначе говоря, мы должны представить весь этот ход сознательной жизни как бы находящимся внутри символа мирового дерева – все пространство, которое занято прорастаниями из некоторого корня этого мирового дерева. И поэтому в принципе можно считать, что я сегодня длю состояние какого-то человека, который жил тысячу лет тому назад (поэтому я приводил пример «дикаря»). Следовательно, мы как бы так должны анализировать наше сознание, в том числе и то, которое проявляется в произведениях искусства, что для нас не должно быть принципиальной разницы между мной и моим состоянием, – я говорил, что время есть отличие предмета от самого себя. Я как сознающий что-то отличаюсь от самого себя, испытывающего то содержание, которое сознается. Например, я что-то ощущаю – но если я ощущаю, то есть сознаю ощущаемое, то я не совпадаю с моим ощущением. И вот этот dйcollage, как говорят французы, или разрыв, и есть время. Ведь что такое время? Время есть предельное отличие (максимум отличия или минимум отличия, как хотите, это одно и то же), минимальное отличие предмета от самого себя. В случае, когда мы занимаемся нашим человеческим «я», это есть отличие «я» от него самого. Но у нас не должно быть принципиальной разницы между отличием меня в этом состоянии – во времени – от меня самого и отличием меня от другого – в другом хронологическом времени он находился, в другом географическом пространстве и т д. Здесь, с точки зрения онтологии или философии, нет принципиальной разницы. Этого рода изменения как бы есть появление другого. Если я изменился, то это есть такой же другой по отношению ко мне, как кто-то другой (оставим это пока в таком полупонятном виде). А реально мы движемся в последовательности. Например, мы наблюдаем шаг за шагом. Одни психологические состояния нашего сознания сменяются другими состояниями. И обычно нам кажется само собой разумеющимся, что мы можем от одного наблюдения, от одного переживания переходить к другому. Например, я наблюдаю цветы в Бальбеке и потом этот же цветок – еще раз наблюдаю. И вот все, что происходит, происходит здесь. Все сомнения Пруста относятся к тому, легко ли на самом деле двигаться в этой последовательности? Значит, если мы изменились, а сознание есть это изменение, – простите, я сейчас немножко перебью сам себя, но я хочу это закрепить и дать вам материал для ваших размышлений. То, что философы называют сознанием, есть сознание изменения склонения. Что-то склоняет нас к чему-то. Ощущение есть склонение. Представьте себе, что мы неудержимо идем по какой-то наклонной плоскости. Наклонная плоскость есть плоскость вынужденного – то есть реактивного (вызванного каким-то действием на нас) – ощущения. Побуждение является склонением (или наклонением). Мы склоняемся к чему-то. А сознание есть сознание изменения этого склонения – тогда мы знаем, что у нас есть сознание. И это есть сознание. Ну, скажем, что называется моральным сознанием? Мы обладаем моральным сознанием тогда, когда обладаем сознанием того, что мы изменили склонение. Скажем, склонение, вызванное пафосом нашей чувственности, – путем какого-то запрета мы это остановили. И вот изменение своего склоняемого состояния – оно не от нас зависит, это мир склоняет нас, – изменение его, изменение склонения и есть сознание. Закрепив это, мы понимаем, что мы никогда не имеем одной мысли. Мы всегда имеем минимум две мысли одновременно. То есть мы имеем склонение и имеем его изменение. Или приостановку, или что угодно. То есть у нас всегда минимум две – назовем и то и другое мыслями – мысли в голове. Но никогда не имеем все одновременно. И вот смотрите, что происходит.
К концу своего романа (это симфония, в которой каждый последующий кусок есть нарастающее собирание жизни) Пруст пишет так: «Я ощущал чувство усталости и ужаса, чувствуя, что все это такое длинное время было без перерыва последовательности мною пережито, помыслено, выделено мною путем секреции (как бы из нас секреция выделяет время, которое мы оставляем позади себя, время, которое мы непрерывно мыслили, осознавали, чувствовали и т д.), и что это время и было моей жизнью (то есть то, которое я секретировал; как панцирные насекомые, которые из своих секреций образуют свой же собственный панцирь и тащат его за собой), было мной, и к тому же я еще каждую минуту должен был держать его при себе (тащить за собой), и оно поддерживало меня, взобравшегося на его головокружительную вершину (представьте… человек на громадных ходулях и попробуйте двигаться на этих ходулях так, чтобы я не мог двинуться, не сдвигая и их)… Дата (хронологическая дата в данном случае), в которой я услышал шум колокольчика садовой калитки в Комбре, такая далекая и тем не менее такая внутренняя, была точкой отсчета этого огромного измерения, которое я в себе не подозревал. У меня закружилась голова, когда я увидел под собой (это измерение, эту пропасть), в себе, как если бы я имел несколько миль высоты (человек, повторяю, на ходулях, только эти ходули как бы скрыты в земле, стоит только осознать это, и у тебя начинается головокружение; и более того, начинается труд, потому что ты тащишь их за собой), такое количество лет»[205 - T.R. – p. 1047.]. То есть годы – измерение этих ходуль. Сейчас я поясню смысл прочитанного (кроме того, что вы непосредственно восприняли, здесь есть много мин, которые взрываются под нашими ногами или в наших руках, если мы действительно понимаем, о чем идет речь). Во-первых, сказано: звук колокольчика, прозвучавшего когда-то, был точкой отсчета целого измерения. Вы можете, в силу того что я сказал перед этим и говорил раньше, заменить этот пример. Представьте себе что-то прозвучавшее или впечатление (звук колокольчика относится к категории впечатлений), что прозвучало тысячу лет тому назад и что в действительности является точкой отсчета и висит над нами так же, как над Прустом висит звук колокольчика, внутри которого движется раскручивание им своего пути. Я говорил, что звук колокольчика означал поцелуй матери. Поцелуй матери символизирует невозможность быть одному, символизирует потребность всего существа быть окутанным или быть в океане все время влажного и всеохватывающего материнского лона. Лоно, влажное, окоем, то есть охват, и я внутри нежусь, защищенный со всех сторон. И, конечно же, Прусту приходилось с этим расправляться, потому что нельзя быть свободным, не освободившись от этого. А чтобы освободится, нужно пройти путь и понять. Значит, путь понимания, путь развития всей сознательной жизни лежит в этом измерении. А я уже сказал, что безразлично – это «я» или другое «я», а может быть, то же самое распятие Христа держит нас внутри своей истории, является точкой отсчета некоторого измерения, которое мы тащим за собой. А теперь попытаемся разъяснять «тащим за собой». Ну, например, я реагирую в комнате отеля на шкаф. Он меня теснит, он уродлив и не дает мне заснуть, потому что кажется враждебным, имеющим собственную жизнь, полную по отношению ко мне каких-то злых намерений. Это моя реакция. Но дело в том, что эта реакция такова, потому что я тащу за собой измерение. Помните, я говорил вам: законы времени нашего восприятия таковы, что, для того чтобы нечто стало источником нашей эмоции, это нечто должно быть внутри нашего временного конуса, то есть должно находиться внутри связных впечатлений, и тогда оно становится источником. Вещи сами по себе не являются источниками наших состояний – они должны стать таковыми. Мне кажется, что я реагирую на качество шкафа, который объективно их имеет, а в действительности это никакого отношения к делу не имеет. Я таков сейчас и так реагирую, потому что я тащу за собой измерение. Я знаю, что я тащу за собой измерение и что дело не в шкафе, а дело в том, что цветы, которые я держу впервые, как бы не являются для меня настоящими цветами. Чтобы цветок на меня подействовал как цветок, он должен отождествиться с цветком детства. Тогда он действует на меня как цветок – я радуюсь, вдыхаю его. Или, в случае шкафа, наоборот, – другие реакции испытываю. А в инфантильных реакциях – как в свое время Ксеркс высек море, которое погубило его флот, так и я могу обращаться с миром. Я могу ударить шкаф – ах, какой нехороший. Или, наоборот, удалить плохие предметы и окружить себя только хорошими. В действительности то, что я делаю, я делаю не сейчас, и то, что происходит, происходит не сейчас и не здесь, а происходило где-то и когда-то. И я рассеян по этим точкам – там происходит, не здесь. Там сплелось что-то, а я как лицо, которое кажется себе автономным, действующим автономно, в действительности выполняю то, что диктует мне измерение, которое я тащу за собой. Например, можно умыкнуть Альбертину и сделать ее пленницей. Это – акт. А где он произошел? Он произошел в измерении – колокольчик садовой калитки в Комбре. Марсель умыкает Альбертину не потому, что есть какие-то конкретные обстоятельства сейчас и здесь в связи с Альбертиной, а потому, что ему нужно быть в лоне, означенном материнским поцелуем, и он не может быть один. Далее, другой пример вам приведу. Я могу, скажем, здесь держать, как герцог Германт, речь перед убитым горем человеком. Где это происходит? Что он делает? Германт – не здесь. В том смысле, что он тащит за собой измерение. Как говорит Пруст, он расходует неизрасходованный запас поклонов в своих коленях, поскольку есть ритуал рыцарского сочувствия, который он сейчас выполняет совершенно безотносительно к его содержанию, и он не воспринимает того, что перед ним. Он тащит за собой измерение – а когда тащишь за собой измерение, очень трудно прореагировать – не согласно измерению, а согласно сути происходящего перед тобой события. Представьте себе: какая-то штуковина, которая в действительности сзади нас, но она проецирует впереди нас то, что мы увидим. И мы видим какой-то символический, условный силуэт человека, который является чисто рефлексивной или рефлекторной причиной того, чтобы в нас развязалась бы, как в пляске святого Витта, растрата нерастраченных поклонов в коленях. Довольно сложная картина психологической жизни вырисовывается. Не так ли? Но это все я просто буквально воспроизвожу – уверяю вас, что это не вольные вовсе импровизации, а то, что написано. Только в том смысле, что так мной понято. Конечно, так, но это и есть то, что сделано в романе, о котором мы говорим. И поэтому, скажем, умыкнув Альбертину, я в действительности не Альбертину умыкаю, а реализую форму любви, заданную в измерении – в этом внутреннем, дальнем измерении, форму любви к матери. Или потребность материнского лона.
Проделав этот пассаж, мы кое-что теперь добавим к нашей проблеме: что же такое у Пруста впечатление? Впечатление всегда есть нечто, внутри чего есть вырезка истории. И эта вырезка истории может охватывать пространство и время, не совпадающие не только с моментами нашей психологической жизни, но и с целым нашего жизненного пути (скажем, мы живем в среднем 60 лет). Теперь вся беда в том, что, когда Пруст говорит об этом измерении, вся проблема звучит у него так… Значит – когда прозвучал колокольчик, или когда я увидел колокольню Мартенвиля, или когда я увидел Альбертину (любовное впечатление – это тоже впечатление в этом смысле слова), – впечатление всегда есть нечто, что содержит в себе прямой удар истины. То есть того, что есть на самом деле. И след этого прямого удара истины и выражается тем, что во впечатлении есть что-то загадочное и непонятное, что неразрешимо и что не связано с материальным составом объекта. В Альбертине как таковой физически нет ничего загадочного и непонятного. Загадочно впечатление. Следовательно, – если ты содержишь в себе что-то, что обозначено как загадка, что-то, что несводимо к тому, что это женщина с такими-то глазами, с таким-то носом, с такой-то походкой и т д. Повторяю: всегда есть прямой удар истины, пока обозначенной для нас гипнотизирующей загадочностью. Или таинственностью. И Пруста интересуют прежде всего таинственные качества предметов, потому что они есть иносказание или знак моего состояния. Состояния – как того элемента мира, который в мир должен быть мною невербально привнесен. Не вербальное описание чего-то, не вербальный эквивалент какого-то явления, а само это явление. Например – не описание мысли, а мысль. Как говорил Декарт: для того чтобы знать, что такое мысль, нужно самому мыслить[206 - См.: Декарт. Метафизические размышления (размышление второе).]. В отличие от определения мысли – то, что не нуждается в определении, и есть само. Вот то, что не нуждается в определении и что есть само, и есть состояние. Оно не есть просто мое психологическое состояние, оно – событие в мире. И вот таинственное впечатление всегда есть знак того состояния или события в мире, которое мне предстоит реализовать. Или пройти внутри него путь. Поэтому Пруст говорит: реализовать впечатление[207 - См.: T.R. – p. 1044; J.S. – p. 452.]. Реализация впечатления, согласно введенным нами правилам абстракции, может быть выражена близко к тому, что сам Пруст говорил: мир устроен так, что для реализации одного впечатления, может быть, нужно несколько личностей, много личностей[208 - См.: T.R. – p. 907, 1034.]. Ну, я же ввел абстракцию, что, может быть, мы сейчас занимаемся тем, что случилось с человеком тысячу лет назад… Перевернем это: чтобы реализовалось то, что случилось и прозвучало (я беру ту же метафору – звон колокольчика; всякое может быть таким звоном), ему понадобилась, чтобы реализоваться, не одна жизнь, то есть не одна личность, а понадобилось несколько личностей. Чтобы реализовать одно впечатление. Или одну единицу впечатления. Значит, единица впечатления шире или больше, чем единица, обозначаемая нами, – индивид или человеческая особь. И, следовательно, нужно несколько особей, чтобы реализовать впечатление. А с другой стороны, Пруст скажет: чтобы реализовать полноту личности, нужно, может быть, несколько жизней[209 - См.: S.B. – p. 564; T.R. – p. 912.]. И вот с этой оговоркой я вернусь к тому, на чем себя прервал.
Так вот, Пруст упирается в проблему, что, с одной стороны, есть удар истины, а с другой стороны, есть и каждый раз случается то, что человек, вместо того чтобы реализовывать впечатление, занимается чем-то другим. Чем же? То есть Пруст имеет дело с тем, что там же, где прозвучал удар истины, там же вырастает в нашей жизни, в непрерывном движении нашего психического сцепления (мы каждую минуту осознаем, шаг за шагом, что это все есть непрерывные цепочки осознания), вырастает экран – прямое впечатление как бы уходит куда-то вбок. И вот Пруст говорит так… (Это связано с тем, как Пруст понимал саму природу воображения или художественного творчества, или вообще любого творчества. В данном случае вы, конечно, понимаете, что под словом «творчество» я имею в виду не внешний акт писания книг, а какой-то экзистенциальный личностный акт, происходящий в нашей жизни. Он происходит посредством текстов, в широком смысле этого слова. Текстов сознания. Но это все равно есть акт жизни, а не профессионально отдельно выделенный и с жизнью не связанный вид занятия специально назначенных на это людей, называемых артистами, мыслителями или кем угодно.) Итак, я цитирую: «Этот труд художника, состоящий в том, чтобы пытаться увидеть под материей, под опытом, под словами что-то, отличающееся от них, этот труд в точности обратен тому, который – самолюбие, страсть, рассудок и привычка совершают каждую минуту в нас, когда мы живем, отвернувшись от самих себя»[210 - См.: T.R. – p. 896.]. А это и есть наша обыденная жизнь; обыденная жизнь для Пруста и для всякого нормального человека есть та жизнь, которая складывается из актов, в которых мы живем, отвернувшись от самих себя. Представьте себе, что есть вектор направления. Поставьте вектор направления с положительным знаком на работу артиста, художника и прямо обратный вектор на работу, в которой само же мгновение впечатления начинается. Есть путь реализации впечатлений – нужно спуститься в колодец, внутренний колодец своей души. Как говорит Пруст, – «единственное направление, которое нам не закрыто»[211 - См.: T.R. – p. 1046; E.F. – p. 907.]. А остальные направления закрыты дурной повторяемостью бесконечных сцеплений. И вот на обратном векторе сразу же работает, тотчас же работает привычка, работает рассудок, работает самолюбие, страсть и, как выражается Пруст (воображение у него пластическое, оно сразу как-то геометрично располагает все вещи), «в ту же самую секунду страсть, ум, рассудок, привычка, самолюбие наслаивают на наши подлинные впечатления…»[212 - См.: T.R. – p. 896.] – вот прямой удар истины (я все время перебиваю себя, но, по-моему, так легче двигаться, чем я просто формально зачитал бы безупречно красивый текст, и он был бы менее понятен, наверно.) Пруст в таких случаях, чтобы «мускулисто» дать читателю и самому себе образ этого наслаивания, говорит, что предмет любви – «Альбертина была похожа на камень, на который нанесло очень много снега»[213 - Fug – p. 438.]. То есть – сразу же тайна впечатления от Альбертины, которая меня к Альбертине привязала. Я не знаю, что это за впечатление, я в нем не разобрался, и тут же она (тайна) обросла, как камень, колоссальной глыбой снега. Наросли на ней пласты, как говорит Пруст, «промежуточных состояний»[214 - Ibid.]. Или – представьте себе, что само впечатление было дискретно, а эта наросшая конструкция – как бы чудовищно – я опять словами Пруста говорю – «разросшееся пространство и время»[215 - Ibid.]. А пространство и время есть в данном случае что-то, точки чего сенсибилизированы для нас любовью. Поэтому Альбертина не есть здесь, в этом теле, она – в любом предмете, на котором проросло мое отношение к Альбертине. И я Альбертину буду встречать в самых неожиданным местах. Так же, как смерть Альбертины, – она ведь не одним актом совершится, Альбертина будет миллионы раз умирать, по мере того как я буду оказываться перед лицом предметов, которые содержат в себе память об Альбертине. (Ну, убить ее одним актом я не могу. Она и сама не умирает одним актом.) Так вот, представьте себе как бы чудовищно наросший снег – снег конструкции на строительный камушек. Камушек впечатления. Чтобы разрастись так, впечатления должны были, как выражается Пруст, «уйти вбок от своей прямой линии»[216 - T.R. – p. 890.]. То есть от своего действительного, подлинного смысла, в котором мы или не захотели разобраться, или пока у нас и не было времени разобраться. У нас это время появится только потом, конечно. Мы потом собираем, а не сразу. Чтобы что-то собирать, нужно сначала разбросать. И жизнь разбрасывает – по бегу коляски твоей жизни с громадной скоростью перед тобой распахивается пространство и время. Или – как бы разбегающиеся от тебя вселенные. Вот придут ли они назад?
Дальше он пишет так – и вот все, что наросло, окончательно скрыв от нас подлинные впечатления, – «и что несет в себе цели, называемые нами практическими, – все это ошибочным образом называется нами жизнью»[217 - T.R – p 896.]. Здесь Пруст вводит различие между жизнью подлинной и жизнью повседневной. Причем различие – не иерархическое, – что сейчас мы живем тем, что называется обыденной жизнью, а после смерти – какая-то другая жизнь. Нет, различие – в каждой точке. Внутри или поперек, или вертикально, любого конкретного предмета или события. Значит, нечто ложно называемое жизнью, составлено из снега, наросшего на камень. Наращенного теми силами, о которых я уже говорил (привычки и т д.). И тогда можно сказать, говорит Пруст, что это столь сложное искусство – то, которое противоположно работе художника, но это и есть его работа: он должен срезать все эти конструкции, – и она не может не быть сложной: никаким реалистическим описанием нельзя получить того, что нужно получить работой художника, потому что то, что может дать реалистическое описание, как раз не видит, как выражается Пруст, того, куда проросли видимые нами на поверхности предметы, и правдоподобное описание было бы самым ложным, – так вот, «это сложное искусство есть единственное живое искусство». Единственное, что может быть орудием нашей жизни. Какой жизни? Подлинной жизни. «Только оно может для других выразить и нам самим показать нашу собственную жизнь»[218 - Ibid.]. Потому что то, что происходит внутри подлинных впечатлений, – продолжает происходить, мы там живем, но живем мы и в снежной бабе, которая наросла. Конечно, со снежной бабой (я вам показывал, когда переводил измерение) мы будем обращаться по законам камня, на который она наросла. Как говорит Пруст, – тот, кто слишком верит фактам, рискует не видеть законов…
В этой прерванной цитате дальше идут очень многозначительные слова. Я остановился на том, что там и есть наша жизнь, которую мы условимся называть вслед за Прустом «подлинной». Значит, у нас есть две жизни: жизнь та, которая нам кажется, или реальность, которая нам кажется реальностью, и есть другая, которая действительно реальна. Действительная реальность. И в ней тоже есть наша жизнь. Пруст говорит так: то, что является нашей подлинной жизнью, «этого нельзя наблюдать, и видимые явления этой жизни должны быть переведены и иногда прочтены обратным чтением и с трудом расшифрованы. Этот труд, который совершили наше самолюбие, наша страсть, наш дух имитации, наш абстрактный ум, наши привычки, именно этот труд должен быть разложен и отменен, ликвидирован трудом искусства, и в этом смысле это есть движение в противоположном направлении, в обратном направлении, возвращение к тем глубинам, где то, что действительно существует, лежит, незнакомое нам, и именно искусство заставляет встать нас на обратный путь». То есть обратный путь в данном случае есть путь движения к тем глубинам, где лежит то, что в действительности существует. Или то, что действительно, на деле существует. А в области снежной бабы, которая эмпирически существует, в этой области или внутри этой снежной бабы – все, что существует, не есть действительное существование. Не есть действительная наша жизнь. «И, конечно, это великий соблазн воссоздать подлинную жизнь и оживить впечатление. Но для этого нужно всякого рода великое мужество, и в том числе сентиментальное мужество. Потому что это означает прежде всего прервать наши самые дорогие иллюзии»[219 - Ibid.]. Конечно, действительный смысл впечатления прозвучавшего колокольчика есть что-то, что нужно оживлять; а для этого нужно мужество чувств, что означает прервать наши самые дорогие иллюзии. (В том числе мироустроительные социальные иллюзии, о которых я вам говорил, – будто можно устроить, как революционеры думают, сам собой действующий механизм счастья; не случайно один из этих революционеров, Чернышевский, всю жизнь периодически возвращался к мечте своей юности – к работе над созданием вечного двигателя; помешательство, типичное.) И вот нужно отказаться – а для этого нужно мужество – от самых дорогих иллюзий. Перестать верить в объективность того, что создано тобой самим. Беда в том, что то, что мы называем объективностью, есть наши представления. Или снежная баба. Мы ее секретировали из себя, мы ее создали. И мужество состоит в том, чтобы перестать верить в ее объективность. Здесь Пруст повторяет периодически совершавшийся в истории философии классический шаг освобождения человека. Этот шаг делался Декартом, потом делался Кантом. И он всегда состоял в том, чтобы показать, что то, на уровне чего лежат причины и необходимости, есть наше представление. Связующая сила наших представлений, а не фундаментальные черты самого мира. Потому мы свободны перед лицом мира, поскольку мы можем быть рабами только самих себя – того, что выросло из нас самих. Так вот – перестать верить в объективность того, что создано нами самими. И например, вместо того чтобы убаюкивать себя словами «она мила», прочитать в этих словах «я получил удовольствие от того, что поцеловал ее». Мне было приятно ее поцеловать. Вот и все. И нечего турусы разводить, в сотый раз убаюкивая себя этим «ах, как она мила», а просто вот – «мне было приятно ее поцеловать». А для этого, конечно, нужно мужество или то, что я называл жестокостью. Философия жестокости (не в обыденном смысле, конечно): жестокость по отношению к самому себе, которая состоит в способности так видеть и так сказать. «Конечно, то, что я испытывал в часы таких размышлений, все люди испытывают. Но то, что они испытывают, подобно некоторым клише, которые выйдут из своей темноты, только если их проявить, поднести к свету, и к тому же еще их нужно смотреть наоборот». Ну, вы знаете, что изображение на негативе перевернуто по отношению к тому снимку, который мы должны получить. То есть мы должны его перевернуть. Перед этим Пруст в этой же цитате говорил, что нечто нужно читать наоборот. «И это может случаться только тогда, когда мы подносим эти клише, существующие в душе каждого человека, к лампе ума, который только и может их осветить, интеллектуализировать, различить, и тогда – и с каким трудом – мы, наконец, видим фигуру того, что мы почувствовали на самом деле»[220 - Ibid.]. Вот что мы на самом деле почувствовали – «фигуру того». Не сам предмет, который вызвал, а фигуру. Я говорил вам, что фигура есть нечто, отличное от предмета. Или фигурация есть какой-то контур (в некотором мысленном пространстве), не являющийся просто дискретно выделенным предметом (скажем, звук колокольчика не есть фигура того, что ты действительно почувствовал от этого звука.) И вот только тогда выступает фигура того, что мы почувствовали на самом деле.
Должен вас предупредить: то, что я говорил до этого, и то, что я говорю сейчас, в действительности является «классической», так называемой феноменологической проблемой. И тот, кто знаком с современными философиями XX века, может накладывать на то, что я буду говорить, уже существующую феноменологическую терминологию, появившуюся после работ Гуссерля и устойчиво существующую в современной философской традиции. Есть философия, называемая феноменологией. И мы в действительности занимаемся феноменологическими проблемами; но я этих слов не употребляю – не только потому, что вообще пытаюсь не употреблять ученых философских терминов, поскольку в них часто исчезает жизненный смысл говоримого, а еще и потому, что, по моему глубокому убеждению, я, наверно, единственный философ, который не склоняется к немецкой философии и предпочитает французский вариант философии, созданный не философами, а людьми, которые жили, – а французы всегда, в отличие от немцев, жили. А пока эти жили, те создавали доктрины, системы. И я могу доказать любому просвещенному феноменологу (если он доступен доказательствам), что Пруст глубже и лучше решил феноменологическую проблему, чем Гуссерль. Поэтому я предпочитаю материал Пруста ученому материалу системы Гуссерля. С этим предупреждением я возвращаюсь к тому, о чем говорил. Итак, прежде всего мы сталкиваемся с тем, что то впечатление, о котором мы говорим, характеризуется дискретностью. Дискретный луч впечатления. Как впечатление он не продолжит следующего мгновения нашей жизни. Помните – «я шел не по тем же улицам, по которым шли прохожие, которые были вне дома в этот день, а по сладостным, печальным и скользким улицам моего прошлого». Так вот, не эти улицы, которые видят прохожие, вызвали это состояние в Прусте и, следовательно, не их наблюдение второй раз (то есть не непрерывность сюжета, допустим) способно что-либо объяснить в этом впечатлении. Следовательно, впечатление есть то, чего нельзя произвольно наблюдать. Оно дискретно уже в этом смысле. Вот в чем была ошибка Гуссерля – я таким коротким пассажем это помечу, – он предполагал, что можно наблюдать феномен. То есть можно решить наблюдать феномен. Вслед за этим, когда Гуссерль это сочинил, произошло одновременно два эпизода: один во Франции, другой в Италии. Эпизод во Франции описан в воспоминаниях Симоны де Бовуар. Сартр услышал о Гуссерле от Гурвича (Арон Гурвич – известный философ и социолог.) В воспоминаниях это происходит в кафе, они сидят втроем: Гурвич, Сартр и Симона де Бовуар. И Гурвич говорит: вся философия в том, чтобы суметь описать чернильницу феноменологически. И Симона де Бовуар пишет: Сартр побледнел. А вы знаете, как бледнеют от сдержанной эмоции, когда самая любимая, тайная, тобой еще не осознанная мысль вдруг высказана кем-то; это и бледность честолюбия, и бледность страсти, и бледность ума. И в Италии то же самое. Был такой Энцо Бачи, несколько лет тому назад умерший, один из немногочисленных экзистенциалистов и феноменологов в Италии, который в своем феноменологическом дневнике приводит факты своей биографии. Его учитель Антонио Банфи когда-то ему сказал, что – и тем самым наставил на путь феноменологии – вся задача в том, чтобы суметь феноменологически описать розу. И в одном и в другом случае предполагается, что можно захотеть – и описать феноменологически что-то. Так вот, феномен есть что-то, что нельзя выбрать и потом описать. Феноменологическим феноменом может быть – по отношению к тебе – только что-то, где в этом отношении с тобой что-то случилось. Ты имплицирован вне своей судьбы – ты не можешь просто захотеть взять и описать розу феноменологически. И поэтому – такое количество нудных и топчущихся на месте феноменологических описаний, например, у Гуссерля (у автора самой этой системы и самого этого термина). Нельзя захотеть и – наблюдать.
Так вот, возвращаясь к дискретности. Дело в том, что всякая вещь, называемая нами впечатлением, – как бы вне причин, вызвавших это впечатление, подвешена перед нашим внутренним взором как какое-то мучительно вспоминаемое нами лицо, – прямо в нас ударяя какой-то истиной, которую мы еще не знаем, очевидно, обращена к нашей глубине. То есть: уже предсуществующие, накопленные нами тени, из которых, как я говорил вам, только и вырастает свет. Дантовский grand cerchio di ombra, великий круг тени. Отемниться нужно по отношению к предмету: что-то случиться должно в моем отношении с предметом, должна имплицироваться в нем моя жизненная судьба, чтобы от предмета ко мне шло феноменальное его явление. И вот феноменальное явление – вне причин. Это именно – впечатление, а не содержание впечатления. И вот это различение чего-то и его же содержания и есть феноменальное различение. Феноменологическое различение. Очень трудная абстракция (ее трудно удержать в голове): что-то и его же содержание. Содержание для нас сразу же существует в причинном виде или в причинно-следственном виде. Ведь все наши переживания являются психологическими переживаниями только тогда, когда они переживаются одновременно с переживанием своей причины. Содержание переживания всегда совмещено с его причиной. Мы переживаем вместе с причиной: само переживание содержит в себе представление о своей собственной причине. А феноменологичская абстракция предполагает, что мы должны смочь разорвать этот экран. Отделить представление собственной причины, отделаться от него – потому что оно закрывает то, что происходит на самом деле. Феноменологическая абстракция должна подвесить существование впечатления как нечто еще иное, чем содержание этого впечатления. То есть как бы существует впечатление как что-то отличное от своего же собственного содержания. Это, конечно, абстракция. Но впечатление присутствует, и присутствие должно отличаться от содержания присутствия, потому что переживание, относящееся к содержанию присутствующего, всегда содержит в себе его причину и неотделимо от представления его причины. Ну, конечно же, ясно, что если Альбертина вызывает у меня впечатление, то это впечатление – как феномен – никак не может быть сведено к причине и не может быть разрешено в терминах причин. Каждая Альбертина – как причина, вызывающая во мне какое-то чувство. Этого не может быть. Не эти качества рождают чувства, конечно.
И значит, мы можем сказать, что Прусту интересны именно таинственные качества. Его не интересует, не занимает и проблемой он не считает нечто, что может быть передано в пространстве и времени (то есть другим людям) знаково-предметными средствами и логическими определениями. Ведь мы любое знание можем передать знаково-логическими средствами – то есть сконструировав и сообщив мысль в некоторой осмысленной языковой конструкции, – предполагая, что любой человек в точке приема передаваемого тобою знания может воссоздать предмет, к которому это знание относится, и убедиться на опыте в смысле передаваемого тобой ему состояния, знания. Пруст открывает – будучи феноменологом, практикующим феноменологом, который и слова такого не знал и представления не имел, что параллельно с его жизнью это происходило где-то в далекой, туманной Германии, – некоторые состояния и сообщения, которые существуют и сообщаются помимо такого рода средств. Помимо воссоздания в другой точке пространства и времени прямого причинного опыта. Я могу проделать только психологический эксперимент – скажем, что-то вызывает какое-то раздражение, и описание этого раздражения я могу передать в другое место, где предполагается, что там такой же предмет вызовет такое же раздражение. Это как бы подкрепляет смысловую передачу, которая осуществляется путем логических определений или языковых логических конструкций. А Пруста интересует другое – поскольку у него критерий «моего» состояния, то это состояние как бы существует множественно. То есть – одновременно в разных головах и помимо передачи знаково-предметными средствами. Это не слишком отличается от того, что я говорил в самом начале. Если мы допускаем, что внутри прозвучавшего есть целые измерения, что мы можем видеть то же самое или быть в том же состоянии, или реализовать то состояние, которое начал реализовывать человек тысячу лет тому назад, то мы же фактически предполагаем то, что мы сейчас уже выявили, а именно – предполагаем, что есть множественность состояния, образующая некоторое пространство сообщенности помимо и вне знаково-предметных средств передачи. Или коммуникации. То есть Пруст столкнулся с другими способами коммуникации или сообщенности людей. Или – самого себя в следующий момент времени. А мы договорились, что разница между мною сейчас и мною в следующий момент времени в принципе не отличается от разницы между мной и другим человеком в этих состояниях. Не вообще, конечно, а в этих состояниях.
Фактически Пруст как раз здесь и фиксирует проблему сознания, о которой я уже неоднократно говорил. Ведь причин волноваться видом боярышника или звуком колокольчика калитки нет. Колокольчик этот такой же, как и другой колокольчик. Боярышник такой же, как и другой боярышник, и улица – такая же, как другая улица. Или сама же она в следующий момент времени. А мы убедились, что это не так: нельзя наблюдать – еще раз посмотреть на улицу не значит увидеть смысл того впечатления или суметь расшифровать смысл того впечатления, которое на меня улица произвела. А что такое наблюдение? Способность повторять, воспроизводить предмет наблюдения. Так вот, в случае Пруста как раз вот этого тождества нет. Там, где есть тождество, там нет впечатления. Боярышник равен боярышнику, и там впечатления нет. А там, где есть впечатление, – нечто, называемое боярышником, выделено и не есть другой боярышник. А вы знаете, что логическое определение применимо к тождественным предметам, без тавтологий не бывает логических определений. И следовательно, нет передачи знания тогда логическим путем. А что здесь есть различенного, так это различенность и связность сознания, которое само есть это отличие. И Пруст как бы показывает, что это сознание существует множественно. Во-первых, одно состояние множественно. И во-вторых, одни состояния как бы входят в другие. Ну, скажем, внутрь состояния, в котором я воспринимаю цветы в Париже, в него, очевидно, сплющившись, потому что иначе нельзя, вошло состояние восприятия цветов в Бальбеке. Я повторяю: это есть различенность и связность сознания. Мы ведь знаем, что для нас имеет значение только связность, связанные впечатления. Впечатления – задействованные. Скажем, просто улица не является источником знаний о ней как об улице, если в нее не вложено состояние улиц моего детства. Я повторяю, что источники наших эмоций не существуют в абсолютном смысле слова. Это есть великий принцип, феноменологический. Кстати, он же есть и принцип относительности, распространенный на сознательную жизнь. Анализ, объективный, действительный анализ сознательной жизни должен прежде всего ввести принцип относительности, который состоит в том, что ничто не является источником наших состояний в абсолютном смысле слова. Нечто лишь становится или не становится источником. Причем не становится тоже есть состояние. Такое же таинственное, как и то, что становится. Например, для нас таинственным является состояние волнения перед предметом. Таким же таинственным является и то, когда предмет не вызывает волнения. Скажем, присутствие красивой женщины вдруг оставляет меня холодным. То есть отсутствие состояния тоже есть состояние, являющееся проблемой. Или интересным состоянием. Такого рода состояния, когда мы, вместо того, чтобы переживать горе, когда оно с нами случилось, думаем о том, чтобы съесть мороженое. И это никакого отношения не имеет к нашей жестокости или бесчувственности в психологическом смысле. Здесь другие законы действуют. И интересно их выявлять. Законы, а не просто банальность, что он бесчувственный человек…
И в этой различительности и связности, называемой сознанием, есть идентичность самому себе – не идентичность боярышника боярышнику, улицы улице (как раз эти вещи нарушены), а идентичность себя некоторому действительному или подлинному «я». И реализация впечатлений есть воссоединение себя с самим собой в подлинном виде. Подлинное «я» – то, которое реально испытало что-то. Но между этим «я», то есть реально испытавшим что-то, и воссоединенным с ним «я» лежит целая снежная баба наросшей конструкции, которая снимается действительным трудом искусства. Или трудом мысли, если угодно (если эта мысль осуществляется без художественной конструкции, это одно и то же). И вот когда эта идентичность реализуется – это называется полнотой или цельностью восприятия – тогда мы можем сказать: восприятие произошло. Оно может произойти только как феноменологически полное. Пока эта полнота не осуществилась, мы даже не можем сказать, что психическое событие произошло. В каком смысле произошло событие? Я увидел двух танцующих девушек, «шерочку с машерочкой». При танце они соприкасаются грудью. Что можно сказать об этом событии, если я не увидел смысла? Понимаете, ведь этот смысл вдруг звучит такими словами: «А вы знаете, – говорит доктор Котар, который наблюдает эту сцену, – ведь сенсуальное наслаждение женщины прежде всего грудью испытывают». А герой наш видел просто танцующих девушек (в банальном значении общих актов мы можем это интерпретировать). Но само это восприятие – то, как и что видел Марсель, – это есть событие. В каком смысле я могу сказать, что что-то случилось? Обратите на это внимание. Я не могу сказать, что оно случилось. Это фантом или, скажем, эпифеномен. Не случайно поэтому у многих психологов и физиологов все сознание получается эпифеноменальным, то есть какой-то тенью, сопровождающей реальные события: они вообще не умеют анализировать сознательную жизнь. Пруст это умел делать. Он знал, на каком уровне и когда можно сказать, что нечто произошло применительно к событиям сознания, психики. И там предполагается выполнение некоторой полноты, а вот с ней дело очень плохо. В этом вся метафизическая, экзистенциальная, онтологическая и т д. проблема Пруста. Она связана с проблемой непрерывности. Я прочитаю вам очень интересный отрывок из Пруста, который относится непосредственно к проблеме впечатления.