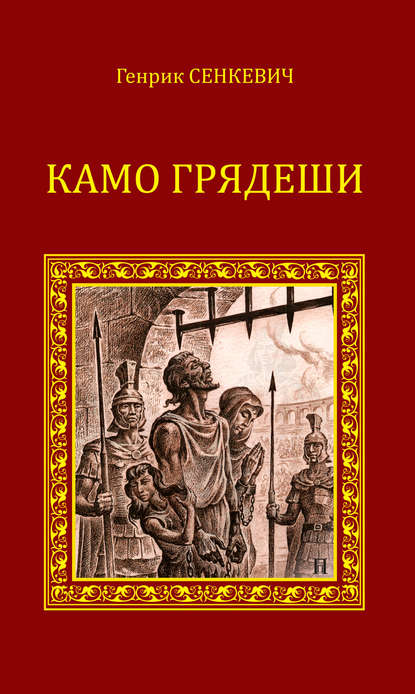По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Камо грядеши
Автор
Жанр
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Корбулон! Клянусь Вакхом, это настоящий бог войны! Марс! Великий вождь! И в то же время горяч, честен и глуп! Я люблю его уж за одно то, что Нерон боится его.
– Корбулон не глуп!
– Может быть, ты и прав, а впрочем, не все ли равно! Пирон говорит, что глупость ничуть не хуже ума и ничем от него не отличается!
Виниций стал рассказывать про войну, но, когда Петроний снова закрыл глаза, молодой человек, увидев истомленное лицо его, с участием принялся расспрашивать о его здоровье.
Петроний открыл глаза.
– Здоровье?.. Так себе…
Он не чувствовал себя здоровым, правда, он не дошел до того, до чего дошел молодой Сиссен, который настолько утратил сознание, что по утрам, когда его вносят в ванну, он спрашивает: «сижу ли я?» Но все-таки он нездоров. Виниций только что поручил его покровительству Аскления и Киприды. Но он, Петроний, не верит в Аскления. Ведь неизвестно даже, чей сын этот Асклений – Арсинои или Корониды? А если даже матери нельзя назвать с уверенностью, то об отце и говорить нечего! Теперь никто не может с уверенностью указать на собственного отца.
Петроний рассмеялся и продолжал:
– Правда, два года тому назад я послал в Эпидавр три дюжины живых петухов и золотую чашу; ты, надеюсь, понимаешь почему? Я сказал себе: поможет или нет, но во всяком случае не повредит. Хотя люди и приносят еще жертвы богам, но, я думаю, все они смотрят на это так же, как и я! Все!.. исключая разве погонщиков мулов, поджидающих путешественников у porta Capena. Кроме Аскления обращался я и к Асклениадам, когда был болен в прошлом году. Я знаю, что они обманщики, но тоже подумал: чем это может повредить мне? Мир держится на обмане и вся жизнь тот же обман. И душа тоже обман! Нужно только иметь достаточно ума, чтобы уметь отличать обманы приятные от неприятных. В своем «гинокаусе» я приказываю топить кедровым деревом, пропитанным амброй, потому что вообще предпочитаю благоухание смраду. Что же касается покровительства Киприды, которому ты тоже поручил меня, то пока оно выразилось только в том, что у меня в правой ноге появилось покалывание! Впрочем, она добрая богиня. Я думаю, что и ты в скором времени понесешь на ее жертвенник белых голубей.
– Правда, – отвечал Виниций, – парфянская звезда не тронула меня, но зато стрела Амура меня сразила самым неожиданным образом, всего в нескольких стадиях от городских ворот.
– Клянусь белизной колонн Хариз! Ты расскажешь мне это в свободную минуту, – сказал Петроний.
– Я именно пришел за твоим советом, – отвечал Марк.
В ту же минуту вошли «эпиляторы», которые занялись Петронием. Марк, по приглашению Петрония, сбросил тунику и вошел в ванну с теплой водой.
– Я, конечно, не спрашиваю, пользуешься ли ты взаимностью, – сказал Петроний, глядя на молодое тело Виниция, как бы выточенное из мрамора. – Если бы Лизипп увидал тебя, ты украшал бы теперь в виде статуи Геркулеса ворота, ведущие в Палатину.
Виниций самодовольно улыбнулся и погрузился в воду, расплескивая ее по мозаике пола, на котором была изображена Гера, просящая Сон усыпить Зевеса.
Петроний смотрел на юношу как художник, который удовлетворен тем, что он видит перед собой.
Когда Виниций окончил купанье и в свою очередь перешел в руки эпиляторов, вошел «лектор» со связками бумаг в бронзовом ящике.
– Хочешь послушать? – спросил Петроний.
– Если это твое произведение – с удовольствием! – отвечал Виниций, – а если нет, то предпочитаю продолжать разговор. В наше время поэты на всяком перекрестке ловят слушателей.
– Это правда! Нельзя пройти ни мимо базилик, ни мимо бань, ни мимо библиотеки, ни мимо книжной лавки, чтобы не увидать поэта, который размахивает руками, как обезьяна. Агриппа, возвратясь с Востока, принял их за бесноватых. Впрочем, такое теперь время. Цезарь сочиняет стихи, и все следуют его примеру. Запрещено только сочинять стихи, которые были бы лучше его стихов, и потому я немного боюсь за Лукана… А я пишу прозой, но не угощаю ею ни себя, ни других. Лектор собирался прочесть записки этого несчастного Фабриция Вейента.
– Почему «несчастного»?
– Потому, что ему приказано предпринять одиссею и не возвращаться к домашним пенатам впредь до распоряжения. Положим, эта одиссея для него легче, чем для самого Одиссея, потому что жена его не похожа на Пенелопу. Да тебе незачем объяснять, что с ним поступили глупо. Вообще, здесь на вещи смотрят слишком легко. Эта книжка довольно плоха и скучна, на нее накинулись только с тех пор, как автора подвергли изгнанию. Теперь со всех сторон только и слышишь: «скандал, скандал!» Очень может быть, что некоторые вещи и вымышлены Вейентом, но я, зная город, зная патрициев и наших женщин, смею тебя уверить, что все у него гораздо бледнее, чем на самом деле; но тем не менее там всякий ищет себя со страхом, знакомых – с наслаждением. В книжной лавке Авирна сотня писцов списывает это сочинение под диктовку, так что успех его обеспечен.
– О твоих выходках там нет?
– Есть… но относительно меня автор ошибся: в действительности я гораздо хуже, но зато и не такой пошлый, каким он изобразил меня. Видишь ли, мы все давно потеряли представление о том, что дозволено и что преступно, да мне самому кажется, что между этими понятиями фактически нет никакой разницы, хотя Сенека, Музоний и Тразея делают вид, что понимают ее. А для меня это безразлично. Клянусь Геркулесом! я говорю то, что думаю; сравнительно с другими у меня есть только то преимущество, что я в состоянии отличить безобразное от прекрасного, чего, например, наш меднобородый поэт, возница, певец, борец и шут, не умеет делать.
– Жалко мне Фабриция! Это такой хороший товарищ.
– Его погубило самолюбие. Все подозревали его, но наверное никто не знал; сам он не умел держать язык за зубами и по секрету болтал на все стороны. Ты слыхал историю Руффина?
– Нет!
– Перейдем для охлаждения в «фригидарий», и я там тебе расскажу.
Они перешли в фригидарий, посередине которого бил фонтан с окрашенной в бледно-розовый цвет струей, издававшей запах фиалок. Тут они расположились в нишах, обитых шелками. Несколько минут длилось молчание. Виниций задумчиво глядел на фавна, обнявшего нимфу и жадно искавшего губами ее губ, и наконец сказал:
– Вот кто прав! Это самое лучшее в жизни!
– Более или менее. Но ты, кроме этого, любишь войну, которую я не люблю, потому что от постоянного пребывания в палатках лопаются ногти и теряют свой розовый цвет. Впрочем, конечно, у всякого есть свои слабости. Меднобородый, например, любит пение, в особенности свое собственное, а старый Скавр – коринфскую вазу, которую ставит на ночь около своей постели, и когда ему не спится – целует ее. От этих поцелуев у нее нет уже краев. Послушай, ты сочиняешь стихи?
– Нет! Я никогда не написал ни единого гекзаметра.
– Может быть, играешь на лютне? поешь?
– Нет!
– Ну, правишь лошадьми?
– Когда-то я принимал участие в ристалищах в Антиохии, но успеха не имел.
– Ну, тогда я спокоен за тебя. А в цирке к какой партии принадлежишь?
– К партии зеленых.
– Я совершенно успокоился, тем более что хотя у тебя большое состояние, но все же ты менее богат, чем Паллас или Сенека. У нас, видишь ли, очень хорошо тому, кто сочиняет стихи, поет под аккомпанемент лютни, декламирует, участвует в состязаниях в цирке, но все же лучше или, вернее, безопаснее тому, кто не пишет стихов, не играет на лютне, не поет, не принимает участия в состязаниях. Лучше же всего тому, кто восторгается, когда все это проделывает Меднобородый. Ты красив, поэтому тебе, может быть, грозит опасность, что в тебя влюбится Поппея. Впрочем, навряд ли: она в этом отношении слишком опытная! Любовью она достаточно насладилась при двух первых мужьях, а теперь, при третьем, она заботится кое о чем другом. И вообрази, этот глупый Отон до сих пор до безумия в нее влюблен… Бродит по скалам в Испании и вздыхает; так отстал от своих прежних привычек и так мало обращает на себя внимания, что на прическу ему теперь хватает всего только три часа ежедневно. Кто мог это подумать, а главное, относительно Отона?
– Я понимаю это, – возразил Виниций. – Но все-таки я и в его положении нашел бы себе другое занятие.
– Какое же?
– Я вербовал бы верные легионы из тамошних жителей гор. Иберийцы – народ храбрый.
– Виниций, Виниций! Я почти убежден, что ты не был бы способен сделать это. И знаешь почему? Потому, что такие вещи делаются, но о них не говорят. Что же касается лично меня, то, будь я на месте Отона, я смеялся бы над Поппеей и собирал бы легионы, но не из иберийцев, а из иберянок. В крайнем случае сочинял бы эпиграммы, но никому бы не читал их, как этот бедняга Руффин.
– Да, кстати, ты хотел мне рассказать его историю.
– Я расскажу тебе ее в «унктуарии».
Но там внимание Виниция было им отвлечено красивыми рабынями, поджидавшими их. Две из них – негритянки, похожие на роскошные изваяния из черного дерева, стали умащать тело Виниция и Петрония нежными аравийскими благовониями; другие – фригиянки, умеющие искусно причесывать, держали в мягких и гибких, как змеи, руках полированные стальные зеркала и гребни, а две, подобные греческим богиням, девушки с острова Косса, в должности vestipicae[2 - Рабыня, наблюдавшая за одеждой.], ждали приказаний, чтобы уложить тоги художественными складками.
– Клянусь громовержцем Зевсом! – воскликнул Виниций, – какой у тебя подбор!
– Я предпочитаю качество численности, – отвечал Петроний. – Вся моя фамилия[3 - Familia – весь состав домашних слуг, рабов. – Примеч. автора.] в Риме не превышает четырехсот человек, и полагаю, что только проходимцы могут нуждаться в большем количестве слуг для домашнего обихода.
– Более красивых рабынь нет даже у Меднобородого, – произнес Виниций, у которого ноздри стали раздуваться.
– Что же, – ты мой родственник, – отвечал Петроний с дружеским пренебрежением, – а я вовсе не такой эгоист, как Басс, и не такой педант, как Авл Плавций.
– Корбулон не глуп!
– Может быть, ты и прав, а впрочем, не все ли равно! Пирон говорит, что глупость ничуть не хуже ума и ничем от него не отличается!
Виниций стал рассказывать про войну, но, когда Петроний снова закрыл глаза, молодой человек, увидев истомленное лицо его, с участием принялся расспрашивать о его здоровье.
Петроний открыл глаза.
– Здоровье?.. Так себе…
Он не чувствовал себя здоровым, правда, он не дошел до того, до чего дошел молодой Сиссен, который настолько утратил сознание, что по утрам, когда его вносят в ванну, он спрашивает: «сижу ли я?» Но все-таки он нездоров. Виниций только что поручил его покровительству Аскления и Киприды. Но он, Петроний, не верит в Аскления. Ведь неизвестно даже, чей сын этот Асклений – Арсинои или Корониды? А если даже матери нельзя назвать с уверенностью, то об отце и говорить нечего! Теперь никто не может с уверенностью указать на собственного отца.
Петроний рассмеялся и продолжал:
– Правда, два года тому назад я послал в Эпидавр три дюжины живых петухов и золотую чашу; ты, надеюсь, понимаешь почему? Я сказал себе: поможет или нет, но во всяком случае не повредит. Хотя люди и приносят еще жертвы богам, но, я думаю, все они смотрят на это так же, как и я! Все!.. исключая разве погонщиков мулов, поджидающих путешественников у porta Capena. Кроме Аскления обращался я и к Асклениадам, когда был болен в прошлом году. Я знаю, что они обманщики, но тоже подумал: чем это может повредить мне? Мир держится на обмане и вся жизнь тот же обман. И душа тоже обман! Нужно только иметь достаточно ума, чтобы уметь отличать обманы приятные от неприятных. В своем «гинокаусе» я приказываю топить кедровым деревом, пропитанным амброй, потому что вообще предпочитаю благоухание смраду. Что же касается покровительства Киприды, которому ты тоже поручил меня, то пока оно выразилось только в том, что у меня в правой ноге появилось покалывание! Впрочем, она добрая богиня. Я думаю, что и ты в скором времени понесешь на ее жертвенник белых голубей.
– Правда, – отвечал Виниций, – парфянская звезда не тронула меня, но зато стрела Амура меня сразила самым неожиданным образом, всего в нескольких стадиях от городских ворот.
– Клянусь белизной колонн Хариз! Ты расскажешь мне это в свободную минуту, – сказал Петроний.
– Я именно пришел за твоим советом, – отвечал Марк.
В ту же минуту вошли «эпиляторы», которые занялись Петронием. Марк, по приглашению Петрония, сбросил тунику и вошел в ванну с теплой водой.
– Я, конечно, не спрашиваю, пользуешься ли ты взаимностью, – сказал Петроний, глядя на молодое тело Виниция, как бы выточенное из мрамора. – Если бы Лизипп увидал тебя, ты украшал бы теперь в виде статуи Геркулеса ворота, ведущие в Палатину.
Виниций самодовольно улыбнулся и погрузился в воду, расплескивая ее по мозаике пола, на котором была изображена Гера, просящая Сон усыпить Зевеса.
Петроний смотрел на юношу как художник, который удовлетворен тем, что он видит перед собой.
Когда Виниций окончил купанье и в свою очередь перешел в руки эпиляторов, вошел «лектор» со связками бумаг в бронзовом ящике.
– Хочешь послушать? – спросил Петроний.
– Если это твое произведение – с удовольствием! – отвечал Виниций, – а если нет, то предпочитаю продолжать разговор. В наше время поэты на всяком перекрестке ловят слушателей.
– Это правда! Нельзя пройти ни мимо базилик, ни мимо бань, ни мимо библиотеки, ни мимо книжной лавки, чтобы не увидать поэта, который размахивает руками, как обезьяна. Агриппа, возвратясь с Востока, принял их за бесноватых. Впрочем, такое теперь время. Цезарь сочиняет стихи, и все следуют его примеру. Запрещено только сочинять стихи, которые были бы лучше его стихов, и потому я немного боюсь за Лукана… А я пишу прозой, но не угощаю ею ни себя, ни других. Лектор собирался прочесть записки этого несчастного Фабриция Вейента.
– Почему «несчастного»?
– Потому, что ему приказано предпринять одиссею и не возвращаться к домашним пенатам впредь до распоряжения. Положим, эта одиссея для него легче, чем для самого Одиссея, потому что жена его не похожа на Пенелопу. Да тебе незачем объяснять, что с ним поступили глупо. Вообще, здесь на вещи смотрят слишком легко. Эта книжка довольно плоха и скучна, на нее накинулись только с тех пор, как автора подвергли изгнанию. Теперь со всех сторон только и слышишь: «скандал, скандал!» Очень может быть, что некоторые вещи и вымышлены Вейентом, но я, зная город, зная патрициев и наших женщин, смею тебя уверить, что все у него гораздо бледнее, чем на самом деле; но тем не менее там всякий ищет себя со страхом, знакомых – с наслаждением. В книжной лавке Авирна сотня писцов списывает это сочинение под диктовку, так что успех его обеспечен.
– О твоих выходках там нет?
– Есть… но относительно меня автор ошибся: в действительности я гораздо хуже, но зато и не такой пошлый, каким он изобразил меня. Видишь ли, мы все давно потеряли представление о том, что дозволено и что преступно, да мне самому кажется, что между этими понятиями фактически нет никакой разницы, хотя Сенека, Музоний и Тразея делают вид, что понимают ее. А для меня это безразлично. Клянусь Геркулесом! я говорю то, что думаю; сравнительно с другими у меня есть только то преимущество, что я в состоянии отличить безобразное от прекрасного, чего, например, наш меднобородый поэт, возница, певец, борец и шут, не умеет делать.
– Жалко мне Фабриция! Это такой хороший товарищ.
– Его погубило самолюбие. Все подозревали его, но наверное никто не знал; сам он не умел держать язык за зубами и по секрету болтал на все стороны. Ты слыхал историю Руффина?
– Нет!
– Перейдем для охлаждения в «фригидарий», и я там тебе расскажу.
Они перешли в фригидарий, посередине которого бил фонтан с окрашенной в бледно-розовый цвет струей, издававшей запах фиалок. Тут они расположились в нишах, обитых шелками. Несколько минут длилось молчание. Виниций задумчиво глядел на фавна, обнявшего нимфу и жадно искавшего губами ее губ, и наконец сказал:
– Вот кто прав! Это самое лучшее в жизни!
– Более или менее. Но ты, кроме этого, любишь войну, которую я не люблю, потому что от постоянного пребывания в палатках лопаются ногти и теряют свой розовый цвет. Впрочем, конечно, у всякого есть свои слабости. Меднобородый, например, любит пение, в особенности свое собственное, а старый Скавр – коринфскую вазу, которую ставит на ночь около своей постели, и когда ему не спится – целует ее. От этих поцелуев у нее нет уже краев. Послушай, ты сочиняешь стихи?
– Нет! Я никогда не написал ни единого гекзаметра.
– Может быть, играешь на лютне? поешь?
– Нет!
– Ну, правишь лошадьми?
– Когда-то я принимал участие в ристалищах в Антиохии, но успеха не имел.
– Ну, тогда я спокоен за тебя. А в цирке к какой партии принадлежишь?
– К партии зеленых.
– Я совершенно успокоился, тем более что хотя у тебя большое состояние, но все же ты менее богат, чем Паллас или Сенека. У нас, видишь ли, очень хорошо тому, кто сочиняет стихи, поет под аккомпанемент лютни, декламирует, участвует в состязаниях в цирке, но все же лучше или, вернее, безопаснее тому, кто не пишет стихов, не играет на лютне, не поет, не принимает участия в состязаниях. Лучше же всего тому, кто восторгается, когда все это проделывает Меднобородый. Ты красив, поэтому тебе, может быть, грозит опасность, что в тебя влюбится Поппея. Впрочем, навряд ли: она в этом отношении слишком опытная! Любовью она достаточно насладилась при двух первых мужьях, а теперь, при третьем, она заботится кое о чем другом. И вообрази, этот глупый Отон до сих пор до безумия в нее влюблен… Бродит по скалам в Испании и вздыхает; так отстал от своих прежних привычек и так мало обращает на себя внимания, что на прическу ему теперь хватает всего только три часа ежедневно. Кто мог это подумать, а главное, относительно Отона?
– Я понимаю это, – возразил Виниций. – Но все-таки я и в его положении нашел бы себе другое занятие.
– Какое же?
– Я вербовал бы верные легионы из тамошних жителей гор. Иберийцы – народ храбрый.
– Виниций, Виниций! Я почти убежден, что ты не был бы способен сделать это. И знаешь почему? Потому, что такие вещи делаются, но о них не говорят. Что же касается лично меня, то, будь я на месте Отона, я смеялся бы над Поппеей и собирал бы легионы, но не из иберийцев, а из иберянок. В крайнем случае сочинял бы эпиграммы, но никому бы не читал их, как этот бедняга Руффин.
– Да, кстати, ты хотел мне рассказать его историю.
– Я расскажу тебе ее в «унктуарии».
Но там внимание Виниция было им отвлечено красивыми рабынями, поджидавшими их. Две из них – негритянки, похожие на роскошные изваяния из черного дерева, стали умащать тело Виниция и Петрония нежными аравийскими благовониями; другие – фригиянки, умеющие искусно причесывать, держали в мягких и гибких, как змеи, руках полированные стальные зеркала и гребни, а две, подобные греческим богиням, девушки с острова Косса, в должности vestipicae[2 - Рабыня, наблюдавшая за одеждой.], ждали приказаний, чтобы уложить тоги художественными складками.
– Клянусь громовержцем Зевсом! – воскликнул Виниций, – какой у тебя подбор!
– Я предпочитаю качество численности, – отвечал Петроний. – Вся моя фамилия[3 - Familia – весь состав домашних слуг, рабов. – Примеч. автора.] в Риме не превышает четырехсот человек, и полагаю, что только проходимцы могут нуждаться в большем количестве слуг для домашнего обихода.
– Более красивых рабынь нет даже у Меднобородого, – произнес Виниций, у которого ноздри стали раздуваться.
– Что же, – ты мой родственник, – отвечал Петроний с дружеским пренебрежением, – а я вовсе не такой эгоист, как Басс, и не такой педант, как Авл Плавций.