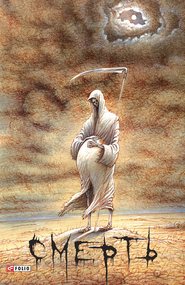По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Журналистика XXI. Новые СМИ и свобода слова
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Во втором разделе труда речь пойдет, конечно, и о свободе слова в связи с интернетом. Но приступать к этой теме следует с особенной осторожностью: ведь наряду с ограничениями, налагаемыми государством, пользователей сети подстерегают и вполне реальные опасности, определяемые в том числе уголовным законодательством. С увеличением скорости коммуникации увеличились и возможности для разного рода злоупотреблений. Правда, автократии наподобие российской с удовольствием используют эти реальные опасности только для того, чтобы, до смерти напугав своих граждан, максимально ограничить их доступ к будто бы чуждой им информации. В таких условиях логика групп, отождествляющих себя с государством, толкает их к тому, чтобы в дальнейшем подчинить себе наиболее популярные онлайн-СМИ и с их помощью оказывать непрестанное давление на общественное сознание в направлении, необходимом для сохранения власти.
В противовес этой логике в государствах Западной Европы, в той же Франции или Великобритании, в течение веков складывался такой баланс взаимоотношений между государством и СМИ, при котором власть в итоге вмешивается в дела СМИ только в случае нарушения уголовного кодекса. Этот баланс бережно соблюдается там и сегодня, а все тенденции в регулировании интернета с стороны государства ограничиваются условием минимального вмешательства в деятельность СМИ.
Причем разнонаправленные традиции во взаимоотношениях государства со СМИ сложились в России и странах Западной Европы отнюдь не случайно, а в соответствии с общими трендами их экономического и общественного развития. Напомним, что в Англии те самые первые, спорадически выпускавшиеся листки новостей, содержавшие рассказы о сенсационных событиях, подчас вовсе не соотносившихся с реальностью, появились в конце XV–XVI в. как способ заработка владельцев печатных машин в промежутках между производством книг – то есть в коммерческих целях. В России газета «Ведомости» появилась почти триста лет спустя, в начале XVIII в., лишь по воле царя Петра и исключительно в целях пропаганды его реформ, далеко не во всем прогрессивных и человеколюбивых. И по сей день главными условиями работы масс-медиа остаются, соответственно, коммерческий интерес, если говорить о Западе, и интересы властной верхушки, – если говорить о таких государствах, как Россия или Китай.
Но, конечно, государства Западной Европы в своих взаимоотношениях с масс-медиа отнюдь не всегда исходили из интересов свободы слова. В ряду многочисленных преступлений государства против этой неотъемлемой составляющей демократии достаточно упомянуть британский суд над Даниелем Дефо, приговоривший писателя в 1702 г. к позорному столбу и тюремному заключению за памфлет «Кратчайший способ расправы с диссидентами». Дефо в своем памфлете требовал реформ в законодательстве, образовании и выступал против господства Англиканской церкви в стране – то есть сам был, что называется, инакомыслящим, за что и пострадал. Тем не менее Европа прошла долгий путь от жестоких физических наказаний и казней за «преступления» в печати, до экономических рычагов давления на прессу и только затем в муках многочисленных революций постепенно, шаг за шагом приблизилась к реализации действующих сегодня принципов толерантности.
Для примера многочисленных преступлений государства против свободы слова и СМИ достаточно упомянуть британский суд над автором «Робинзона Крузо» Даниелем Дефо, приговоривший писателя в 1702 г. к позорному столбу и тюремному заключению за памфлет «Кратчайший способ расправы с диссидентами»
К слову, в России документальное регулирование взаимоотношений государства со СМИ происходило с большой оглядкой на опыт стран Западной Европы. Например, графа 6 Заявления о регистрации СМИ в России и в начале XXI в. содержала требование об указании тематики и/или специализации того или иного конкретного масс-медиа[5 - http://rkn.gov.ru/mass-communications/smi-registation/#10]. Но это условие произошло, кажется, напрямую от тех далеких времен, когда мысль о необходимости ограничить перечень тематик, освещаемых в одном конкретном издании, пришла в голову кому-то из французских чиновников эпохи кардинала-герцога Ришелье: 30 мая 1631 г. Теофраст Ренодо получил королевское разрешение на публикацию в своей La Gazette официальных новостей и объявлений с условием запрета на публикацию сообщений по другим тематикам. Нарушение такого запрета с тех далеких пор служило рычагом давления на свободу слова, и именно этот инструмент воздействия на СМИ сохранило в своем арсенале российское законодательство в XXI в.
Еще один показательный в этом смысле пример – требование к печатным СМИ о предоставлении властям так называемого «контрольного экземпляра», которое благополучно перекочевало из российских цензурных уставов XIX в. в соответствующее постановление Временного правительства, затем из него – в советское законодательство, а оттуда – в требования к печатным СМИ «новой» России на рубеже XX–XXI вв. Наличие этих экземпляров во все времена позволяло властям заняться расследованием правомочности тех или иных публикаций и привлечь к ответственности тех, кто, возможно, допустил нападки на государство. Однако и это замечательное «новшество», как и ограничение освещаемых тематик, появилось в текстах российских цензурных уставов не из ниоткуда, а напрямую из германского закона о печати образца 1874 г., составленного по инициативе Отто фон Бисмарка. «Железный канцлер» тогда же потребовал, чтобы в закон о печати были включены и требования об обязательном указании в газетах и журналах фамилий ответственных (главных) редакторов, издателей и владельцев типографий, а также домашних адресов (!) авторов публикаций. В результате российские цари до 1917 г., а затем чиновники советского периода, пользуясь именно этим опытом Бисмарка, настаивали на включении подобных же требований со стороны государства к издателям печатных СМИ.
«Железный» канцлер Германии Отт фон Бисмарк потребовал, чтобы в закон о печати 1874 г. были включены пункты об обязательном указании в газетах и журналах фамилий ответственных (главных) редакторов, издателей и владельцев типографий, а также домашних адресов (!) авторов публикаций
…В Великобритании цензура была официально отменена еще в 1695 г., в России же лишь Временному правительству удалось провозгласить, и то ненадолго, отмену цензуры в 1917 г., затем советская власть в 1922 г. вновь официально ее возвратила. Правда, и официальной отмене цензуры власти в Великобритании еще тогда быстро нашли эффективную замену в виде различных форм экономического давления, вроде завышенных почтовых сборов и налогов.
Между тем с самим понятием цензуры и практикой ее применения с течением времени произошли многочисленные изменения по форме и существу. Так называемая классическая, то есть предварительная цензура де-юре исчезла, но ее место де-факто заняли различные виды новой цензуры, подчас еще более изощренно ограничивающие свободу слова в СМИ. Так, В. В. Прозоров из Саратовского госуниверситета в России считает, что на современном этапе «под цензурой мы имеем в виду, прежде всего, специальные формы государственного фильтрационного механизма, узаконенные способы информационной коррекции. Шире, цензура – любая, явная или закулисная, – форма искусственного сужения и лимитирования информационных потоков. В широком смысле, это еще и сложная система самоограничений, так называемая самоцензура, прежде всего этическая по своей природе» [27, с. 12]. Здесь и первое, и второе, и третье – правильно.
Другой российский исследователь – д-р А. Г. Рихтер, занявший однажды пост директора Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, еще ранее исследовал широкий спектр новых, «мягких» разновидностей цензуры (речь о них пойдет впереди), также обратив внимание на такое пагубное явление, как самоцензура.
И здесь следует заметить, что именно Россия и часть других государств постсоветского пространства оказались в замкнутом кругу противоречий между анонсируемым на внешнюю аудиторию стремлением к демократии и подспудным (однако хорошо видимым со стороны) подавлением демократических свобод, прежде всего свободы слова и СМИ.
Россия и часть других государств постсоветского пространства оказались в замкнутом кругу противоречий между анонсируемым на внешнюю аудиторию стремлением к демократии и подспудным (однако хорошо видимым со стороны) подавлением демократических свобод, прежде всего свободы слова и СМИ
Именно текущий режим в России, начиная с конца ХХ в. и с первых дней XXI в., продолжил богатые, накопленные различными государствами за долгие века традиции подавления свободы слова, оттачивая их до блеска на всех новых видах медиа, которые могут показаться властной верхушке «подозрительными» в смысле их возможностей для трансляции взглядов оппозиции. Как заметил однажды менеджер одного из онлайн-СМИ Глеб Морев, «логика, да и исторический опыт противостояния как царской, так и советской цензуре подсказывают: медиа, не располагающие иностранным покровительством, но имеющие амбиции транслировать идеи, враждебные установившемуся в России политическому режиму, и собирающиеся сообщать информацию, а не заниматься пропагандой, в весьма близкой перспективе будут вынуждены формально выйти из российской юрисдикции и перебазироваться за границу. Последовав в этом смысле за первопроходцем вольной русской печати Александром Герценом» [73].
«Логика, да и исторический опыт противостояния как царской, так и советской цензуре подсказывают: медиа, не располагающие иностранным покровительством, но имеющие амбиции транслировать идеи, враждебные установившемуся в России политическому режиму, и собирающиеся сообщать информацию, а не заниматься пропагандой, в весьма близкой перспективе будут вынуждены формально выйти из российской юрисдикции и перебазироваться за границу. Последовав в этом смысле за первопроходцем вольной русской печати Александром Герценом».
Глеб Морев, шеф-редактор Colta.ru
Между тем стремление к объективному исследованию условий выпуска СМИ диктует необходимость учитывать не только их взаимоотношения с государством, но и с гражданами. Всегда ли СМИ правы в своих оценках, а государство и граждане – нет? В российском Уставе о цензуре и печати от 1890 г., как известно, не отличавшемся демократичностью взглядов на свободу слова и СМИ, говорится о необходимости защиты частных лиц от не всегда благовидных устремлений профессиональной журналистской братии. Так, в ст. 139 Устава недвусмысленно сообщается, что «если в повременном издании [то есть в периодическом. – Авт.] появится известие, касающееся частного лица, то издание сие не может отказать в принятии сообщенных ему тем лицом, в ответе, возражений и поправок. Возражение или поправка частного лица должны быть неотложно напечатаны тем же шрифтом и в том же отделе, как и первоначальное известие, и притом бесплатно, если занимают места не более, как вдвое против статьи, на которую служат ответом» [32, с. 20–21].
Действительно: из истории СМИ различных государств хорошо известно, что как отдельное журналистское творчество, так и в целом редакционная политика некоторых СМИ далеко не всегда отличаются стремлением к беспристрастности. Редакциями и журналистами подчас движет коммерческий интерес, не лишены они бывают и других человеческих страстей. К угрозам, исходящим от СМИ, интернет прибавил новые их разновидности – такие, как угрозы для детской психики, происходящие от отдельных обновляемых электронных ресурсов (даже и не являющихся СМИ), или масштабные коммерческие угрозы от взлома банковских серверов, а также реальные угрозы безопасности государства от проникновения в информационные системы правительственных ведомств. Не в последнюю очередь в соответствующем разделе этой книги пойдет речь о злоупотреблениях свободой слова в онлайн-СМИ и мерах оправданного государственного противодействия таким явлениям.
Новые СМИ
Интернет и СМИ
Свобода – право говорить людям то, что они не хотят слушать.
Джордж Оруэлл, писатель
Эпоха интернета одновременно с началом нового вида коммуникации (в так называемом «онлайн-режиме») породила вместе с собой и очевидно новые виды и типы средств массовой информации, формирование которых фактически происходит на наших глазах. Это так называемые интернет-СМИ (или онлайн-СМИ), в отношении которых нашими коллегами исписано уже немало страниц бумажных и еще более – виртуальных [19]. Существует теория, согласно которой эти медиа возникают в результате конвергенции «центральных движущих сил трансформации медиасектора: цифровых технологий, телекоммуникаций и непосредственно сферы СМИ, т. е. активного информационного пространства» [14, с. 139]. Ксения Карякина рассказывает также, что под разработанное на Западе еще в 90-е гг. ХХ в. определение новых СМИ подпадают информационные продукты, сочетающие в себе три «К» – Компьютерные и информационно-коммуникационные технологии, Коммуникационные системы и сети и цифровой информационный Контент [14, с. 139]. И если следовать этой логике, то известные всему миру социальные сети и поисковики необходимо автоматически отнести к СМИ, ведь они с очевидностью содержат в себе как все три «К», так и «ленту» обновляемой в онлайн-режиме информации. Так ли это на самом деле?
Скорее – нет, если речь идет об информации, представляющей интерес лишь для ограниченного круга «френдов» (сколь бы ни был широк этот круг) отдельного участника информационного пространства: таков, к примеру, раздел «Главное» в мировой социальной сети Facebook. Этот раздел обновляется круглосуточно в режиме онлайн, но сообщения и иллюстрации, представляемые в нем, не позволяют отнести ни саму сеть, ни этот ее отдельный раздел к разряду СМИ, даже несмотря на скорость и периодичность обновления сообщений.
То же самое следует сказать и о поисковых сервисах: эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) в рассуждениях о контекстных объявлениях как о части рекламного рынка замечают, что поисковики, с помощью которых размещается такая реклама, «не являются в чистом виде медиа» [2].
И скорее – да, если речь идет об агрегировании новостей поисковыми сайтами, такими, например, как российский Yandex.ru. При этом сам поисковик в виду своего основного предназначения, разумеется, не является СМИ, к их разряду возможно отнести лишь его раздел «Новости», где, собственно, аккумулируются сообщения, пользующиеся наибольшей популярностью в сети и отобранные в автоматическом режиме именно по этому признаку.
Тем не менее, некоторые исследователи настаивают на том, что электронные (читай – социальные) сети в целом являются новым видом СМИ. Доказательством этого для ученого из Воронежского университета проф. А. И. Акопова служит, в частности, широкое использование разнообразных журналистских жанров в сети Fido Net – от жанра читательского письма до статьи, корреспонденции, зарисовки и очерка. «В электронных сетях имеют место и другие публицистические и литературно-художественные жанры, – настаивает проф. Акопов, – репортаж, отчет, сатирическая миниатюра, анекдот, рассказ, сказка, стихи и др.» [2, с. 18]. Но он тут же, кажется, и противоречит сам себе, когда говорит о «полной раскрепощенности в употреблении слов и выражений как русского, так иностранного (преимущественно английского) происхождения в усеченном (как угодно сокращенном) виде со смешением профессиональной, просторечной, литературной и всякой жаргонной лексических форм» как о «главном свойстве электронного языка» [2, с. 18]. Проф. Акопов приводит далее множество полюбившихся русскоязычному интернет-сообществу примеров такого непрофессионального пользования речью, как «комп – компьютер, инфа – информация, препод – преподаватель, есно – естественно, грит – говорит, инет, инетчик – интернет, интернетчик, имхо – исключительно по моему мнению» [2, с. 18] и т. п. Однако противоречие это в действительности – лишь кажущееся. Ведь проф. Акопов говорит об электронных сетях именно как о новом виде СМИ, не употребляя термин «профессиональное». И в этом смысле почему бы таким сетям действительно не считаться буквально средствами массовой информации – если не иметь в виду, что это профессиональные СМИ, поскольку эти новые СМИ не располагают набором всех необходимых и обязательных признаков профессиональных СМИ, в частности такого важнейшего признака, как использование исключительно литературной лексики и стилистики. Логично, что далее в своих рассуждениях исследователь приходит к тому очевидному для него выводу, что «все сетевое пространство можно рассматривать как некое средство массовой информации» [2, с. 20] (главным здесь следует считать слово «некое»).
Так в чем же тогда заключается разница между теми электронными ресурсами, которые следует относить к СМИ, и теми, которые ими не являются? Ответить на этот вопрос с разной степенью успешности пытаются очень многие с самого начала эпохи интернета. Эксперт из России Константин Максимюк сообщает, что отличия социальных сетей от традиционных медиа заключаются в сегментации (или фильтрации) пользователей по интересам, «а не по полу-возрасту-цвету кожи и чему-там-еще» [20, с. 36]. Но ведь и многие традиционные СМИ давно сегментировались по интересам. Например, это могут быть общие массовые интересы женской аудитории в возрасте от 25 до 45 лет (такие как мода, семья, кулинария и т. п.): спрос на такие интересы удовлетворяют наилучшим образом транснациональные печатные проекты, подобные журналу Cosmopolitan. Или это могут быть массовые интересы людей пенсионного возраста, включающие не в последнюю очередь тему здоровья; или это могут быть, – и есть в разных странах, – как отдельные телепередачи, так и целые телеканалы и печатные издания, посвященные интересу мужчин к охоте или автомобилестроению.
В чем Максимюк, как представляется, прав, – и мы уже говорили об этом здесь во Введении, – так это в том, что новые СМИ в интернете отличаются от традиционных СМИ возможностью ведения диалога в режиме онлайн: «Совершенно очевидно, что социальные медиа – это ресурсы, где как никогда важно общение. За этой общей фразой скрывается необходимость наладить диалог, а не читать монолог» [20, с. 37] («а иначе здесь не получится эффективно работать», – продолжает далее свою мысль Максимюк, но это уже относится к условиям ведения бизнеса в интернете, нас здесь это волнует не в первую очередь). Таким образом, Максимюк фактически подтверждает уже приведенное во Введении одно из главных отличий интернет-СМИ от СМИ традиционных – интерактивность [19, с. 47]. На фактор интерактивности обращает внимание и исследователь из Китая Цзя Лежун, когда говорит, что аудитория онлайновых СМИ «имеет возможность непосредственно принимать участие в коммуникационном процессе, предоставлять информацию другим пользователям, свободно выражать свое мнение, индивидуальным, интерактивным способом использовать новые медиа и т. д.» [18, с. 14].
В этом смысле, конечно: по признаку интерактивности онлайновые СМИ разительно отличаются от своих классических предшественников в пользу куда более широких коммуникативных возможностей. Но и наличие у того или иного интернет-ресурса этой функции еще не означает, что его можно автоматически причислить к профессиональному СМИ.
Разница между теми частями интернета, которые претендуют на роль СМИ, и теми его частями, которые являются таковыми на самом деле, а также их традиционными профессиональными предшественниками определяется наличием или отсутствием всего комплекса основных признаков профессионального СМИ, формировавшихся в течение всей многовековой эпохи Гутенберга.
Разница между теми частями интернета, которые претендуют на роль СМИ, и теми его частями, которые являются таковыми на самом деле, а также их традиционными профессиональными предшественниками определяется наличием или отсутствием всего комплекса основных признаков профессионального СМИ
Понимание этого поможет ответить и на такие непростые вопросы, как не является ли сам интернет во всех своих формах и видах средством массовой информации? И что такое интернет в принципе? Поговорим об этом.
Известно, что предтечей интернета стали в конце 1960-х гг. исследования специалистов из Агентства перспективных научных разработок США: Минобороны ставило перед ними задачу обеспечения надежности связи между компьютерами в штабах и на командных пунктах различных родов войск, и они успешно ее решили путем создания первой в истории виртуальной сети. Эта сеть, получившая название ARPANET, отличалась тем, что связи в ней от вертикальной структуры «главный компьютер – подчиненный компьютер» (которая функционировала ранее в Минобороны) трансформировались в горизонтальную структуру, и, кроме того, появились правила приема-передачи команд и текстов, которые обеспечивали синхронизацию множества компьютеров. Эти правила получили название межсетевого протокола – Internet Protocol или IP (отсюда русскоязычная калька названия соответствующей профессии – «айпишник»).
Следующий шаг на пути к интернету сделали в 1974 г. ученый Р. Серф и «айпишник» Р. Кэн, которые на базе протокола IP создали комплект протоколов – Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP / IP): этот составной протокол стандартизировал работу всех компьютеров, входивших в сеть ARPANET, которая, напомним, продолжала функционировать в интересах Минобороны США.
Наконец, в 1983 г. от материнской ARPANET отделилась специальная сеть, функционировавшая в интересах ученых, проводивших исследования за границами военного ведомства. Этот момент принято называть точкой рождения современного интернета. Затем появились сети, выполнявшие задачи в интересах политиков и общественных деятелей, очень быстро перспективы нового вида коммуникаций оценили коммерсанты, практически одновременно новые возможности начали активно использовать издатели СМИ и т. д. Сеть с легкостью выполняла задачи как рыночных секторов, так и различных групп населения, объединенных общими интересами.
В конце 1980-х возможности сети расширились: швейцарец Т. Бернес-Ли разработал протокол, позволивший передавать по сети графические изображения. Затем для облегчения коммуникации рядовых пользователей на основе протокола передачи гипертекста HTTP была разработана технология Word Wide Web (WWW). После этого интернет очень быстро перешагнул национальные границы США и принялся ударными темпами распространяться по всему миру. Однако сам факт зарождения мировой сети в США предопределил и то, что именно здесь начали выходить первые электронные версии печатных изданий, а также то, что до 1998 г., по данным д-ра Елены Вартановой, именно жители США составляли более половины – 54,68 % пользователей интернета [9, с. 97]. В итоге, к 2000 г., по данным другого российского исследователя Марины Павликовой, «пятерка лидеров по использованию интернетом населением выглядела следующим образом: США (52 % пользователей), Финляндия (49 %), Швеция (48 %), Дания (35 %), Великобритания (28 %) [25, с. 66].
Распределение пользователей Интернета по континентам в 2016 г.
А теперь вернемся к вопросам о том, что такое интернет в принципе и не является ли интернет одним огромным СМИ. Российский ученый проф. Ясен Засурский писал об этом в 2000 г.: «Очень серьезным моментом является проблема отношения к интернету как к публичной среде. Часто в ходе предвыборных кампаний в нашей стране задавался вопрос: является ли интернет средством массовой информации? И публикацию в нем тех или иных материалов можно ли приравнять к публикации в средствах массовой информации? Эти вопросы не корректны, так как интернет – это публичная среда. Если вывесить объявление на улице, это не будет считаться средством массовой информации, хотя оно доступно всем, даже если всего пять прохожих его прочитают. То же самое и интернет – это публичная среда. Именно поэтому он подлежит регулированию общим законодательством, именно поэтому помещение сведений в интернете, бесспорно, означает их разглашение, их публикацию, но не в средствах массовой информации, а именно в интернете. С этой точки зрения все разговоры о том, является ли интернет средством массовой информации, носят схоластический характер. Ведь так или иначе, все, что в интернете опубликовано, доступно опять же всем, даже если число пользователей не так велико. Здесь действует общее законодательство, которого на сегодняшний день совершенно достаточно» [13].
«Интернет – это публичная среда. Именно поэтому он подлежит регулированию общим законодательством, именно поэтому помещение сведений в интернете, бесспорно, означает их разглашение, их публикацию, но не в средствах массовой информации, а именно в интернете. С этой точки зрения все разговоры о том, является ли интернет средством массовой информации, носят схоластический характер. Ведь так или иначе, все, что в интернете опубликовано, доступно опять же всем, даже если число пользователей не так велико. Здесь действует общее законодательство, которого на сегодняшний день совершенно достаточно».
Ясен Засурский, профессор (Россия, Москва)
С учетом приведенного мнения, а также с учетом изложенных во Введении характеристик профессиональных СМИ (таких как профессиональный характер производства информации; специализация производителей – редакции, дирекции и журналистов на этом виде деятельности; особенности аудитории; функциональное назначение самого СМИ; характер транслируемой информации – виды, формы, жанры и т. д.) интернет в целом нельзя, конечно, относить, к разряду СМИ. Но, как всегда, существуют различные варианты ответов. Например, как отмечено в исследовании «СМИ в пространстве интернета» М. М. Лукиной и И. Д. Фомичевой, «одни считают, что во всех своих проявлениях это средство массовой информации, так как позволяет распространять последнюю на неограниченный круг реципиентов. Другие уверены, что сеть – это множество сайтов, каждый из которых имеет свою аудиторию, а потому она эффективна только как средство групповой коммуникации» [19, с. 5]. Исследователь В. В. Прозоров из Саратовского госуниверситета считает, что «интернет становится барометром общественного мнения, источником сенсационных предположений, неожиданных заключений, панических домыслов. В этом отношении интернет в большей степени, чем традиционные СМИ, является мощным средством манипуляции общественным сознанием» [27, с. 11]. То есть, так или иначе, но интернет, согласно приведенным характеристикам, – это новое средство массовой коммуникации, а в отдельных своих ипостасях – и средство массовой информации, которое располагает чрезвычайно весомыми преимуществами в сравнении с обычными, классическими СМИ.
Возникает следующий вопрос: в каких именно случаях сетевые ресурсы остаются средствами коммуникации, а в каких становятся средствами массовой информации? Исследователь М. М. Колесникова считает, что «для любого человека, более или менее знакомого с интернетом, все содержимое сети отчетливо делится на две группы: во-первых, следует выделить ресурсы, создаваемые профессиональными журналистами [и это, на наш взгляд, в первую очередь определяет принадлежность ресурса к профессиональным СМИ. – Авт.] (ИА, газеты, журналы, периодические сборники публикаций и т. п.), обновляемые со строгой периодичностью; с другой стороны, в интернете много так называемых “статических сайтов”, то есть таких, которые содержат некую информацию (зачастую справочную, иногда подготовленную непрофессионально), которая либо вообще не обновляется, либо обновляется нерегулярно» [16, с. 45].
Сосредоточимся здесь на упомянутом Колесниковой тезисе о том, что к профессиональным следует относить те ресурсы, которые обновляются профессиональными же журналистами с известной периодичностью. Профессионализм, в свою очередь, определяется качеством публикуемой информации. Российский исследователь Марина Павликова в обзоре проблем качества интернет-СМИ использует авторитет ученого Роберта Пикара (Высшая школа экономики и бизнеса – Турку, Финляндия) для того, чтобы ответить и на следующий вопрос – о том, чем же, в свою очередь, определяется качество журналистского труда. По мнению Пикара, качественность журналистской деятельности может оцениваться с помощью критериев активности, начинающихся со сбора информации – посещения мероприятий, организации интервью, чтения и т. п., а затем ее «переваривания», то есть анализа. Павликова, кроме того, в качестве определяющего отмечает еще и уровень образованности, говоря, что «насколько выше уровень образованности и активности журналиста, настолько больше его потенциал в создании качественного материала» [25, с. 79]. Существуют и другие критерии для определения качественности журналистского труда и конечного качества выпускаемых им публикаций – например, такие, как стремление к объективности и достоверность как результат первого условия. Однако одному журналисту или даже целой редакции подчас недостаточно только желания сделать публикацию достоверной: это зависит от того уровня доступа к информации, который обеспечивает конкретный политический режим в конкретной стране. То есть речь идет в очередной раз об уровне демократии и развитии ее институтов в том или ином государстве.
Из всего этого как бы логически следует (что называется «повисает в воздухе») вопрос о том, что же тогда привнес в профессиональную журналистику интернет, если она (профессиональная журналистика) напрямую от него не зависит? Ответ прост: дополнительные возможности, исходящие из скорости и глобального характера коммуникаций, позволяющие делать плоды журналистского труда еще более качественными и профессиональными.
Интернет привнес в профессиональную журналистику дополнительные возможности, исходящие из скорости и глобального характера коммуникаций и позволяющие делать плоды журналистского труда еще более качественными и профессиональными
«Журналистскую практику в стиле он-лайн можно охарактеризовать как умение извлечь профессиональную выгоду от использования новой техники [и технологии. – Авт.], – пишет Павликова. – Работа в сети открывает новые возможности для журналистского расследования и исследований, ориентированных на узкие целевые группы… роль информационной техники в этом случае является чисто прикладной, с помощью которой, однако, журналист сможет выполнить свою работу наилучшим образом» [25, с. 79].
Таким образом, именно качество информации, происходящее напрямую от профессионального уровня тех, кто ее собирает и обрабатывает, является фактором, бесспорно определяющим принадлежность того или иного интернет-ресурса к профессиональному СМИ: об этом мы говорили еще во Введении. В равной степени это относится и к ресурсам классических видов, которые в ряде случаев – таких как корпоративные или клиентские СМИ, – лишь по форме выглядят как профессиональные (да и то не всегда), по существу же таковыми не являются.
Качество информации, происходящее напрямую от профессионального уровня тех, кто ее собирает и обрабатывает, является фактором, бесспорно определяющим принадлежность того или иного интернет-ресурса к профессиональному СМИ
И здесь в очередной раз следует обратить внимание на разницу между средствами массовой коммуникации и средствами массовой информации: второе является частью первого, как справедливо считают Лукина и Фомичева [19, с. 22] (а мы к ним присоединяемся). В этом смысле интернет, конечно, прежде всего – средство массовой коммуникации, то есть носитель, с помощью которого СМИ транслируют свои публикации. Но совершенно очевидно также и то, что отдельные части интернета (сайты, порталы и т. п.) могут стать совершенно самостоятельными СМИ – как возникшими в сети впервые, так ставшими виртуальными двойниками тех СМИ, которые ранее существовали в одном из своих предыдущих классических видов. Рассмотрим здесь функции интернета как ретранслятора и производителя СМИ, для чего определимся прежде всего с самим понятием «интернет-СМИ».