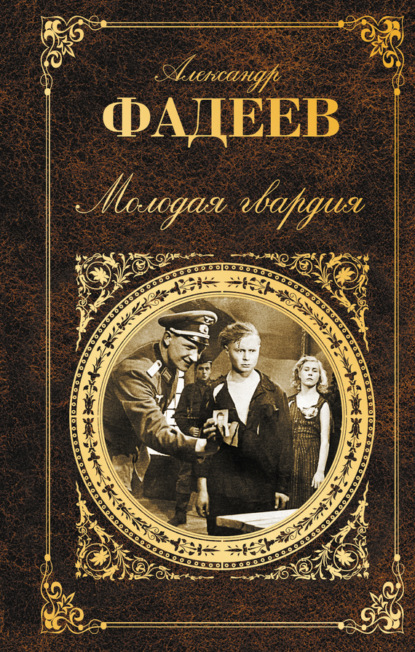По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Молодая гвардия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Человек со стороны, слыша такие ее высказывания, при этой ее внешности и при том, что она спокойно оставалась на месте, когда все вокруг бежало, мог бы принять ее за злейшую «контру», поджидающую немцев и издевающуюся над несчастьем советских людей, если бы не это простодушное детское выражение в ее голубых глазах и если бы ее реплики не были направлены только тем людям, которые их действительно заслужили.
– Эй ты, в шляпе! Гляди-ка, сколько на жинку навалил, а сам пустой идешь! – кричала она. – Жинка у тебя вон какая маленькая. Еще шляпу надел!.. Горе мне с тобой!.. Ты что, бабушка, под шумок колхозные огурцы ешь? – кричала она старухе на возу. – Думаешь, советская власть уходит, так уже тебе и не отчитаться ни перед кем? А бог на небе? Он, думаешь, не видит? Он все видит!..
Никто не обращал на ее реплики внимания, и она не могла не видеть этого, – похоже было, что она восстанавливает справедливость для собственного развлечения. Ее бесстрашие и спокойствие так понравились Уле, что Уля почувствовала мгновенное доверие к этой девушке и обратилась прямо к ней.
– Люба, я комсомолка с Первомайки, Ульяна Громова. Скажи мне, почему такая паника?
– Обыкновенная паника, – охотно сказала Любка, дружелюбно обратив свои голубые сияющие и дерзкие глаза на Улю. – Наши оставили Ворошиловград, оставили еще на заре. Получен приказ немедленно эвакуироваться всем организациям…
– А райком комсомола? – упавшим голосом спросила Уля.
– Ты что, пентюх облезлый, девчонку бьешь? У, злыдень! Вот выйду, наподдам тебе! – тоненьким голоском завопила Любка какому-то мальчишке в толпе. – Райком комсомола? – переспросила она. – Райком комсомола, он, как и полагается, в авангарде, он еще на заре выехал… Ну что ты, девушка, глаза вылупила? – сердито сказала она Уле. Но вдруг взглянула на Улю и, поняв, что происходило в ее душе, улыбнулась: – Я шутю, шутю… Ясно, приказали ему, вот он и выехал, не сбежал. Ясно тебе?
– А как же мы? – вдруг вся переполняясь мстительным чувством, гневно спросила Уля.
– А ты, стало быть, тоже уезжай. Команда такая еще с утра дана. Где ж ты была с утра?
– А ты? – в упор спросила Уля.
– Я?.. – Люба помолчала, и умное лицо ее вдруг приняло постороннее, безразличное выражение. – А я еще посмотрю, – сказала она уклончиво.
– А ты разве не комсомолка? – настойчиво спрашивала Уля, и ее большие черные глаза с сильным и гневным выражением на мгновение встретились с прищуренными, настороженными глазами Любки.
– Нет, – сказала Любка, чуть поджав губы, и отвернулась. – Папка! – вскрикнула она и, распахнув калитку, побежала на своих высоких каблучках навстречу группе людей, которые, заметно выделяясь среди толпы, испуганно и с каким-то неожиданным почтением расступавшейся перед ними, шли сюда, к дому.
Впереди шли директор шахты № 1-бис, Валько, плотный, бритый мужчина лет пятидесяти, в пиджаке и сапогах, с лицом мрачным и черным, как у цыгана, и известный всему городу знатный забойщик той же шахты Григорий Ильич Шевцов. За ними шло еще несколько шахтеров и двое военных. А позади, на некотором расстоянии, катилась сборная, из разных людей, толпа любопытных: даже в самые необычные и тяжелые моменты жизни среди людей находится известное число просто любопытных.
Григорий Ильич и другие шахтеры были в спецовках с откинутыми башлыками. Их одежда, лица, руки были все в угле. Один из них нес через плечо тяжелый моток электрического кабеля, другой – ящик с инструментами, а в руках у Шевцова был какой-то странный металлический аппарат с торчащими из него концами обнаженного провода, похожий не то на радиоприемник, не то на телеграфный передатчик. Они шли молча и точно боясь встретиться глазами с кем-либо из толпы и друг с другом. Пот, оставляя борозды, катился по их измазанным углем лицам. И лица их были такие измученные, точно эти люди несли на себе непомерную тяжесть. И Уля вдруг поняла, почему, несмотря на такую сумятицу, все люди на улице загодя испуганно расступались перед ними, – вся дорога была перед ними свободна. Это были люди, которые собственными руками взорвали шахту № 1-бис – гордость Донецкого бассейна.
Любка подбежала к Григорию Ильичу, взяла его за темную жилистую руку своей маленькой белой ручкой, которую он сразу крепко сжал, и пошла рядом с ним. «Шевцова дочка?» – недоумевала Уля.
В это время шахтеры во главе с директором шахты Валько и Шевцовым подошли к калитке и с явным облегчением сбросили через заборчик в палисадник, прямо на цветы, предметы, которые они несли, – моток кабеля, ящик с инструментами и этот странный металлический аппарат. И стало ясно, что все эти цветы, высаженные с такой любовью, как и вся та жизнь, при которой возможны были и эти цветы, и многое другое, – все это было уже кончено.
Люди сбросили все эти предметы и некоторое время постояли, не глядя друг на друга, в какой-то неловкости.
– Ну что ж, Григорий Ильич, сбирайся швидче, машина на мази, людей посажу и всем гамузом за тобой, – сказал Валько, не подымая на Шевцова глаз из-под своих широких и сросшихся, как у цыгана, бровей.
И он в сопровождении шахтеров и военных медленно пошел дальше по улице.
У калитки остались Григорий Ильич с дочкой, которую он по-прежнему держал за руку, и старик-шахтер с прокуренными до желтизны, редкими, точно выщипанными усами и бородкой, до крайности высохший и голенастый. И Уля, на которую они не обращали внимания, тоже стояла рядом, словно решение вопроса, который ее мучил, она могла получить только здесь. Люди в толпе, сшибаясь, бранясь и плача, по-прежнему шли по всем направлениям, и никого уже не было из тех, кого могли бы заинтересовать эти стоящие у калитки двое мужчин и две девушки.
– Любовь Григорьевна, кому сказано? – сердито сказал Григорий Ильич, взглянув на дочь, не отпуская, однако, ее руки.
– Сказала, не поеду, – угрюмо отозвалась Любка.
– Не дури, не дури, – явно волнуясь, тихо сказал Григорий Ильич. – Как можешь ты не ехать? Комсомолка…
Любка, вспыхнув, вскинула глаза на Улю, но в лице ее тотчас появилось строптивое, даже нахальное выражение.
– Комсомолка без году неделя, – сказала она, поджав губы. – Кому я что сделала? И мне ничего не сделают… Мне мать жалко, – добавила она тихо.
«Отреклась от комсомола!» – вдруг с ужасом подумала Уля. Но в то же мгновение мысль о собственной больной матери жаром отозвалась в груди ее.
– Ну, Григорий Ильич, – таким страшным низким голосом, что удивительно было, как он выходил из такого высохшего тела, сказал старик, – пришло время нам расставаться… Прощай… – и он прямо посмотрел в лицо Григорию Ильичу, стоявшему перед ним со склоненной головой.
Григорий Ильич молча стащил с головы кепку. У него были светло-русые волосы и худое, с глубокими продольными бороздами, лицо пожилого русского мастерового, с голубыми глазами. Хотя он был уже не молод и одет был в эту неуклюжую спецовку и лицо, и руки его были в угле, чувствовалось, что он хорошо сложен и крепок, и красив старинной русской красотой.
– А может, рисканешь с нами? А? Кондратович? – спросил он, не глядя на старика и явно конфузясь.
– Куда же нас со старухой? Пущай уж нас наши дети с Красной Армией вызволяют.
– А старший твой что ж? – спросил Григорий Ильич.
– Старший? О нем что ж и говорить, – сумрачно сказал старик и махнул рукой с таким выражением, как будто хотел сказать: «Ведь ты и сам знаешь мой позор, зачем же спрашиваешь?» – Прощай, Григорий Ильич, – печально сказал он и протянул Шевцову высохшую, когтистую руку.
Григорий Ильич подал свою. Но что-то было еще недосказано ими, и они, держа друг друга за руку, еще постояли некоторое время.
– Да… что ж… Моя старуха и, вишь, дочка тоже остаются, – медленно говорил Григорий Ильич. Голос его вдруг пресекся. – Как это мы ее, Кондратович? А?.. Красавицу нашу… Всей, можно сказать, страны кормилицу… Ах!.. – вдруг необыкновенно тихо выдохнул он из самой глубины души, и слезы, сверкающие и острые, как кристаллы, выпали на его измазанное углем лицо.
Старик, хрипло всхлипнув, низко наклонил голову. И Любка заплакала навзрыд.
Уля, кусая губы, не в силах удержать душившие ее слезы бессильной ярости, побежала домой, на Первомайку.
Глава 3
Поселок Первомайский был самым старым шахтерским поселком в этом районе, – от него, собственно, и начался город Краснодон. Первомайским, или, в просторечии Первомайкой, он стал называться с недавнего времени. В прежние времена, когда уголь в этих местах еще не был обнаружен, здесь расположены были казачьи хутора, самым крупным из которых считался хутор Сорокин.
Уголь открыли здесь в начале века. Первые шахтенки, закладывавшиеся по пласту, были наклонные и такие маленькие, что уголь подымали конными или даже ручными воротками. Шахтенки принадлежали разным хозяевам, но по старой памяти весь рудник называли – рудник Сорокин.
Шахтеры, выходцы из центральных русских губерний и с Украины, селились по хуторам у казаков, роднились с ними, да и сами казаки уже работали на шахтах. Семьи разрастались, делились, строились рядом.
Закладывались новые шахты – за длинным холмом, по которому пролегает теперь ворошиловградское шоссе, и дальше за балкой, что разделяет теперь город Краснодон на две неравные части. Эти новые шахты принадлежали одинокому помещику Ярманкину, или «бешеному барину», поэтому и новый поселок, возникший вокруг шахт, первое время назывался в просторечии поселок Ярманкин или «Бешеный». Дом самого «бешеного барина» – каменный серый одноэтажный дом, в одной половине которого был разбит зимний сад с диковинными растениями и заморскими птицами, в те времена один стоял на высоком холме за балкой, открытый всем ветрам, и его тоже называли «бешеным». Уже при советской власти, в годы первой и второй пятилеток, в этом районе были заложены новые шахты, и центр рудника Сорокина переместился в ту сторону, застроился стандартными домиками, крупными зданиями учреждений, больниц, школ, клубов. На холме, рядом с домом «бешеного барина», выросло красивое, с крыльями, с высаженными перед главным подъездом молодыми деревцами, здание районного исполкома. А в самом доме «бешеного барина» разместилась проектная контора треста «Краснодонуголь», служащие которой уже и понятия не имели, что это за дом такой, где они проводят третью часть своей жизни. Так рудник Сорокин превратился в город Краснодон.
Уля, ее подруги и товарищи по школе росли вместе со своим городом. Совсем еще маленькими школьницами и школьниками в праздник древонасаждения они участвовали в посадке деревьев и кустов на заваленном мусорными кучами и заросшем лопухами пустыре, отведенном городским советом под парк. Мысль о том, что здесь должен быть парк, возникла среди старых комсомольцев – тех еще поколений, что помнили «бешеного барина», поселок Ярманкин, первую немецкую оккупацию и гражданскую войну. Некоторые из них и сейчас работали в Краснодоне, – у иных уже седина пробрызнула в волосах или в казацком буденновском усе, – но в большинстве жизнь разбросала их по всей нашей земле, а кое-кто полез высоко в гору. А руководил той посадкой садовник Данилыч, он и тогда уже был старый. Но он и теперь работал в парке старшим садовником, хотя стал уже совсем ветхим. И вот он разросся, этот парк, и стал любимым местом отдыха для взрослых, а для молодежи он был даже не местом, а самой жизнью в пору ее юного цветения, он рос вместе с ними, он был юн, как они, но его зеленые кроны уже шумели на ветру, и в солнечные дни там уже было тенисто и можно было найти таинственные укромные уголки, а ночью, под луной, он был прекрасен, а в дождливые осенние ночи, когда опадал мокрый желтый лист, виясь и шурша во тьме, там было даже страшновато, в этом парке. Так росла молодежь вместе со своим парком, вместе со своим городом и по-своему крестила его районы, слободки, улицы.
Отстроят новые бараки, – это место так и назовут: «Новые бараки». Уже и бараков никаких нет, уже каменные дома вокруг, но название переживает то, что его породило. До сих пор существует окраина «Голубятники». Когда-то это были три деревянные хибарки на отлете и мальчишки водили там голубей, теперь там тоже стандартные дома. «Чурилино» – это и вовсе был один домик, где жил шахтер Чурилин. «Сеняки» – там был раньше сенной двор. «Деревянная» – это совсем отдельная улица за переездом, за парком, она так и осталась отдельной от всего города, и домики остались те же, деревянные, и там живет девушка Валя Борц с темно-серыми глазами и русыми золотистыми косами, самолюбивая девушка, не старше семнадцати лет. «Каменная» – это улица первых стандартных каменных домов. Теперь таких домов много, но только эту улицу называют «Каменной»: она была первой. А «Восьмидомики» – это уже целый район, несколько улиц на том месте, где стояло всего восемь таких стандартных домиков.
Со всех концов нашей земли стекаются люди в Донбасс. И первый вопрос у них: где жить? Китаец Ли Фанча слепил себе на пустыре жилье из глины и соломы, а потом стал лепить комнатки, одну к другой, как соты, и сдавать их внаем, пока пришлые люди не поняли, что незачем снимать комнатки у Ли Фанчи, можно слепить свои. Так образовался обширный район лепящихся друг к другу мазанок, – этот район назвали Шанхаем. Потом такие же мазанки-соты возникли вдоль всей балки, разделяющей город, и на пустырях вокруг города, и эти гнезда мазанок стали называть «шанхайчиками».
С той поры как была пущена в ход самая крупная в районе шахта № 1-бис, заложенная как раз между хутором Сорокиным и бывшим поселком Ярманкиным, город Краснодон снова стал разрастаться в сторону хутора Сорокина и почти слился с ним. Так хутор Сорокин, давно уже сросшийся с соседними более мелкими хуторами, превратился в поселок Первомайский – один из районов города.
От других районов города его отличало только то, что здесь большинство жилых домиков осталось от прежних казачьих хуторов, – это были собственные домики, каждый на свой манер, и среди населения здесь по-прежнему было много казаков, работавших не на шахтах, а на степи, сеявших хлеб и объединившихся в несколько колхозов.
Едва Уля вышла на ворошиловградское шоссе, по которому в направлении на восток по прежнему двигался почти сплошной поток воинских частей, машин, беженцев, как почти над самой головой, ревя моторами, один за другим прошли три немецких пикировщика. Толпа бойцов и беженцев, раздвоившись, хлынула в обе стороны шоссе, – кто бросился ничком в канаву, кто привалился к завалинке дома или прижался к стенке.
Уля, которую едва не сшибли с ног, мрачно проводила глазами этих раскрашенных птиц, с черной свастикой на распластанных крыльях, – летевших так низко, что казалось, они обдали ее ветром. Пикировщики уже где-то за городом дали несколько коротких пулеметных очередей по шоссе и скрылись в режущем глаза от солнечного блеска воздухе. И только через несколько минут послышались вдали глухие взрывы, – должно быть, пикировщики бомбили переправу на Донце.
В поселке Первомайском все ходуном ходило. Навстречу Уле неслись подводы, бежали целые семьи. Она знала всех этих людей, как и они знали ее, но никто не смотрел на нее, не заговаривал с ней.
– Эй ты, в шляпе! Гляди-ка, сколько на жинку навалил, а сам пустой идешь! – кричала она. – Жинка у тебя вон какая маленькая. Еще шляпу надел!.. Горе мне с тобой!.. Ты что, бабушка, под шумок колхозные огурцы ешь? – кричала она старухе на возу. – Думаешь, советская власть уходит, так уже тебе и не отчитаться ни перед кем? А бог на небе? Он, думаешь, не видит? Он все видит!..
Никто не обращал на ее реплики внимания, и она не могла не видеть этого, – похоже было, что она восстанавливает справедливость для собственного развлечения. Ее бесстрашие и спокойствие так понравились Уле, что Уля почувствовала мгновенное доверие к этой девушке и обратилась прямо к ней.
– Люба, я комсомолка с Первомайки, Ульяна Громова. Скажи мне, почему такая паника?
– Обыкновенная паника, – охотно сказала Любка, дружелюбно обратив свои голубые сияющие и дерзкие глаза на Улю. – Наши оставили Ворошиловград, оставили еще на заре. Получен приказ немедленно эвакуироваться всем организациям…
– А райком комсомола? – упавшим голосом спросила Уля.
– Ты что, пентюх облезлый, девчонку бьешь? У, злыдень! Вот выйду, наподдам тебе! – тоненьким голоском завопила Любка какому-то мальчишке в толпе. – Райком комсомола? – переспросила она. – Райком комсомола, он, как и полагается, в авангарде, он еще на заре выехал… Ну что ты, девушка, глаза вылупила? – сердито сказала она Уле. Но вдруг взглянула на Улю и, поняв, что происходило в ее душе, улыбнулась: – Я шутю, шутю… Ясно, приказали ему, вот он и выехал, не сбежал. Ясно тебе?
– А как же мы? – вдруг вся переполняясь мстительным чувством, гневно спросила Уля.
– А ты, стало быть, тоже уезжай. Команда такая еще с утра дана. Где ж ты была с утра?
– А ты? – в упор спросила Уля.
– Я?.. – Люба помолчала, и умное лицо ее вдруг приняло постороннее, безразличное выражение. – А я еще посмотрю, – сказала она уклончиво.
– А ты разве не комсомолка? – настойчиво спрашивала Уля, и ее большие черные глаза с сильным и гневным выражением на мгновение встретились с прищуренными, настороженными глазами Любки.
– Нет, – сказала Любка, чуть поджав губы, и отвернулась. – Папка! – вскрикнула она и, распахнув калитку, побежала на своих высоких каблучках навстречу группе людей, которые, заметно выделяясь среди толпы, испуганно и с каким-то неожиданным почтением расступавшейся перед ними, шли сюда, к дому.
Впереди шли директор шахты № 1-бис, Валько, плотный, бритый мужчина лет пятидесяти, в пиджаке и сапогах, с лицом мрачным и черным, как у цыгана, и известный всему городу знатный забойщик той же шахты Григорий Ильич Шевцов. За ними шло еще несколько шахтеров и двое военных. А позади, на некотором расстоянии, катилась сборная, из разных людей, толпа любопытных: даже в самые необычные и тяжелые моменты жизни среди людей находится известное число просто любопытных.
Григорий Ильич и другие шахтеры были в спецовках с откинутыми башлыками. Их одежда, лица, руки были все в угле. Один из них нес через плечо тяжелый моток электрического кабеля, другой – ящик с инструментами, а в руках у Шевцова был какой-то странный металлический аппарат с торчащими из него концами обнаженного провода, похожий не то на радиоприемник, не то на телеграфный передатчик. Они шли молча и точно боясь встретиться глазами с кем-либо из толпы и друг с другом. Пот, оставляя борозды, катился по их измазанным углем лицам. И лица их были такие измученные, точно эти люди несли на себе непомерную тяжесть. И Уля вдруг поняла, почему, несмотря на такую сумятицу, все люди на улице загодя испуганно расступались перед ними, – вся дорога была перед ними свободна. Это были люди, которые собственными руками взорвали шахту № 1-бис – гордость Донецкого бассейна.
Любка подбежала к Григорию Ильичу, взяла его за темную жилистую руку своей маленькой белой ручкой, которую он сразу крепко сжал, и пошла рядом с ним. «Шевцова дочка?» – недоумевала Уля.
В это время шахтеры во главе с директором шахты Валько и Шевцовым подошли к калитке и с явным облегчением сбросили через заборчик в палисадник, прямо на цветы, предметы, которые они несли, – моток кабеля, ящик с инструментами и этот странный металлический аппарат. И стало ясно, что все эти цветы, высаженные с такой любовью, как и вся та жизнь, при которой возможны были и эти цветы, и многое другое, – все это было уже кончено.
Люди сбросили все эти предметы и некоторое время постояли, не глядя друг на друга, в какой-то неловкости.
– Ну что ж, Григорий Ильич, сбирайся швидче, машина на мази, людей посажу и всем гамузом за тобой, – сказал Валько, не подымая на Шевцова глаз из-под своих широких и сросшихся, как у цыгана, бровей.
И он в сопровождении шахтеров и военных медленно пошел дальше по улице.
У калитки остались Григорий Ильич с дочкой, которую он по-прежнему держал за руку, и старик-шахтер с прокуренными до желтизны, редкими, точно выщипанными усами и бородкой, до крайности высохший и голенастый. И Уля, на которую они не обращали внимания, тоже стояла рядом, словно решение вопроса, который ее мучил, она могла получить только здесь. Люди в толпе, сшибаясь, бранясь и плача, по-прежнему шли по всем направлениям, и никого уже не было из тех, кого могли бы заинтересовать эти стоящие у калитки двое мужчин и две девушки.
– Любовь Григорьевна, кому сказано? – сердито сказал Григорий Ильич, взглянув на дочь, не отпуская, однако, ее руки.
– Сказала, не поеду, – угрюмо отозвалась Любка.
– Не дури, не дури, – явно волнуясь, тихо сказал Григорий Ильич. – Как можешь ты не ехать? Комсомолка…
Любка, вспыхнув, вскинула глаза на Улю, но в лице ее тотчас появилось строптивое, даже нахальное выражение.
– Комсомолка без году неделя, – сказала она, поджав губы. – Кому я что сделала? И мне ничего не сделают… Мне мать жалко, – добавила она тихо.
«Отреклась от комсомола!» – вдруг с ужасом подумала Уля. Но в то же мгновение мысль о собственной больной матери жаром отозвалась в груди ее.
– Ну, Григорий Ильич, – таким страшным низким голосом, что удивительно было, как он выходил из такого высохшего тела, сказал старик, – пришло время нам расставаться… Прощай… – и он прямо посмотрел в лицо Григорию Ильичу, стоявшему перед ним со склоненной головой.
Григорий Ильич молча стащил с головы кепку. У него были светло-русые волосы и худое, с глубокими продольными бороздами, лицо пожилого русского мастерового, с голубыми глазами. Хотя он был уже не молод и одет был в эту неуклюжую спецовку и лицо, и руки его были в угле, чувствовалось, что он хорошо сложен и крепок, и красив старинной русской красотой.
– А может, рисканешь с нами? А? Кондратович? – спросил он, не глядя на старика и явно конфузясь.
– Куда же нас со старухой? Пущай уж нас наши дети с Красной Армией вызволяют.
– А старший твой что ж? – спросил Григорий Ильич.
– Старший? О нем что ж и говорить, – сумрачно сказал старик и махнул рукой с таким выражением, как будто хотел сказать: «Ведь ты и сам знаешь мой позор, зачем же спрашиваешь?» – Прощай, Григорий Ильич, – печально сказал он и протянул Шевцову высохшую, когтистую руку.
Григорий Ильич подал свою. Но что-то было еще недосказано ими, и они, держа друг друга за руку, еще постояли некоторое время.
– Да… что ж… Моя старуха и, вишь, дочка тоже остаются, – медленно говорил Григорий Ильич. Голос его вдруг пресекся. – Как это мы ее, Кондратович? А?.. Красавицу нашу… Всей, можно сказать, страны кормилицу… Ах!.. – вдруг необыкновенно тихо выдохнул он из самой глубины души, и слезы, сверкающие и острые, как кристаллы, выпали на его измазанное углем лицо.
Старик, хрипло всхлипнув, низко наклонил голову. И Любка заплакала навзрыд.
Уля, кусая губы, не в силах удержать душившие ее слезы бессильной ярости, побежала домой, на Первомайку.
Глава 3
Поселок Первомайский был самым старым шахтерским поселком в этом районе, – от него, собственно, и начался город Краснодон. Первомайским, или, в просторечии Первомайкой, он стал называться с недавнего времени. В прежние времена, когда уголь в этих местах еще не был обнаружен, здесь расположены были казачьи хутора, самым крупным из которых считался хутор Сорокин.
Уголь открыли здесь в начале века. Первые шахтенки, закладывавшиеся по пласту, были наклонные и такие маленькие, что уголь подымали конными или даже ручными воротками. Шахтенки принадлежали разным хозяевам, но по старой памяти весь рудник называли – рудник Сорокин.
Шахтеры, выходцы из центральных русских губерний и с Украины, селились по хуторам у казаков, роднились с ними, да и сами казаки уже работали на шахтах. Семьи разрастались, делились, строились рядом.
Закладывались новые шахты – за длинным холмом, по которому пролегает теперь ворошиловградское шоссе, и дальше за балкой, что разделяет теперь город Краснодон на две неравные части. Эти новые шахты принадлежали одинокому помещику Ярманкину, или «бешеному барину», поэтому и новый поселок, возникший вокруг шахт, первое время назывался в просторечии поселок Ярманкин или «Бешеный». Дом самого «бешеного барина» – каменный серый одноэтажный дом, в одной половине которого был разбит зимний сад с диковинными растениями и заморскими птицами, в те времена один стоял на высоком холме за балкой, открытый всем ветрам, и его тоже называли «бешеным». Уже при советской власти, в годы первой и второй пятилеток, в этом районе были заложены новые шахты, и центр рудника Сорокина переместился в ту сторону, застроился стандартными домиками, крупными зданиями учреждений, больниц, школ, клубов. На холме, рядом с домом «бешеного барина», выросло красивое, с крыльями, с высаженными перед главным подъездом молодыми деревцами, здание районного исполкома. А в самом доме «бешеного барина» разместилась проектная контора треста «Краснодонуголь», служащие которой уже и понятия не имели, что это за дом такой, где они проводят третью часть своей жизни. Так рудник Сорокин превратился в город Краснодон.
Уля, ее подруги и товарищи по школе росли вместе со своим городом. Совсем еще маленькими школьницами и школьниками в праздник древонасаждения они участвовали в посадке деревьев и кустов на заваленном мусорными кучами и заросшем лопухами пустыре, отведенном городским советом под парк. Мысль о том, что здесь должен быть парк, возникла среди старых комсомольцев – тех еще поколений, что помнили «бешеного барина», поселок Ярманкин, первую немецкую оккупацию и гражданскую войну. Некоторые из них и сейчас работали в Краснодоне, – у иных уже седина пробрызнула в волосах или в казацком буденновском усе, – но в большинстве жизнь разбросала их по всей нашей земле, а кое-кто полез высоко в гору. А руководил той посадкой садовник Данилыч, он и тогда уже был старый. Но он и теперь работал в парке старшим садовником, хотя стал уже совсем ветхим. И вот он разросся, этот парк, и стал любимым местом отдыха для взрослых, а для молодежи он был даже не местом, а самой жизнью в пору ее юного цветения, он рос вместе с ними, он был юн, как они, но его зеленые кроны уже шумели на ветру, и в солнечные дни там уже было тенисто и можно было найти таинственные укромные уголки, а ночью, под луной, он был прекрасен, а в дождливые осенние ночи, когда опадал мокрый желтый лист, виясь и шурша во тьме, там было даже страшновато, в этом парке. Так росла молодежь вместе со своим парком, вместе со своим городом и по-своему крестила его районы, слободки, улицы.
Отстроят новые бараки, – это место так и назовут: «Новые бараки». Уже и бараков никаких нет, уже каменные дома вокруг, но название переживает то, что его породило. До сих пор существует окраина «Голубятники». Когда-то это были три деревянные хибарки на отлете и мальчишки водили там голубей, теперь там тоже стандартные дома. «Чурилино» – это и вовсе был один домик, где жил шахтер Чурилин. «Сеняки» – там был раньше сенной двор. «Деревянная» – это совсем отдельная улица за переездом, за парком, она так и осталась отдельной от всего города, и домики остались те же, деревянные, и там живет девушка Валя Борц с темно-серыми глазами и русыми золотистыми косами, самолюбивая девушка, не старше семнадцати лет. «Каменная» – это улица первых стандартных каменных домов. Теперь таких домов много, но только эту улицу называют «Каменной»: она была первой. А «Восьмидомики» – это уже целый район, несколько улиц на том месте, где стояло всего восемь таких стандартных домиков.
Со всех концов нашей земли стекаются люди в Донбасс. И первый вопрос у них: где жить? Китаец Ли Фанча слепил себе на пустыре жилье из глины и соломы, а потом стал лепить комнатки, одну к другой, как соты, и сдавать их внаем, пока пришлые люди не поняли, что незачем снимать комнатки у Ли Фанчи, можно слепить свои. Так образовался обширный район лепящихся друг к другу мазанок, – этот район назвали Шанхаем. Потом такие же мазанки-соты возникли вдоль всей балки, разделяющей город, и на пустырях вокруг города, и эти гнезда мазанок стали называть «шанхайчиками».
С той поры как была пущена в ход самая крупная в районе шахта № 1-бис, заложенная как раз между хутором Сорокиным и бывшим поселком Ярманкиным, город Краснодон снова стал разрастаться в сторону хутора Сорокина и почти слился с ним. Так хутор Сорокин, давно уже сросшийся с соседними более мелкими хуторами, превратился в поселок Первомайский – один из районов города.
От других районов города его отличало только то, что здесь большинство жилых домиков осталось от прежних казачьих хуторов, – это были собственные домики, каждый на свой манер, и среди населения здесь по-прежнему было много казаков, работавших не на шахтах, а на степи, сеявших хлеб и объединившихся в несколько колхозов.
Едва Уля вышла на ворошиловградское шоссе, по которому в направлении на восток по прежнему двигался почти сплошной поток воинских частей, машин, беженцев, как почти над самой головой, ревя моторами, один за другим прошли три немецких пикировщика. Толпа бойцов и беженцев, раздвоившись, хлынула в обе стороны шоссе, – кто бросился ничком в канаву, кто привалился к завалинке дома или прижался к стенке.
Уля, которую едва не сшибли с ног, мрачно проводила глазами этих раскрашенных птиц, с черной свастикой на распластанных крыльях, – летевших так низко, что казалось, они обдали ее ветром. Пикировщики уже где-то за городом дали несколько коротких пулеметных очередей по шоссе и скрылись в режущем глаза от солнечного блеска воздухе. И только через несколько минут послышались вдали глухие взрывы, – должно быть, пикировщики бомбили переправу на Донце.
В поселке Первомайском все ходуном ходило. Навстречу Уле неслись подводы, бежали целые семьи. Она знала всех этих людей, как и они знали ее, но никто не смотрел на нее, не заговаривал с ней.