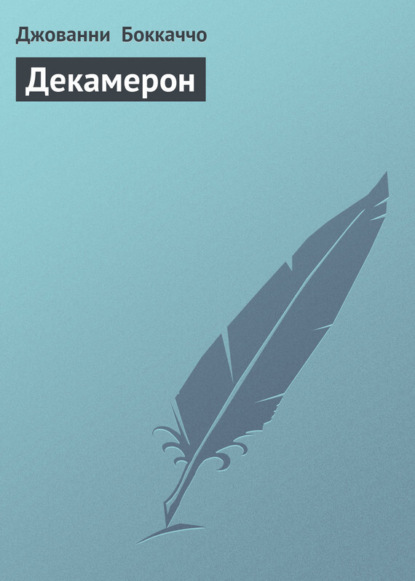По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Декамерон
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда Филомена, окончив свой рассказ, умолкла, а Дионео в милых выражениях похвалил и остроумие дамы и моление, сказанное под конец Филоменой, королева поглядела, смеясь, на Памфило и сказала: «Теперь, Памфило, продолжай наше удовольствие каким-нибудь веселым рассказом». – «Охотно», – быстро ответил Памфило и начал так: – Мадонна, много есть людей, которые, стараясь попасть в рай, не замечая того, посылают туда других, что и случилось с одной из наших соседок немного времени тому назад, как вы это и узнаете.
Как мне довелось слышать, вблизи Сан Бранкацио проживал хороший и богатый человек, по имени Пуччьо ди Риньери, который впоследствии, совсем предавшись благочестию, стал братом третьего разряда ордена св. Франциска и был наречен братом Пуччьо. Следуя своему духовному влечению и не имея иной семьи, кроме жены и прислужницы, потому и не имея надобности промышлять чем-либо, он часто ходил в церковь. Слабоумный и неотесанный, он твердил свой «Отче наш», слушал проповеди, выстаивал обедни, никогда не пропускал случая быть на духовном пении мирян, постился и бичевался, и под рукою говорили, что он принадлежал к секте бичующихся.
Жена его, по имени Изабетта, еще молодая, двадцати восьми – тридцати лет, свежая и красивая, пухленькая, как красное яблочко, по святости мужа, а может быть, и по его старости, очень часто выдерживала более продолжительную диету, чем того желала, и когда ей хотелось спать, а может быть, и позабавиться с ним, он рассказывал ей про жизнь Христа, или проповеди брата Настаджио, или о плаче Магдалины и другие подобные вещи. Вернулся в это время из Парижа один монах, по имени Дон Феличе, принадлежавший к монастырю св. Бранкацио, очень молодой, красивый собою, острого ума и глубоких знаний, с которым тесно сблизился брат Пуччьо. И так как он очень хорошо разрешал каждое его сомнение и, кроме того, уразумев его настроение, выказывал себя перед ним святым человеком, то брат Пуччьо стал иногда водить его к себе и приглашать то к обеду, то к ужину, смотря как приходилось; также и жена брата Пуччьо из любви к мужу сдружилась с ним и охотно его чествовала. Посещая, таким образом, дом брата Пуччьо и видя жену его такой свежей и кругленькой, монах догадался, в чем она наиболее ощущала недостаток, и задумал, коли возможно, свалив работу с брата Пуччьо, взять ее на себя. Раз и другой косясь на нее довольно плутовато, он таки добился того, что зажег в ее сердце то же вожделение, какое было у него. Заприметив это, монах при первом удобном случае переговорил с ней о своем желании, но, хотя он и нашел ее вполне готовой увенчать дело, способа к тому не находилось, потому что она не решалась сойтись с монахом ни в каком месте на свете, кроме своего дома, а дома это было невозможно, так как брат Пуччьо никогда не выезжал из города, что сильно печалило монаха. Долгое время спустя он придумал способ сойтись с своей дамой в ее же доме, не возбуждая подозрения, хотя бы брат Пуччьо был также дома. И вот однажды, когда брат Пуччьо навестил его, он заговорил с ним так: «Я уже не раз замечал, брат Пуччьо, что у тебя одно желание – стать святым, к чему, мне кажется, ты идешь долгим путем, тогда как есть другой, очень короткий, который папа и другие его набольшие прелаты знают, которым и пользуются, но не хотят, чтобы он открыт был другим, потому что духовный чин, живущий более всего подаянием, тотчас был бы разорен, так как миряне не взыскали бы его ни подаянием, ни чем другим. Но так как ты мне друг и много уважил меня, то, если бы я мог быть уверен, что ты никому того пути не откроешь и последуешь по нем, я наставил бы тебя». Брат Пуччьо, сгоравший желанием узнать это, прежде всего стал настоятельно просить, чтобы он наставил его, а затем начал клясться, что никогда, разве он сам того пожелает, никому того не скажет, утверждая, что, если он окажется в силах последовать пути, он тотчас же вступит на него. «Так как ты мне обещаешь это, – ответил монах, – то я тебя научу. Ты должен знать, да и святые отцы учат, что кто хочет стать блаженным, должен совершить покаяние, о котором ты услышишь; но пойми меня хорошенько. Я не хочу сказать, что после покаяния ты бы перестал быть грешником, каков ты есть, но выйдет то, что все грехи, совершенные тобой до времени покаяния, очистятся и будут тебе в силу его отпущены, а те, которые ты натворишь потом, не будут вменены в осуждение тебе, а сойдут святой водой, как теперь сходят подлежащие отпущению. Итак, тебе следует главнейше с великим усердием исповедать свои прегрешения, как начнется покаянный искус; затем тебе надлежит начать пост и величайшее воздержание, которое должно продолжаться сорок дней, в которые не только от другой женщины, но следует воздержаться от общения и с своей собственной женой. Кроме того, необходимо иметь в своем доме какое-нибудь место, откуда ты мог бы ночью видеть небо и в час повечерия пойти туда, и чтобы там был стол очень широкий, прилаженный так, чтобы, стоя, ты мог прислониться к нему поясницей и, держа ноги на земле, распростирать руки как бы распятый; если бы ты пожелал поддержать их какими-либо гвоздями, то можешь это сделать. Таким образом, глядя на небо, ты должен стоять, не двигаясь, до утрени. Будь ты грамотный – тебе подобало бы прочесть в это время некоторые молитвы, которые я дал бы тебе, но так как ты не таков, тебе следует триста раз сказать „Отче наш“ и триста раз „Богородицу“ в честь св. Троицы, и, глядя на небо, постоянно держать на памяти Господа, Создателя неба и земли, и страсти Христовы, стоя в таком же положении, в каком был Он на кресте. Затем, когда зазвонят к заутрени, ты можешь, если хочешь, пойти и так, не раздеваясь, броситься на кровать и заснуть, а на следующее утро отправиться в церковь и там простоять по крайней мере три обедни и перечитать пятьдесят раз „Отче наш“ и столько же „Богородицу“; после этого в простоте сердца отбыть кое-какие твои дела, если есть таковые, а затем обедать, а потом пойти к вечерне в церковь и там сказать некоторые молитвы, которые я напишу тебе и без которых обойтись нельзя, а уже затем около повечерия снова начать по-сказанному. Совершая это, как я когда-то сам совершал, надеюсь, что, прежде чем наступит конец покаяния, ты ощутишь чудесное состояние вечного блаженства, если с благочестием все исполнишь». Брат Пуччьо тогда ответил: «Это не слишком трудно и не долгое дело и его можно очень хорошо исполнить, почему я и хочу во имя Божие начать с воскресенья».
Оставив его и придя домой, он по порядку, с разрешения монаха, рассказал все своей жене. Та очень хорошо поняла, из неподвижного стояния до утрени, что разумел монах, и так как все это ей показалось очень удобным, она ответила, что как этим, так и всяким другим благим делом, которое он предпринимает для спасения своей души, она довольна и что для того, чтобы Бог сделал его покаяние плодотворным, она готова поститься с ним, но проделать все остальное отказывается. Согласившись на этом, брат Пуччьо, когда настало воскресенье, начал свое покаяние, господин монах, уговорившись с его женой, в час, когда никто не мог увидеть его, приходил к ней почти каждый вечер ужинать, всегда принося с собою кое-чего, чтобы можно было хорошо поесть и хорошо выпить, затем ложился с нею до утрени, когда, поднявшись, уходил, а брат Пуччьо возвращался на кровать.
Место, которое брат Пуччьо выбрал для своего покаяния, находилось рядом с комнатой, где спала жена, и ничем не отделялось от нее, как лишь тончайшею стеною; вследствие того, когда монах уже слишком невоздержно забавлялся с женою, а она с ним, брату Пуччьо показалось, что он чувствует какое-то сотрясение пола, почему, проговорив уже сто раз «Отче наш», он остановился и, не двигаясь, окликнув жену, спросил ее, что она делает. Та, большая шутница, оседлав, быть может, в это время коня св. Бенедикта либо св. Иоанна Гвальберта, отвечала: «Друг мой, я верчусь, как только могу». Тогда брат Пуччьо сказал: «Как же это ты вертишься? К чему это верчение?» Та, смеясь и весело (удалая она была; может быть, был и повод к смеху), ответила: «Неужели вы не знаете, что это значит? Я тысячу раз слыхала, как вы говорили сами: кто без ужина ложится, тот всю ночку провертится». И поверил брат Пуччьо, что пост – причина ее бессонницы, и потому она так вертится на кровати; почему он простодушно сказал: «Жена, говорил я тебе – не постничай, но так как ты все-таки захотела этого – не думай о том и постарайся отдохнуть; ты так скачешь по постели, что трясешь все, что ни на есть в доме!» Тогда жена ответила: «Не беспокойся о том, я хорошо знаю, что делаю, делай ты свое дело хорошенько, а я уж постараюсь так хорошо, как могу». Брат Пуччьо умолк и принялся за свой «Отче наш», а жена с господином монахом с этой ночи и впредь, велев изготовить постель в другой части дома, пребывали в ней, пока шло покаяние брата Пуччьо, в величайшем веселии, и когда монах уходил, жена возвращалась на свою кровать, а вскоре затем туда же возвращался с покаяния брат Пуччьо.
Когда таким образом продолжалось и покаяние брата Пуччьо и удовольствие жены его с монахом, она, шутя, не раз ему говорила: «Ты заставляешь брата Пуччьо нести покаяние, которым мы обрели рай». И так как ей было хорошо, она, долгое время продержавшись на диете у мужа, настолько привыкла к монашескому корму, что, хотя покаяние брата Пуччьо и кончилось, она нашла возможность в другом месте угощаться с монахом и долгое время осмотрительно пользовалась им в свое удовольствие. Таким образом (дабы последние слова рассказа не разногласили с первыми) и вышло, что в то время как брат Пуччьо, исполняя покаяние, думал попасть в рай, он отправил туда монаха, указавшего ему короткую дорогу, и жену, жившую при нем в большом недостатке того, чем монах, как человек милосердный, наделял ее в изобилии.
Новелла пятая
Зи?ма дарит свою парадную лошадь мессеру Франческо Верджеллези и за это, с его согласия, говорит с его женой; когда она молчит, он отвечает за нее от ее же лица, и все совершается согласно с его ответом
Когда Памфило кончил новеллу о брате Пуччьо, не без того, чтобы не вызвать смеха у дам, королева с достоинством приказала Елизе продолжать. Она, насмешливая, не по злорадству, а по старой привычке, начала говорить таким образом: – Многие, много знающие, полагают, что другие не знают ничего, и часто в то время, как они думают провести других, замечают, уже по совершении дела, что сами ими проведены. Потому я считаю большим неразумием, когда кто-нибудь без нужды решается пытать силы чужого ума. Но так как, быть может, не всякий разделит мое мнение, я хочу рассказать вам, следуя установленному порядку, что случилось с одним дворянином из Пистойи.
Был в Пистойе, в роде Верджеллези, один дворянин, по имени мессер Франческо, человек очень богатый, умный, вообще рассудительный, но безмерно скупой, который, долженствуя ехать в Милан в качестве подесты, обзавелся всем нужным, чтобы прилично туда отправиться, исключая верховой лошади, которая была бы ему необходима; не находя ни одной, которая бы ему понравилась, он был этим очень озабочен. Жил тогда в Пистойе некий молодой человек, по имени Риччьярдо, невысокого происхождения, но очень богатый, одевавшийся так изысканно и опрятно, что все звали его обыкновенно Зи?мой (щеголь). Он давно любил жену мессера Франческо, очень красивую и честную даму, и безуспешно увлекался ею. У него была одна из самых красивых в Тоскане верховых лошадей, и он очень дорожил ею за ее красоту. Так как все знали, что он увлечен женою мессера Франческо, то кто-то сказал последнему, что если он попросит у Зимы его лошадь, он получит ее ради любви, которую тот питает к его жене. Мессер Франческо, побуждаемый скупостью, велел позвать к себе Зиму, просил продать ему свою лошадь, рассчитывая, что тот предложит ее ему в дар. Услышав это, Зима обрадовался и сказал ему: «Мессере, если б вы дали мне все, что у вас есть на свете, то и тогда не приобрели бы моей лошади путем купли; но вы можете, коли угодно, получить ее в дар с условием, чтобы, прежде чем отдать вам ее, я мог, с вашего позволения и в вашем присутствии, сказать несколько слов вашей жене, но вдали от всех, так, чтобы меня не слышал никто другой, кроме нее». Дворянин, побуждаемый скупостью, ответил, что согласен, и, оставив его в зале своего дворца, пошел в комнату жены и, рассказав, как легко он может добыть лошадь, приказал ей пойти выслушать Зиму, но чтобы она хорошенько поостереглась отвечать что-либо, ни мало, ни много, на то, что он станет говорить ей. Дама сильно это осудила, но так как ей надо было последовать желанию мужа, сказала, что сделает, и, отправившись за мужем, пошла в залу, чтобы выслушать, что хочет ей сказать Зима. Тот, подтвердив свое соглашение с дворянином, пошел, сел с дамой в одном углу залы, вдали от всех, и начал говорить таким образом: «Доблестная дама, я полагаю и уверен, что вы, при вашем уме, уж давно могли хорошо понять, в какую любовь вовлекла меня ваша красота, которая, без всякого сомнения, превосходит красоту всех женщин, каких только я когда-либо видел. Не говорю о достойных похвалы нравах и высоких добродетелях, которыми вы обладаете, сила которых могла бы покорить всякого, даже высокого духом человека; потому мне нет нужды доказывать словами, что моя любовь была сильнее и пламеннее, чем какую питал когда-либо мужчина к женщине; так, без сомнения, я буду любить, пока моя несчастная жизнь будет поддерживать эти члены; ибо, если и там любят, как здесь, я вечно буду любить вас. Потому вы можете быть уверены, что у вас нет вещи, будь она дорога или ничтожна, которую вы могли бы настолько считать своею и на которую могли бы при всяких обстоятельствах так рассчитывать, как на меня, каков бы я там ни был, а также на все мне принадлежащее. Для того чтобы вы получили тому самое верное доказательство, скажу вам, что я счел бы большей милостью, если б вы приказали мне сделать что-либо, что я могу и вам угодно, чем если б я повелевал, а весь мир мне тотчас повиновался. Итак, если я, как вы слышите, до такой степени весь ваш, я не без основания осмеливаюсь обратить мои мольбы к вашему величию, от которого одного может мне прийти покой, все мое благо, все мое спасение – и не откуда более. Потому, о мое сокровище, единственная надежда моей души, живущей в любовном пламени лишь надеждой на вас, прошу вас, как покорнейший слуга: да будет такова ваша благость, да смягчится ваша суровость, которую прежде вы выказывали мне, вам принадлежащему, дабы, утешенный вашим соболезнованием, я мог сказать, что, как ваша красота внушила мне любовь, так ей же я обязан жизнью, которая, если ваш гордый дух не склонится к моим мольбам, несомненно, угаснет, и я умру, а вас могут назвать моим убийцей. Не говорю, чтоб моя смерть не послужила вам к чести, тем не менее полагаю, что, когда порой ваша совесть станет упрекать вас, вы посетуете, что так поступили, иногда же, лучше настроенная, скажете сами себе: „Увы! Как дурно я сделала, не пожалев моего Зимы!“ Но это раскаяние не послужило бы ни к чему и было бы вам поводом к большей печали. Потому, дабы этого не случилось, пожалейте о том теперь, пока вы можете прийти мне на помощь, и прежде чем мне умереть, склонитесь на милость, ибо от вас одной зависит сделать меня самым радостным или самым печальным человеком из числа живущих. Надеюсь, ваша благость будет такова, что вы не потерпите, чтобы за такую и столь великую любовь я принял в награду смерть, но что радостным и исполненным милости ответом вы утешите мой дух, в смущении трепещущий при взгляде на вас». Затем, умолкнув, он пролил несколько слез вслед за глубоким вздохом и стал ожидать, что скажет ему в ответ благородная дама.
Дама, на которую не подействовало ни долгое ухаживание, ни турниры, ни любовные канцоны на рассвете и ничто подобное, что из любви к ней устраивал Зима, была тронута задушевными словами этого пылкого любовника и ощутила, чего прежде не ощущала вовсе: что такое любовь. И хотя, следуя приказанию мужа, она молчала, тем не менее тот и другой затаенный вздох не в состоянии был скрыть того, что она охотно бы и показала, если бы отвечала Зиме. Обождав несколько и видя, что никакого ответа не последовало, он удивился, а затем стал догадываться о хитрости, употребленной дворянином; но, взглянув в лицо дамы, видя порою блеск обращенных на него взглядов и замечая, кроме того, вздохи, которым она не давала со всею их силой выходить из груди, он возымел некоторую добрую надежду и, ободренный ею, решился на новую попытку, начав от лица дамы, слушавшей его, отвечать самому себе таким образом: «Зима мой, без сомнения, я уже давно заметила, что твоя любовь ко мне велика и совершенна, теперь же из твоих слов я еще более о ней узнала и тем довольна, как и должно мне быть. Тем не менее, если я тебе казалась строгой и жестокой, я не хочу, чтобы ты думал, что в глубине души я была тем, чем казалась по наружности; напротив, я тебя всегда любила, и ты был для меня дороже всего; но мне надлежало так действовать как из боязни другого, так и для охраны моей чести. Но теперь настало время, когда я могу ясно показать тебе, люблю ли я тебя, и вознаградить тебя за любовь, которую ты питал и питаешь ко мне; поэтому утешься и будь в доброй надежде, ибо мессер Франческо должен отправиться через несколько дней в Милан подестою, как то знаешь ты, подаривший ему из любви ко мне свою прекрасную верховую лошадь; лишь только он уедет, я обещаю тебе непременно, на мою веру и ради верной любви, которую к тебе питаю, что спустя немного дней ты будешь со мной и мы доставим нашей любви приятное и полное завершение. А дабы мне в другой раз не говорить тебе об этом деле, я теперь же скажу тебе, что в тот день, когда ты увидишь два полотенца, вывешенных в окне моей комнаты, выходящей в наш сад, вечером к ночи, остерегаясь, чтобы тебя никто не увидел, приходи ко мне через калитку сада; ты найдешь меня, ибо я буду ждать тебя, и мы всю ночь будем в радости и взаимном удовольствии, как ты того желаешь».
Когда Зима так сказал от лица дамы, стал говорить за себя и ответил так: «Дорогая дама, избыток радости, которую доставил мне ваш ответ, так подавил все мои силы, что я едва могу сообразить ответ, чтобы воздать вам подобающую благодарность: да если бы я и мог говорить, как бы желал, я не нашел бы достаточно долгого срока, который дал бы мне возможность поблагодарить вас вполне, как бы хотелось и как должно было бы мне сделать; поэтому я предоставляю на ваше благоусмотрение понять то, чего, несмотря на мое желание, я не могу выразить словами. Скажу вам только, что, как вы мне приказали, так я намерен сделать непременно, и тогда, быть может, более успокоенный великим даром, который вы мне обещали, я постараюсь, по мере сил, воздать вам благодарность, какую смогу. Теперь пока ничего другого не остается сказать; потому, дорогая моя дама, да пошлет вам Господь ту радость и то благо, которого вы наиболее желаете, и да охранит вас Бог». На все это дама не сказала ни слова, потому Зима поднялся и направился к дворянину, который, увидя, что он встал, пошел к нему навстречу и, смеясь, сказал: «Ну, как тебе кажется, сдержал я свое обещание?» – «Нет, мессере, – отвечал Зима, – вы мне обещали дозволить побеседовать с своей женой, а я должен был говорить с мраморной статуей». Эти слова очень понравились дворянину, который, хотя и был хорошего мнения о жене, теперь составил о ней еще лучшее и сказал: «Итак, моя ли теперь парадная лошадь, что была твоею?» На это Зима отвечал: «Да, мессере; но если бы я думал, что извлеку из той милости, которую вы мне оказали, такую пользу, какую я извлек, я отдал бы вам лошадь, не прося о милости. Дал бы Бог, чтобы я поступил так, ибо теперь вы, оказалось, купили лошадь, а я вам ее не продавал». Дворянин посмеялся над этим и, обзаведясь лошадью, через несколько дней отправился в путь и поехал в Милан на должность подесты. Дама, оставшись свободной в своем доме, размыслив о словах Зимы, о любви, которую он к ней питал, о верховой лошади, которую он отдал из любви к ней, и, видя его, часто проходившего мимо ее дома, сказала про себя: «Что я делаю? Зачем теряю свою молодость? Тот отправился в Милан и не возвратится в течение шести месяцев; когда же он вознаградит меня за них? Может быть, когда я буду старухой? Кроме того, когда найду я такого поклонника, как Зима? Я одна, и мне некого бояться; не знаю, почему мне не пожить весело, пока на то есть возможность; не всегда у меня будет такое удобство, как теперь; никто никогда не узнает об этом; но если бы даже это и стало известным, то лучше сделать и покаяться, чем оставаться так и – каяться». Приняв такое решение, она однажды повесила два полотенца на окно, выходившее в сад, как сказал ей Зима. Увидя их, он, сильно обрадовавшись, лишь только наступила ночь, тайно направился один к калитке сада дамы и нашел ее открытой; отсюда он добрался до другой двери, ведшей в дом, где нашел даму, которая его поджидала. Увидя, что он идет, она встала, пошла ему навстречу и приняла его с величайшею радостью; обняв ее и поцеловав сто тысяч раз, он последовал за ней вверх по лестнице; там без промедления они легли и познали конечные цели любви. И хотя это был первый раз, но он не был последним, потому что, пока дворянин был в Милане и по его возвращении, Зима возвращался туда много раз к величайшему утешению как той, так и другой стороны.
Новелла шестая
Риччьярдо Минутоло любит жену Филиппелло Фигинольфи; узнав, что она ревнива, он, рассказав ей, что Филиппелло на следующий день назначил свидание в бане его жене, устраивает так, что сама дама отправляется туда и, воображая, что была с мужем, узнает, что отдалась Риччьярдо
Елизе не оставалось больше ничего прибавить, когда, похвалив остроумие Зимы, королева приказала Фьямметте продолжать, рассказав новеллу. «Извольте, мадонна», – ответила она, смеясь, и начала так: – Нам придется на время оставить наш город, изобилующий как всем вообще, так и прикладами на всякий сюжет, и, как то сделала Елиза, сообщить нечто приключившееся в других областях света. Поэтому, перенесясь в Неаполь, я расскажу вам, как одна из тех святош, которые обнаруживают такое отвращение к любви, была доведена хитростью своего любовника до того, что вкусила плод любви прежде, чем узнала ее цветы; это в одно и то же время даст вам предостережение для случаев, возможных в будущем, и развеселит рассказом о приключившемся.
В Неаполе, городе очень древнем и, может быть, столь приятном, и даже более, чем всякий другой город Италии, жил некогда один молодой человек, славный благородством своего происхождения, блиставший своими богатствами, по имени Риччьярдо Минутоло, который, хотя жена у него была молодая, очень красивая и милая, влюбился в другую, по общему мнению, далеко превосходившую красотой всех неаполитанских дам, по имени Кателлу, жену другого столь же родовитого юноши, по имени Филиппелло Фигинольфи, которого она, женщина честнейшая, любила и лелеяла. Итак, Риччьярдо Минутоло, любя эту Кателлу и делая все то, чем приобретается благосклонность и любовь дамы, и несмотря на это не достигая ни в чем удовлетворения своих желаний, почти приходил в отчаяние; и не умея или не будучи в силах отрешиться от своей любви, он и умереть не умел, и жизнь его не радовала. Когда он находился в таком настроении духа, случилось однажды, что некоторые дамы, его родственницы, стали настоятельно убеждать его отделаться от подобной любви, потому что это труд напрасный, ибо для Кателлы нет другого блага, кроме Филиппелло, которого она до такой степени ревнует, что боится всякой птички, летающей в воздухе, как бы она не отняла его у нее. Риччьярдо, услышав о ревности Кателлы, тотчас же сообразил, как ему достигнуть своих желаний, начал притворяться, что он отчаялся в любви Кателлы и потому перенес ее на другую благородную даму, и стал показывать, что из любви к ней он устраивает и бои и турниры и все то, что он имел обыкновение делать для Кателлы. Прошло немного времени, как почти все неаполитанцы, а также и Кателла пришли к тому мнению, что он любит страстно уже не Кателлу, а эту другую даму; и он так долго это выдержал и так твердо в этом были убеждены все, что не только другие, но и Кателла оставила холодность, с которой относилась к нему из-за любви, которую он прежде изъявлял ей, и дружески, как соседу, кланялась ему, уходя и приходя, как то делала с другими.
Случилось однажды в жаркую пору, что много дам и мужчин, по обычаю неаполитанцев, отправились обществом погулять на берег моря, пообедать там или поужинать. Риччьярдо, зная, что Кателла отправилась туда с своим обществом, тоже пошел с своим, и был приглашен в кружок Кателлы и ее дам, заставив наперед долго просить себя, как будто у него не было особенного желания быть там.
Здесь дамы, а с ними и Кателла, стали шутить над ним по поводу его новой любви, он же, показывая себя сильно влюбленным, давал им тем больший повод к разговорам. По некотором времени, когда дамы разошлись одна сюда, другая туда, как то обыкновенно там бывает, а Кателла с немногими оставалась там, где был и Риччьярдо, он, шутя, бросил ей слово об одной страстишке ее мужа Филиппелло, от чего она внезапно вошла в ревность и вся возгорелась желанием узнать, что хотел сказать Риччьярдо. Некоторое время она сдерживалась, но, не будучи более в состоянии сдержать себя, попросила Риччьярдо, ради его страсти к даме, которую он всего более любит, одолжить ее, разъяснив, что такое он говорил о Филиппелло. Риччьярдо сказал ей: «Вы закляли меня именем такой особы, что я не смею не сделать, о чем вы меня просите, поэтому я готов вам сказать, но лишь под условием, что вы мне пообещаете никогда не говорить об этом ни ему, ни другим, пока не увидите на деле, что то, что я вам расскажу, правда; ибо, если вам угодно, я научу вас, как вам это увидеть». Дама согласилась на то, что он требовал, тем более уверившись, что это правда, и поклялась не говорить о том. Итак, отойдя в сторону, дабы никто не мог их услышать, Риччьярдо начал говорить так: «Мадонна, если бы я вас любил, как любил когда-то, у меня не стало бы духу сказать вам что-либо, что причинило бы вам досаду, но так как эта любовь прошла, то я с меньшим стеснением открою вам всю истину. Я не знаю, оскорблялся ли когда Филиппелло, что я питал к вам любовь, и полагал ли он, что я был любим вами; так или иначе, мне лично он ничего такого не показывал. Теперь же, быть может, выждав время, когда, по его мнению, у меня всего менее подозрений, он, кажется, желает сделать мне то, чего, полагаю, он боялся, чтобы я не учинил ему, то есть хочет склонить к своему желанию мою жену; насколько мне известно, он с недавнего времени тайно осаждает ее многочисленными посланиями, о чем обо всем я от нее узнал, и она отвечала ему, как я ей наказал. Но еще сегодня утром, прежде чем мне отправиться сюда, я застал дома у моей жены, в тесной с нею беседе, одну женщину, которую тотчас же признал за то, чем она и была, почему я позвал жену и спросил, чего та желает. Жена мне сказала: „Это – досаждение от Филиппелло, которое ты взвалил мне на плечи, когда приказал ответить ему и его обнадеживать; он говорит, что желает знать откровенно, как я намерена поступить, а он, коли я пожелаю, устроит так, чтобы я могла тайно сойтись с ним в одной городской бане; об этом он меня просит и досаждает, и если бы ты не заставил меня, не понимаю для чего, войти с ним в эти переговоры, я так бы отделалась от него, что он никогда бы более не глазел, где я“. Тут мне показалось, что он зашел слишком далеко, что не следует больше терпеть, и надо сказать вам, дабы вы знали, какой награды заслужила ваша непреклонная верность, ради которой я был когда-то близок к смерти. А дабы вы не думали, что все это слова и басни, и могли бы, если явится у вас желание, все это увидеть и осязать, я приказал моей жене дать ожидавшей женщине такой ответ, что она готова быть в той бане около девятого часа, когда все спят, после чего та, очень довольная, удалилась. Вы, я думаю, не поверите, что я пошлю туда мою жену; но если бы я был на вашем месте, я сделал бы так, что он принял бы меня за ту, которую ожидал там встретить, и после того, как я провел бы с ним некоторое время, я бы показал ему, с кем он был, и учествовал его так, как ему подобает; поступив таким образом, я полагаю, вы так бы пристыдили его, что оскорбление, которое он хочет нанести вам и мне, было бы разом отомщено».
Кателла, слушая это и, по обычаю ревнивых, не обращая никакого внимания ни на то, кто это ей говорит, ни на его коварство, тотчас же поверив его словам, принялась сопоставлять с этим случаем разные другие, бывшие прежде, и, внезапно воспламенясь гневом, отвечала, что она непременно это сделает, что сделать это ей будет не так уж тягостно и что если он придет, она наверно так пристыдит его, что всякий раз, как он увидит потом женщину, ему будет приходить это в голову. Риччьярдо, довольный этим и видя, что его затея хороша и удается, многими другими речами утвердил ее в ее намерении и упрочил уверенность, прося тем не менее не говорить никогда, что она это узнала от него, что она и пообещала ему на своей чести.
На следующее утро Риччьярдо отправился к одной досужей женщине, державшей баню, о которой он говорил Кателле; он рассказал ей, что намерен сделать, и просил быть в этом случае, насколько может, ему помощницей. Женщина, будучи ему очень обязанной, сказала, что охотно это исполнит, и условилась с ним, что ей говорить и делать. В доме, где находились бани, была одна очень темная комната, так как в нее не выходило ни одного окна, через которое мог бы проникать свет; согласно наставлению Риччьярдо, женщина устроила ее и поставила в ней постель, какую могла лучше, в которой Риччьярдо и лег, поужинав, и стал ожидать Кателлу.
Дама, выслушав слова Риччьярдо и придав им более веры, чем то было нужно, полная негодования возвратилась вечером к себе, где случайно Филиппелло, вернувшись с своей стороны, занятый другими мыслями, не оказал ей, быть может, такого дружеского приема, с каким обыкновенно он ее встречал. Видя это, она стала подозревать его еще больше прежнего, говоря про себя: «Действительно, у него в мыслях та дама, с которой завтра он думает найти удовольствие и наслаждение; но этому наверно не бывать». С этой мыслью, раздумывая, что она ему скажет, когда пробудет с ним, она провела почти всю ночь.
Сказывать ли далее? Когда настал девятый час, Кателла, взяв с собой свою служанку и не изменяя ни в чем своему намерению, отправилась в те бани, какие указал ей Риччьярдо; там, найдя ту женщину, она спросила, не приходил ли сюда сегодня Филиппелло? На это женщина, наученная Риччьярдо, сказала: «Не вы ли дама, которая должна прийти, чтобы поговорить с ним?» Кателла ответила: «Да, я самая». – «В таком случае, – сказала женщина, – пожалуйте к нему». Кателла, искавшая, чего не желала бы найти, велев отвести себя в комнату, где находился Риччьярдо, вошла туда с покрытой головой и заперла за собою дверь. Риччьярдо, видя, что она вошла, с радостью встал и, приняв ее в свои объятия, тихо сказал: «Добро пожаловать, душа моя!» Кателла, чтобы лучше притвориться не тою, чем была, обняла его и поцеловала и очень обласкала, не произнеся ни слова, из боязни быть им узнанной, если заговорит. Комната была очень темна, чем каждый из них был доволен; даже от долгого пребывания в ней глаза не приглядывались ни к чему. Риччьярдо повел ее на постель, и там, ничего не говоря, дабы голоса нельзя было распознать, они долго оставались к большему удовольствию и утехе одной, чем другой стороны. Но когда Кателле показалось, что настало время выразить затаенное негодование, она, разгоряченная пылким гневом, начала говорить так: «Увы, как несчастна судьба женщин и как дурно расточают многие из них свою любовь к мужьям! Вот я, несчастная, уже восемь лет как люблю тебя больше жизни, а ты, как вижу, весь сгораешь и томишься любовью к посторонней женщине, преступный ты злодей! С кем думаешь провел ты время? С тою, которую благодаря лживым ласкам ты так долго обманывал, показывая ей любовь, но будучи влюблен в другую. Я – Кателла, а не жена Риччьярдо, бесчестный ты изменник! Прислушайся, не узнаешь ли ты мой голос? Ведь это я; тысячелетием кажется мне время, отделяющее нас от света, чтобы мне можно было пристыдить тебя, как ты того заслуживаешь, грязный ты, подлый пес! Увы, бедная я, к кому в течение стольких лет я питала такую любовь? К этому мерзкому псу, который, полагая, что держит в объятиях другую женщину, оказал мне более ласки и любви в столь короткий срок, проведенный мною с ним, чем во все остальное время, как я ему принадлежала. Ты сегодня очень был силен, поганый ты пес, а дома оказываешься обыкновенно таким вялым и бессильным! Но хвала Богу, ты обработал свое поле, не чужое, как ты предполагал. Я не удивляюсь, что в эту ночь ты не приближался ко мне. Ты намеревался свалить тяжесть на стороне, и тебе хотелось явиться свежим всадником на поле битвы. Но, благодарение Богу и моей предусмотрительности, вода все же пошла по течению, как и надлежало. Почему же не отвечаешь ты, преступный человек? Почему не скажешь чего-нибудь? Или ты онемел, слушая меня? Ей-богу, не знаю, что удерживает меня всадить мои ногти в твои глаза и вырвать их. Ты рассчитывал очень скрытно устроить эту измену; но слава Богу, что знает один, узнает и другой; тебе не это удалось: я послала по твоим следам лучших собак, чем ты думал».
Риччьярдо радовался про себя этим словам и, ничего не отвечая, обнимал ее, целовал и расточал ласки пуще прежнего. Поэтому она продолжала речь, говоря: «Да, теперь ты думаешь задобрить меня твоими притворными ласками, постылый ты пес, успокоить и утешить меня, но ты ошибаешься. Я никогда не утешусь этим, пока не опозорю тебя в присутствии всех наших родственников и друзей, какие только есть. Но разве, злой ты человек, я не так же красива, как жена Риччьярдо Минутоло? Не такая же благородная? Отчего ты не отвечаешь, грязный ты пес? Чего у нее больше, чем у меня? Убирайся, не трогай меня, ведь ты уж слишком много поратовал. Я хорошо знаю, что теперь, когда тебе известно, кто я, ты принялся бы делать насильно то, что делал; но по милости Божией я еще заставлю тебя попоститься. Не понимаю, почему мне не послать за Риччьярдо, который любил меня больше самого себя и не мог похвалиться, чтобы я хотя бы раз на него взглянула; а какое было бы от того зло, если б я так поступила? Ты думал иметь здесь дело с его женой, и кабы имел ее, не за тобой стало бы дело; потому, если бы он стал моим, у тебя не было бы основания осуждать меня». Много было еще речей и упреков со стороны дамы; однако же, наконец, Риччьярдо, сообразив, что если он дозволит ей удалиться в этом убеждении, то может произойти много зла, решил объявиться и вывести ее из заблуждения, в каком она находилась; обняв ее и обвив ее так, что она не могла уйти, он сказал: «Душа моя, не гневайтесь; чего я, любя вас, попросту не мог получить, то научил меня добыть обманом Амур; я – ваш Риччьярдо».
Услышав это и узнав голос, Кателла хотела мгновенно вскочить с постели, но не могла; поэтому она собралась закричать, но Риччьярдо, закрыв ей рот рукою, сказал: «Мадонна, теперь уже нельзя устроить так, чтобы не было того, что совершилось, хотя бы вы кричали всю вашу жизнь, если же вы закричите или сделаете как-нибудь так, что о том кто-нибудь где-нибудь узнает, то могут произойти два последствия. Во-первых – и это не может не интересовать вас, – ваша честь и ваша добрая слава будут испорчены, потому что, если бы вы и стали говорить, что я завлек вас сюда обманом, я скажу, что это неправда и что, напротив, я побудил вас прийти сюда, обещая дать денег и подарок, а вы, не получив вполне, как надеялись, рассердились и завели эти пререкания и шум. А вы знаете, что люди более склонны верить дурному, чем хорошему; поэтому мне поверят не менее, чем вам. После этого между вашим мужем и мною возникнет смертельная вражда, и может так случиться, что или я его убью, или он меня, от чего вам не будет потом ни веселья, ни удовлетворения. Поэтому, сердце мое, откажитесь от намерения в одно и то же время и себя опозорить и вовлечь в опасность и ссору вашего мужа и меня. Вы не первая, которая была обманута, и не будете последней, я же обманул вас не с тем, чтобы отнять у вас то, что вам принадлежит, а вследствие избытка любви, какую я питаю к вам и склонен питать всегда, оставаясь вашим нижайшим слугою. И так как я сам, и все мое, и все, что я смогу и чего стою, уже давно было вашим и к вашим услугам, я хочу, чтобы с этого времени и впредь все это было еще более таковым. Вы, рассудительная во всем, будете, я уверен, такою же и в этом случае».
Пока Риччьярдо держал эту речь, Кателла сильно плакала, и хотя была очень разгневана и распространялась в упреках, тем не менее рассудок указывал ей справедливость слов Риччьярдо, и она поняла, что может приключиться все то, о чем он ей говорил; поэтому она сказала: «Риччьярдо, не знаю, даст ли мне Бог силу перенести нанесенное мне тобою оскорбление и обман. Я не хочу кричать здесь, куда привели меня моя простота и излишняя ревность; но будь уверен, я никогда не буду довольна, если не увижу себя тем или другим способом отомщенной за то, что ты со мною сделал; поэтому отпусти меня, не удерживай больше; ты добился того, чего желал, и получил от меня сколько тебе было угодно; пора меня оставить; оставь меня, прошу тебя об этом». Видя, что она еще сильно разгневана, Риччьярдо решил сам с собою не отпускать ее до тех пор, пока она не помирится с ним; поэтому он начал умилостивлять ее нежнейшими словами и так говорил, так просил, так заклинал, что она, побежденная, помирилась с ним, и они с обоюдного согласия остались вместе довольно долго в величайшем удовольствии. Познав тогда, насколько поцелуи любовника слаще поцелуев мужа, дама, сменив свою строгость к Риччьярдо на нежную любовь, любила его с этого дня очень нежно; действуя с большой осторожностью, они часто наслаждались своею любовью. Да пошлет Господь и нам наслаждаться нашей.
Новелла седьмая
Тедальдо, рассорившись со своей любовницей, уезжает из Флоренции; спустя некоторое время возвращается туда под видом паломника, говорит с ней, приводит ее к сознанию ее неправоты, спасает жизнь ее мужа, обвиненного в его убийстве, примиряет его с братьями и разумно благоденствует с его женою
Уже Фьямметта умолкла, восхваляемая всеми, когда королева, дабы не терять времени, поскорее велела рассказывать Емилии, которая и начала так: – Мне хочется вернуться в наш город, из которого угодно было выйти двум моим предшественницам, и показать вам, как один из наших сограждан снова вернул себе свою утраченную им даму.
Итак, жил во Флоренции некий молодой человек, по имени Тедальдо дельи Элизеи, который, будучи без меры влюблен в одну даму, по имени Эрмеллина, жену некоего Альдобрандино Палермини, своими достохвальными нравами заслуживал исполнения своих желаний. Этому счастью воспротивилась судьба, враг счастливых, ибо по какому бы то ни было поводу дама, некоторое время милостивая к Тедальдо, совсем отняла у него свои милости и не только отказывалась принимать его послания, но не хотела никоим образом видеть его, вследствие чего он впал в жестокую, досадливую печаль; но его любовь была так скрыта, что никто не думал, что это и было причиной его грусти. Попытавшись разными способами снова приобресть любовь, которую, казалось ему, он утратил без всякой своей вины, и видя, что все его труды напрасны, он решился покинуть свет, не желая, чтобы та, которая была причиной его бедствий, радовалась, видя его чахнущим. Собрав какие мог деньги, он тайком, ничего не говоря ни родственникам, ни друзьям, кроме одного своего приятеля, знавшего все, уехал и прибыл в Анкону, назвавшись Филиппе де Сандолеччио; здесь, сойдясь с одним богатым купцом, он устроился у него в качестве слуги и поехал с ним на его корабле в Кипр. Его обхождение и поведение так понравились купцу, что тот не только назначил ему хорошее жалованье, но и принял его в долю товарищем, передав, кроме того, в его руки большую часть своих дел, которые он вел так успешно и с таким старанием, что в несколько лет стал хорошим, богатым и известным купцом. Среди этих занятий, хотя будучи глубоко уязвлен любовью, он часто вспоминал о своей жестокой даме и сильно желал снова увидеть ее, он проявил такую настойчивость, что семь лет выдержал эту борьбу. Но случилось, что однажды на Кипре он услышал песню, когда-то им сложенную, где говорилось о его любви к даме и ее любви к нему и о радостях, которые ему от нее были, и ему представилось, что не может того быть, чтобы она забыла его, и в нем возгорелось столь сильное желание снова увидеть ее, что, не будучи в силах долее выдержать, он решил вернуться во Флоренцию. Приведя все свои дела в порядок, он отправился в сопровождении одного своего слуги в Анкону, откуда, когда его пожитки прибыли, отослал их во Флоренцию к одному другу своего анконского товарища, сам же тайно, под видом паломника от гроба Господня, поехал вслед с своим слугою.
Прибыв во Флоренцию, он остановился в небольшой гостинице, содержимой двумя братьями и находившейся по соседству с домом его дамы, и никуда не захотел пойти, не побывав перед ее домом, чтобы увидеть ее, если можно. Но он нашел окна, двери и все в доме запертым и сильно обеспокоился, не умерла ли она, или не переехала ли. Поэтому, весьма озабоченный, он направился к дому своих братьев, перед которым увидел четырех из них, одетых во все черное, что сильно его удивило. Зная, что он так изменился в одежде и лицом сравнительно с тем, каким был, когда уезжал, что его нелегко будет узнать, он храбро подошел к одному башмачнику и спросил, почему эти люди одеты в черное. На это башмачник отвечал: «Они в черном потому, что еще не прошло двух недель, как один из их братьев, бывший долгое время в отсутствии, по имени Тедальдо, был убит, и, кажется, я слышал, – они показали это на суде, – убил его некий Альдобрандино Палермини, ныне схваченный, потому что Тедальдо любил его жену и тайно вернулся, чтобы быть с ней». Тедальдо крайне удивился, что есть кто-то, столь на него похожий, что был принят за него, пожалел и о беде Альдобрандино. Узнав, что дама жива и здорова, он вернулся с наступлением ночи, исполненный разных мыслей, в гостиницу; когда он поужинал с своим слугой, его положили чуть ли не в верхнем этаже дома; потому ли, что его беспокоили разные думы, или постель была дурная, а может быть, и по причине тощего ужина, но прошла уже половина ночи, а он все еще не мог уснуть. Когда он бодрствовал таким образом, ему показалось, что кто-то лез с крыши, и спустя немного через щель двери своей комнаты он увидел поднимавшийся наверх свет. Тогда, прислонясь без шума к щели, он стал смотреть, что бы это значило, и увидел молодую, очень красивую девушку, которая держала светоч, а к ней шли трое мужчин, спустившихся с крыши. После взаимных дружеских приветствий один из них сказал молодой девушке: «Теперь, слава Богу, мы можем быть совершенно спокойны, потому что достоверно знаем, что братья Тедальдо Элизеи показали, как на виновника его смерти, на Альдобрандино Палермини, в чем он и сознался, и приговор уже подписан; тем не менее необходимо молчать, потому что, если когда-либо узнают, что это были мы, мы очутимся в той же опасности, как и Альдобрандино». Сказав это девушке, которая очень тому обрадовалась, они спустились и пошли спать.
Услышав это, Тедальдо стал размышлять, сколь велики и каковы бывают заблуждения, в которые может впасть ум человеческий. Сперва ему пришли на ум его братья, принявшие и похоронившие вместо него чужого человека, потом невинно обвиненный по ложному подозрению и доведенный неверными свидетельствами до смерти, а также слепая строгость законов и правителей, которые очень часто, как будто ревностно разыскивая истину, заставляют своей жестокостью доказывать ложь, а выдают себя за служителей правосудия и Бога, тогда как они – служители неправды и дьявола. Затем он стал думать о том, как бы спасти Альдобрандино, и, сообразив, решил, что ему надо сделать. Лишь только он поднялся утром, оставил своего слугу, а сам отправился, когда ему показалось, что пора, к дому своей дамы; найдя случайно дверь открытою, вошел и, увидя свою даму, сидевшую на полу в небольшой зале нижнего этажа, всю в слезах и печали, от жалости чуть не заплакал и, приблизясь к ней, сказал: «Мадонна, не печальтесь, ваше утешение близко». Услышав его, дама подняла глаза и, плача, сказала: «Добрый человек, ты, кажется, иностранец, паломник, что можешь ты знать о моем утешении или о моей печали?» Тогда паломник отвечал: «Мадонна, я – из Константинополя и только что прибыл сюда, посланный Богом, дабы обратить ваши слезы в веселье и спасти вашего мужа от смерти». – «Если ты из Константинополя, – сказала дама, – и только что прибыл сюда, как же ты знаешь, кто мой муж и кто я?» Паломник, начав с начала, рассказал всю историю злоключений Альдобрандино, а ей объяснил, кто она, сколько времени замужем и многое другое, что было хорошо ему известно из ее прошлого; это сильно удивило даму, и, приняв его за пророка, она упала на колени, прося его именем Бога, коли он пришел для спасения Альдобрандино, поспешить, потому что времени оставалось не много. Паломник, притворясь совсем святым человеком, сказал: «Мадонна, встаньте, не плачьте и выслушайте хорошенько, что я вам скажу, и берегитесь не передавать этого никогда и никому. Как открыл мне Господь, бедствие, в котором вы теперь обретаетесь, ниспослано за один грех, некогда совершенный вами, который он пожелал отчасти очистить этой печалью, и ему угодно, чтобы вы искупили его вполне, иначе вы снова впадете в еще большее несчастье». Тогда дама сказала: «Мессере, много у меня грехов, и я не знаю, какой из них Богу угодно, чтобы я искупила». – «Мадонна, – сказал тогда паломник, – я хорошо знаю, что это за грех, и спрошу у вас о нем не для того, чтобы лучше доведаться о нем, а для того, чтобы вы, рассказав его, сами возымели большее угрызение совести. Но приступим к делу. Скажите мне: не помните ли вы, чтобы у вас был когда-нибудь любовник?» Услышав это, дама испустила глубокий вздох и сильно удивилась, не подозревая, чтобы кто-нибудь знал об этом, хотя, когда убит был тот, кого похоронили за Тедальдо, об этом говорили под рукой на основании нескольких слов, неосторожно пущенных товарищем Тедальдо, который был в том осведомлен. Она отвечала: «Я вижу, что Бог открывает вам все людские тайны, и потому не намерена скрывать от вас мои. Правда, в моей молодости я очень любила несчастного молодого человека, смерть которого приписывают моему мужу, и эту смерть я оплакивала, как и теперь она печалит меня, ибо хотя я и выказывала себя к нему жестокой и холодной перед его отъездом, но ни отъезд, ни его долгое отсутствие, ни несчастная смерть не могли вырвать его из моего сердца». На это паломник сказал: «Несчастного молодого человека, которого убили, вы не любили никогда, а любили Тедальдо Элизеи. Но скажите мне, какая была причина, вследствие которой вы рассердились на него? Оскорбил ли он вас когда-нибудь?» На это дама отвечала: «Нет, он никогда не оскорблял меня, но причиной моего гнева были слова одного проклятого монаха, которому я раз исповедовалась; потому что, когда я ему рассказала о своей любви к тому человеку и о моих близких отношениях с ним, он так накричал на меня, что я и теперь еще напугана: говорил, что если я не отстану, то попаду в пасть дьявола, в преисподнюю ада и буду брошена в огонь в наказание за то. От этого на меня напал такой страх, что я решила не искать более близости Тедальдо; и дабы не иметь к тому повода, не захотела более принимать его писем и посланий, хотя я думаю, что если бы он продолжал настаивать, а не удалился, как я предполагаю, в отчаянии, и я видела бы, как он тает, точно снег на солнце, моя твердая решимость была бы поколеблена, потому что и у меня не было более сильного желания в мире». Сказал тогда паломник: «Этот один грех вас и мучит теперь. Я знаю наверно, что Тедальдо никоим образом не принуждал вас, когда вы влюбились в него, вы сделали это по вашему собственному желанию, ибо он вам понравился и пользовался вашим расположением, причем вы показывали ему, и словами и действиями, столько ласки, что если он и до того вас любил, вы усилили его любовь в тысячу раз и более. Если же это было так (а я знаю, что так было), то какой же повод мог вас заставить столь жестоко устраниться от него? Следовало подумать об этом наперед, и если бы вам представилось, что вам придется в том раскаяться, как в дурном поступке, не совершать его. Как он стал вашим, так и вы стали его. Вы могли, распоряжаясь им по желанию, как своею собственностью, сделать так, чтобы он не был вашим; но пожелать отнять у него вас, которая ему принадлежала, это была татьба и непристойное дело, коли на это не было его желания. Вы должны знать, что я – монах и что потому мне известны все нравы монахов, и если я выражусь о них несколько свободно для вашей пользы, это мне более пристало, чем другому, и я хочу рассказать вам о них, дабы отныне вы их познали лучше, чем кажется, знали до сих пор. Были некогда весьма святые и достойные монахи, но у тех, которые нынче называют себя монахами и желают, чтобы их принимали за таковых, нет ничего монашеского, кроме рясы, да и та не монашеская, потому что в то время как основатели монашества наказали делать рясы узкие, простые, из грубой материи, во свидетельство, что их дух презирает все мирское, коли они облекают тело в столь презренную одежду, – нынешние монахи делают себе рясы просторные, двойные, блестящие, из тонкой материи, придав им красивый архипастырский вид, и не стыдятся красоваться ими в церквах и на площадях, как миряне своими платьями; и как рыбак старается в реке разом захватить своею сетью много рыбы, так они, завернувшись в широчайшие складки, тщатся запутать в них побольше святош, вдов и других недалеких женщин и мужчин; и об этом они более заботятся, чем о других занятиях. Потому – дабы еще ближе подойти к истине – у них не монашеские рясы, а только цвет ряс. Тогда как древние монахи желали спасения людей, нынешние ищут женщин и богатств; и все свое старание они положили и полагают на то, чтобы криками и изображением страхов пугать дураков и доказывать им, что грехи искупаются милостынями и обеднями, для того чтобы им, ставшим монахами по низости духа, не по набожности, и дабы не нести труда, кто приносил хлеба, кто посылал вина, кто поминки за души их усопших. Действительно, справедливо, что милостыня и молитва искупают грехи; но если бы те, что творят милостыню, видели, кому они ее творят, или знали их, они скорее сберегли бы ее себе или бросили свиньям. И так как они знают, что чем менее обладателей большого состояния, тем им живется лучше, каждый из них старается криками и страхами отстранить другого от того, чем хотел бы обладать один. Они нападают на мужчин, предающихся сладострастию, для того, чтобы те, на которых они нападают, от него отстали, а нападавшим остались бы женщины; они осуждают лихву и незаконные барыши с тем, чтобы им поручили взыскать их, а они могли бы сделать себе более широкие рясы, приобресть епископство и другие выгодные прелатуры на те самые средства, которые, как они объявляли, должны вести к гибели их обладателей. И когда их порицают за эти дела, как и за многие другие грязные, они отвечают: „Поступайте так, как мы говорим, а не так, как делаем“, ибо полагают, что это достаточное облегчение всякой духовной тяжести, как будто овцам легче быть непреклонными и твердыми, как железо, чем пастырям. А сколько есть людей, которым они дают подобный ответ и которые не понимают его в том смысле, какой они ему придают, про то знает бо?льшая их часть. Нынешние монахи желают, чтобы вы делали то, что они говорят, то есть чтобы вы наполняли их кошельки деньгами, поверяли им свои тайны, сохраняли целомудрие, были бы терпеливы, прощали обиды, остерегались злословия; все это очень хорошие вещи, честные, святые; но для чего они говорят вам о всем этом? Для того, чтобы они сами могли делать, чего не могли бы, если бы то стали делать миряне. Кто не знает, что без денег их тунеядство не могло бы продолжаться? Если ты тратишь свои деньги на свое удовольствие, монах не может тогда бездельничать в ордене; если ты станешь ухаживать за женщинами, монахам не будет места; если ты нетерпелив и не прощаешь обиды, монах не осмелится явиться в твой дом, чтобы осквернить твою семью. Но зачем мне останавливаться на всем? Они сами обвиняют себя каждый раз, когда перед лицом людей понимающих приводят то оправдание. Почему не остаются они у себя дома, если полагают, что не могут быть ни святыми, ни воздержными? А если они уже хотят посвятить себя на то, почему не следуют другому святому слову Евангелия? Христос начал творить и поучать. Пусть же и они сперва делают, а уже затем поучают других. Я видел на моем веку тысячи ухаживателей, любителей, посетителей не только светских женщин, но и монахинь; и это были из тех, которые громче всех кричали с амвонов. Не за этими ли, так творящими, последуем мы? Кто так делает, на то его добрая воля, но Бог знает, делает ли он благоразумно. Но положим, справедливо то, что сказал вам накричавший на вас монах, а именно, что нарушение супружеского долга – тяжкий грех, но разве не более тяжкое преступление обокрасть человека? Разве еще не большее убить его или изгнать на скитание по свету? Каждый согласится с этим. Что женщина сближается с мужчиной – это естественный грех; но обокрасть и убить его или изгнать – это происходит от злорадства. Что вы обокрали Тедальдо, отняв от него самое себя, ставшую его собственностью с вашего добровольного согласия, это я уже доказал вам выше; затем я утверждаю, что, насколько это зависело от вас, вы убили его, потому что не ваша была вина, если он, видя, что вы оказываетесь все более к нему жестокой, не наложил на себя рук, а закон говорит, что тот, кто был причиной совершенного зла, повинен тому же, что и тот, кто совершил его. А что вы были причиной его изгнания и скитания по свету в течение семи лет, этого нельзя отрицать. Таким образом, вы совершили гораздо больший грех каждым из трех вышеназванных действий, чем какой совершили, находясь с ним в близких отношениях. Но посмотрим: быть может, Тедальдо заслужил все это? Поистине нет; вы сами уже признали это, не говоря о том, что, сколько я знаю, он любит вас больше самого себя. Никого он так не уважал, так не восхвалял и не превозносил над всеми женщинами, как вас, когда был в таком месте, где он пристойно и не возбуждая подозрения говорил о вас. Все его благо, вся его честь, вся его свобода, все было предоставлено им в ваши руки. Разве он не юноша хорошего рода? Не красив был между другими своими согражданами? Не доблестен во всем, что прилично молодым людям? Разве его все не любили, не дорожили им и не желали его видеть? И на это вы не скажете: нет. Итак, каким же образом по одному слову дурака монаха, глупого и завистливого, вы могли принять против него какое бы то ни было жестокое решение? Я не понимаю заблуждения женщин, пренебрегающих мужчинами и мало их ценящих, тогда как, сознавая, что такое они сами и каково благородство, дарованное Богом мужчине превыше всякого другого животного, они должны бы гордиться, когда любимы кем-нибудь, и высоко ценить его и употреблять все усилия, чтобы угодить ему, дабы он никогда не перестал их любить. Что вы это сделали, побуждаемая словами монаха, который, наверное, должен быть каким-нибудь прихлебателем и охотником до пирогов – вы знаете; может быть, он сам желал стать на место, с которого старался прогнать другого. Вот это и есть тот грех, который божественная справедливость, праведно уравновешивающая свои действия с последствиями, не пожелала оставить безнаказанным; и как вы старались без всякого повода отнять себя у Тедальдо, так ваш муж без справедливого повода был и еще находится в опасности ради Тедальдо, а вы в печали. Если вы хотите от нее избавиться, вот что следует пообещать и тем более сделать: если когда-нибудь случится, что Тедальдо вернется сюда из своего долгого изгнания, вы должны возвратить ему вашу милость, вашу любовь, вашу благосклонность и близость и восстановить его в то положение, в каком он был, прежде чем вы неразумно поверили сумасбродному монаху».
Паломник окончил свою речь, когда дама, слушавшая его внимательно, ибо его доводы казались ей весьма справедливыми и она была уверена, что, как он говорил, она взыскана печалью именно за тот грех, сказала: «Друг Божий, я признаю совершенно справедливым все, о чем вы говорили, и благодаря главным образом вашим указаниям узнала, что такое монахи, которых до того считала за святых; без всякого сомнения я признаю, что, действуя таким образом с Тедальдо, я совершила большой проступок, и если бы можно, я бы охотно искупила его тем способом, каким вы говорите; но как это может статься? Тедальдо никогда не вернется сюда: он умер; итак, чего нельзя сделать, того, не знаю, зачем вам и обещать». На это паломник сказал: «Мадонна, Тедальдо вовсе не умер, как открыл мне Господь, а жив и здоров, и ему было бы хорошо, если б он пользовался вашей милостью». Дама сказала тогда: «Послушайте, что вы говорите? Я видела его перед моими дверями пронзенного несколькими ударами ножа, держала его в этих объятиях, пролила на его мертвое лицо много слез, которые, быть может, и были причиной того, что об этом сказано было нечто, о чем потом говорили, злословя». Паломник тогда ответил: «Мадонна, что бы вы ни говорили, я вас уверяю, что Тедальдо жив, и, если вы намерены пообещать и исполнить сказанное, я надеюсь, вы его скоро увидите». Дама сказала тогда: «Я сделаю это, и сделаю охотно, и ничего не может случиться, что бы доставило мне такую радость, как увидеть моего мужа свободным и без ущерба, а Тедальдо живым». Тогда Тедальдо показалось, что пора ему открыться и утешить даму более положительной надеждой насчет ее мужа, и он сказал: «Мадонна, дабы успокоить вас насчет вашего мужа, мне надо открыть вам одну тайну, которую вы сохраните так, чтобы во всю вашу жизнь не обнаружить ее никогда». Они были одни в отдаленном месте дома, ибо дама возымела полное доверие к святости, которою, казалось ей, исполнен был паломник; потому Тедальдо, вынув перстень, старательно сохраняемый им и подаренный ему дамой в последнюю ночь, проведенную с ней, показал ей его и спросил: «Мадонна, узнаете ли вы это?» Как увидела его дама, признала и сказала: «Да, мессере, я подарила его когда-то Тедальдо». Тогда паломник встал, быстро сбросил с себя паломническую одежду, а с головы шляпу, и, заговоря по-флорентийски, сказал: «А меня узнаете ли вы?» Когда дама увидела его, узнав, что то был Тедальдо, совсем остолбенела, так испугавшись его, как пугаются мертвых, когда их видят ходящими как живые; поэтому она не пошла ему навстречу, как к Тедальдо, явившемуся из Кипра, а готова была убежать в испуге, как от Тедальдо, вернувшегося сюда из могилы. Но Тедальдо сказал ей: «Мадонна, не бойтесь, я – ваш Тедальдо, живой и здоровый, я никогда не умирал и не был убит, что бы ни думали вы и мои братья». Немного ободренная и узнавшая его голос дама, всмотревшись в него несколько и уверившись, что действительно это был Тедальдо, бросилась к нему со слезами на шею, поцеловала его и сказала: «Мой милый Тедальдо, добро пожаловать». Тедальдо, обняв ее и поцеловав, сказал: «Мадонна, теперь не время для более близкой встречи; я хочу пойти устроить, чтобы Альдобрандино был возвращен вам здравым и невредимым, и надеюсь, что до завтрашнего вечера вы услышите вести, которые будут вам по сердцу; если же, как я думаю, вести об его освобождении будут у меня хорошие, я хочу сегодня же ночью прийти к вам и рассказать их вам с большим удобством, чем мог бы сделать теперь».
Надев снова свое паломническое платье и шляпу, поцеловав в другой раз даму и утешив ее доброй надеждой, он расстался с нею и направился туда, где Альдобрандино обретался в заключении, более отдаваясь мыслями страху предстоящей смерти, чем надежде будущего освобождения. Как бы в качестве утешителя, Тедальдо вошел к нему с согласия тюремщиков и, сев возле него, сказал ему: «Альдобрандино, я один из твоих друзей, посланный тебе для твоего спасения Богом, сжалившимся над тобой за твою невинность; поэтому если ты из почитания к нему пожелаешь даровать мне небольшую милость, о которой я попрошу тебя, то без сомнения, прежде чем завтра наступит вечер, ты вместо ожидаемого тобою смертного приговора услышишь о своем оправдании». На это Альдобрандино отвечал: «Почтенный человек, так как ты стараешься о моем спасении, хотя я и не знаю тебя и не помню, чтобы видел тебя когда-либо, ты, должно быть, мне друг, как ты это говоришь. И, поистине, проступка, за который, говорят, я должен быть приговорен к смерти, я никогда не совершал; много других совершал я прежде, они-то, быть может, и привели меня к этому концу. Но говорю тебе перед Богом, если он теперь смиловался надо мной, я не только обещаю, но охотно сделаю и большее, не то что малое; поэтому проси, что тебе угодно, ибо, если случится, что я освобожусь, я непременно и верно все исполню». Тогда паломник сказал: «Я не желаю ничего другого, как только, чтобы ты простил четырем братьям Тедальдо за то, что они довели тебя до этого положения, предположив, что ты виновен в смерти их брата, и чтобы ты принял их как братьев и друзей, если они попросят у тебя за это прощения». На это Альдобрандино отвечал: «Никто не знает, сколь сладостна месть и с какой горячностью ее желают, кроме того, кто получил оскорбление; тем не менее, лишь бы Господь озаботился моим спасением, я охотно прощу их и простил уже теперь; и если я выйду отсюда живым и освобожусь, постараюсь сделать так, как будет тебе угодно».
Паломник остался этим доволен и, не желая объяснять ему больше, просил его ободриться духом, ибо наверное, прежде чем кончится следующий день, он узнает точнейшие вести о своем спасении. Оставя его, он пошел к синьории и так сказал тому, кому в тот день принадлежала власть: «Синьор мой, каждому надлежит по мере сил стараться, чтобы раскрыта была истина вещей, особенно тем, которые занимают положение, подобное вашему, и это для того, чтобы не совершившие преступления не несли наказания, а виновные были наказаны. Дабы так именно и случилось, к вашей чести и назло тому, кто его заслужил, я и пришел сюда. Как вам известно, вы строго преследуете судом Альдобрандино Палермини, полагая, будто в самом деле открыли, что это он убил Тедальдо Элизеи, и готовы его осудить; это наверное ложно, как я рассчитываю доказать вам до полуночи, отдав вам в руки убийц этого юноши». Почтенный муж, которому жаль было Альдобрандино, охотно склонил слух к словам паломника и, когда тот многое рассказал ему об этом деле, схватил по его указанию при первом сне обоих братьев гостиников и их слугу без всякого с их стороны сопротивления, и когда он готовился, дабы узнать, как было дело, подвергнуть их пытке, они, не желая того, каждый с своей стороны, а потом и все вместе открыто сознались, что они убили, не зная его, Тедальдо Элизеи. Когда их спросили о поводе, они сказали, что сделали это потому, что, когда их не было в гостинице, он приставал к жене одного из них и хотел принудить ее удовлетворить его желаниям.
Узнав об этом, паломник, с согласия синьора, удалился и пришел тайком в дом мадонны Эрмеллины, которую нашел одну, так как все в доме спали, поджидавшую его и одинаково желавшую услышать хорошие вести о своем муже и вполне примириться с своим Тедальдо. Придя к ней, он с веселым видом сказал: «Дражайшая моя дама, радуйся, ибо завтра наверно твой Альдобрандино будет у тебя здрав и невредим» – и, дабы дать ей более полную уверенность, он рассказал ей подробно все, что сделал. Дама, которую эти два таких и столь внезапных происшествия, как возврат живого Тедальдо, которого она оплакивала, как действительно мертвого, и ожидание увидеть избавленного от опасности Альдобрандино, привели в такую радость, какую когда-либо кто испытывал, любовно обняла и поцеловала Тедальдо; отправясь вместе на постель, они, с общего доброго согласия, заключили прелестный и веселый союз, доставляя друг другу удовольствие и утеху.
Когда стал близиться день, Тедальдо поднялся, объяснив даме, что он намерен делать, и, попросив ее снова держать это в большой тайне, вышел от нее все еще в платье паломника, чтобы заняться, когда придет время, делами Альдобрандино. С наступлением дня синьория, полагая, что она имеет полное осведомление о деле, тотчас же освободила Альдобрандино, и несколько дней спустя, на том самом месте, где было совершено убийство, сняли головы преступникам. Альдобрандино, освобожденный, таким образом, к великой радости его, его жены и всех друзей и родных, ясно понимая, что все это сделалось благодаря вмешательству паломника, перевел его к себе на все время, пока он пожелает остаться в городе; и здесь и муж и жена не могли достаточно учествовать его и нарадоваться ему, в особенности жена, хорошо знавшая, для кого она это делает.
Через несколько времени, полагая, что пора помирить Альдобрандино с своими братьями, которые, как он слышал, были не только оскорблены объявлением его невинным, но из страха и вооружились, Тедальдо напомнил Альдобрандино об его обещании. Альдобрандино тотчас отвечал, что готов. Тогда паломник попросил его устроить на следующий день великое пиршество, на котором, по его желанию, Альдобрандино с своими родичами и их женами учествовал бы четырех братьев и их жен, к чему прибавил, что сам немедленно пригласит их с своей стороны на его мировую и на его пир. Когда Альдобрандино согласился на все, что было угодно паломнику, тот сейчас же пошел к четырем братьям и, после многих переговоров, потребных в деле такого рода, очень легко убедил их, наконец, при помощи неопровержимых доводов в необходимости снова приобрести дружбу Альдобрандино, испросив у него прощение. Сделав это, он пригласил их и их жен обедать на другое утро к Альдобрандино; они, поверив его честному слову, охотно приняли приглашение.
Итак, на следующий день утром, в обеденное время, сперва четыре брата Тедальдо, одетые в траур, как были, пришли с некоторыми из своих друзей в дом ожидавшего их Альдобрандино; здесь перед всеми теми, кто был приглашен Альдобрандино разделить их общество, бросив на землю свое оружие, они отдали себя в его руки, прося прощения в том, что они учинили против него. Альдобрандино, в слезах, принял их дружественно и, поцеловав всех в губы, в коротких словах простил им нанесенное ему оскорбление. После них пришли их сестры и жены, все одетые в черное, и были любезно приняты мадонной Эрмеллиной и другими дамами. Затем мужчины, а равно и дамы были угощены великолепным пиром, где не было ничего не достойного похвалы, если не молчаливость, причиненная недавним горем и выражавшаяся в черном платье родственников Тедальдо, что заставило некоторых порицать пиршественный замысел паломника, который это и заметил. Но когда настало время нарушить эту молчаливость, как он решил это раньше, он встал, пока другие еще кушали плоды, и сказал: «Ничего недостает этому пиру, чтобы сделать его веселым, кроме Тедальдо, которого, так как вы его не узнали, хотя он непрестанно среди вас, я хочу вам показать». И, сбросив с себя рясу и весь монашеский убор, он остался в одной шелковой зеленой куртке. Все смотрели на него не без величайшего изумления и долго приглядывались, прежде чем кто-нибудь решился поверить, что это был он. Заметив это, Тедальдо начал рассказывать многое об их родне, о происшествиях, между ними бывших, и своих собственных приключениях. Тогда его братья и другие мужчины, обливаясь слезами радости, побежали его целовать, а потом то же сделали и дамы, как посторонние, так и родственницы, кроме мадонны Эрмеллины. Видя это, Альдобрандино сказал: «Что это такое, Эрмеллина? Почему ты не приветствуешь Тедальдо, как другие дамы?» На что дама ответила при всех: «Здесь нет никого, кто бы охотнее желал или желает оказать ему приветствие, чем я, обязанная ему более всякого другого, если подумать, что благодаря его помощи ты мне возвращен; но несчастные речи, сказанные во дни, когда мы оплакивали того, кого принимали за Тедальдо, удерживают меня от этого». На это Альдобрандино сказал: «Убирайся с ними, неужели ты думаешь, что я верю тем, кто лает? Стараясь о моем спасении, он хорошо показал, что это была ложь, не говоря уже о том, что я никогда тому не верил; встань же скорее и пойди обними его». Дама, не желавшая ничего другого, не замедлила повиноваться в этом своему мужу; поэтому, встав, она поцеловала Тедальдо, как то сделали другие, и приветствовала его. Это великодушие Альдобрандино понравилось братьям Тедальдо, так же как всем мужчинам и женщинам, бывшим там, и всякая ржавчинка, которая могла зародиться в умах некоторых от ходивших когда-то слухов, таким образом сгладилась.
Когда каждый выразил свою радость Тедальдо, он сам сорвал с братьев черные одежды и темные с сестер и своячениц и приказал, чтобы им принесли сюда другие одежды. Когда они переоделись, много было там песен и плясок и других забав, почему пир, бывший вначале молчаливым, имел шумный конец. В великом веселии все они, как были, пошли в дом Тедальдо, где ужинали вечером, и много еще дней после того они таким же образом продолжали празднество.
Флорентийцы долгое время смотрели на Тедальдо как на воскресшего человека и как на чудо, и у многих людей, даже у его братьев, осталось в уме слабое сомнение, он ли это, или нет; они еще не вполне верили этому и, может быть, еще долго не уверились бы, если бы не один случай, который им ясно доказал, кто был убитый. И этот случай был такой: однажды, когда солдаты из Луниджианы проходили перед их домом, они, увидев Тедальдо, пошли к нему навстречу, говоря: «Здравствуй, Фациоло!» На что Тедальдо, при братьях, отвечал: «Вы приняли меня за другого». Те, услышав его речь, смутились и попросили у него извинения, говоря: «Действительно, вы похожи, больше чем можно себе представить одного человека похожим на другого, на одного нашего товарища, по имени Фациоло из Понтремоли, который две недели тому назад, или немного более, отправился сюда, и мы никогда не могли узнать, что с ним сталось. Правда, нас удивило ваше платье, потому что он был солдат, как и мы». Старший брат Тедальдо, услышав это, подошел и спросил: как был одет этот Фациоло? Те рассказали, и оказалось, что тот убитый одет был именно так, как они говорили. Таким образом, по этим и другим приметам, узнали, что убитый был Фациоло, а не Тедальдо, вследствие чего исчезло подозрение к нему братьев и всех других. А Тедальдо, вернувшись богачом, оставался постоянным в своей привязанности, и так как его дама более с ним не ссорилась, то они, осторожно ведя дело, долгое время наслаждались своей любовью. Господь да способит нас насладиться нашей.
Новелла восьмая
Ферондо, отведав некоего порошка, похоронен за мертвого; извлеченный из могилы аббатом, который забавляется с его женою, он посажен в тюрьму и его уверяют, что он в чистилище; воскреснув, он воспитывает сына, рожденного от аббата его женою
Когда пришла к концу новелла Емилии, не только не надоевшая своей продолжительностью, но и показавшаяся всем рассказанной слишком кратко, ввиду количества и разнообразия сообщенных в ней происшествий, королева, одним знаком дав понять Лауретте свое желание, дала ей повод начать таким образом: – Дорогие дамы, мне припоминается для рассказа действительное происшествие, гораздо более похожее на выдумку, чем то было на самом деле; а пришло оно мне на память, когда я услышала, как один был похоронен и оплакан за другого. Я же расскажу, как один живой был погребен за мертвого, как затем он сам и многие другие сочли его не за живого, а за воскресшего, вышедшего из могилы, а тот был почтен за святого, кому, как виновному, следовало бы быть осужденным.
Итак, было и еще существует в Тоскане аббатство, лежавшее, как мы видим и многие другие, в местности, не слишком посещаемой людьми, куда поставлен был аббатом монах, во всех отношениях человек святейший, только не в отношении женщин; и умел он это делать так осторожно, что почти никто не то что о том не знал, но и не подозревал, почему его считали святым и во всех отношениях строгим. Случилось аббату близко сойтись с одним богатейшим крестьянином, по имени Ферондо, человеком грубым и безмерно простым, и ничем иным это знакомство не нравилось аббату, как тем, что он иногда потешался над его простотою. Во время этого знакомства аббат приметил, что у Ферондо красавица жена, в которую он так горячо влюбился, что о другом не думал ни днем, ни ночью; но услышав, что Ферондо был во всем остальном простаком и дураком, но в любви к своей жене и в ее охране был очень рассудителен, он пришел почти в отчаяние. Тем не менее, как человек умный, он довел Ферондо до того, что тот с своей женою приходил иногда поразвлечься в сад аббата, и здесь аббат самым скромным образом говорил им о блаженстве вечной жизни и о святых делах многих древних мужей и жен, так что у жены явилось желание у него исповедаться, и она попросила на то позволения у Ферондо и получила его.
Итак, придя на исповедь к аббату, к великому его удовольствию, и сев у ног его, прежде чем перейти к другому, она начала так: «Отче, если бы Господь даровал мне настоящего мужа или не даровал вовсе, мне, быть может, было бы легко, при помощи ваших наставлений, вступить на путь, ведущий, как вы сказали, к вечной жизни; но я, когда подумаю, что такое Ферондо и какова его глупость, могу сказать о себе, что хотя я и замужем, но вдова, поскольку, покуда он жив, не могу иметь другого мужа; а он, дурак, без всякого повода так безмерно ревнует меня, что я, вследствие этого, не могу с ним жить иначе, как в печали и беде. Поэтому, прежде чем приступить к дальнейшей исповеди, насколько могу смиренно прошу вас, да будет вам благоугодно дать мне какой-нибудь совет в этом деле, ибо, если в этом отношении я не обрету возможности к добродетельной жизни, ни исповедь и никакие благие дела мне не помогут».
Эта речь приятно затронула душу аббата, и ему представилось, что судьба открывает ему путь к достижению его величайшего желания; и он сказал: «Дочь моя, я думаю, что для такой красивой и нежной женщины, как вы, должно быть большой досадой, что у нее муж полоумный; но еще большей, думается мне, если он ревнив; а так как у вас и то и другое, я легко представляю себе то, что вы рассказываете о своем горе. Но, говоря кратко, против этого я не вижу иного совета или средства, кроме одного, а именно: излечить Ферондо от этой ревности. Средство излечить его я очень хорошо знаю как приготовить, лишь бы у вас хватило духа держать в тайне, что я вам скажу». Женщина сказала: «Отец мой, не сомневайтесь в этом, ибо я скорее умру, чем скажу кому бы то ни было, что вы мне запретили рассказывать; но как это можно будет сделать?» Аббат отвечал: «Если вы желаете, чтобы он выздоровел, необходимо, чтоб он отправился в чистилище». – «Как же он пойдет туда, будучи живым?» – сказала женщина. Аббат сказал: «Надо, чтоб он умер, так он и пойдет туда, и когда он претерпит столько мучений, что излечится от своей ревности, вы известными молитвами помолите Господа, чтоб он вернулся к жизни, и он вернется». – «Так мне придется остаться вдовой?» – сказала женщина. «Да, – ответил аббат, – на некоторое время, в которое остерегайтесь выходить за другого, ибо Господу это не понравится, а когда вернется Ферондо, вам придется вернуться к нему, и он стал бы ревновать более, чем когда-либо». Женщина сказала: «Лишь бы он излечился от этой злой напасти и мне не приходилось вечно жить взаперти, я согласна; делайте, как вам заблагорассудится». Сказал тогда аббат: «Я и сделаю, но какую же награду получу я от вас за такую услугу?» – «Отец мой, – сказала женщина, – что вам угодно, лишь бы это было в моей власти; но что может сделать женщина вроде меня, что бы приличествовало такому человеку, как вы?» На это аббат сказал: «Мадонна, вы можете сделать для меня не менее того, что я намерен сделать для вас, ибо, как я готовлюсь устроить нечто для вашего блага и утешения, так вы можете учинить, что будет мне во здравие и спасение моей жизни». Тогда женщина сказала: «Коли так, я готова». – «Итак, – сказал аббат, – вы подарите мне свою любовь и отдадитесь мне своей особой, к которой я пылаю и по которой совсем чахну». Как услышала это женщина, совсем смутившись, ответила: «Что это, отец мой, о чем вы это просите? А я думала, что вы – святой человек! Пристойно ли святым людям просить о таких делах женщин, обращающихся к ним за советом?» На это аббат сказал: «Душа моя, не удивляйтесь, ибо из-за этого святость не умаляется, так как она пребывает в душе, а что я прошу у вас – телесный грех. Как бы то ни было, но таковую силу возымела ваша прелестная краса, что так поступить меня побудила любовь. И скажу вам, что вашей красотой вы можете гордиться более, чем всякая другая женщина, коли подумаете, что она нравится святым, привыкшим созерцать красоты неба; кроме того, хотя я и аббат, все же человек, как другие, и, как видите, еще не стар. И сделать это вам не будет тягостно, напротив, вы должны того желать, ибо, пока Ферондо будет в чистилище, я ночью, находясь в обществе с вами, доставлю вам то утешение, которое должен был бы доставить он, и никогда никто об этом не догадается, потому что все считают меня за того, за кого и вы недавно меня считали. Не отказывайтесь от милости, которую посылает вам Господь, ибо много таких, которые желают того, что вы можете получить и получите, если, будучи разумной, поверите моему совету. К тому же у меня есть хорошенькие, дорогие вещицы, которые, я решил, будут принадлежать никому, как вам. Итак, сладостная моя надежда, сделайте для меня то, что я охотно делаю для вас». Женщина, опустив глаза, не знала, как ему отказать, а согласиться, казалось ей, не ладно; потому аббат, видя, что, выслушав его, она медлит ответом, подумал, что обратил ее наполовину, и, присоединяя многие другие речи к прежним, не успел кончить, как вбил ей в голову, что сделать то будет ладно; потому она стыдливо сказала, что готова исполнить всякое его приказание, но не прежде, чем Ферондо отправится в чистилище. На это аббат, очень довольный, сказал: «Мы так устроим, что он сейчас туда пойдет, только сделайте так, чтобы завтра или послезавтра он побывал у меня здесь». Сказав это и тихонько сунув ей в руку прекраснейшее кольцо, он отпустил ее.
Женщина, обрадованная подарком, чая и других, вернувшись к товаркам, стала рассказывать удивительные вещи о святости аббата и пошла с ними домой. Через несколько дней Ферондо отправился в аббатство; как увидел его аббат, тотчас же решил послать его в чистилище; отыскал порошок удивительного свойства, полученный им в областях Востока от одного великого принца, утверждавшего, что его обыкновенно употребляет Горний старец, когда хочет кого-нибудь во сне отправить в свой рай или извлечь его оттуда, и что данный в большем или меньшем количестве этот порошок, без всякого вреда, так усыпляет принявших его более или менее, что, пока действует его сила, никто бы не сказал, что тот человек жив. Положив этого порошка столько, чтобы можно было усыпить на три дня, в стакан не отстоявшегося еще вина, он дал его выпить в своей келье ничего не подозревавшему Ферондо и повел его затем в монастырь, где с некоторыми другими своими монахами стал забавляться его дурачествами. Не прошло много времени, как порошок подействовал, и голову Ферондо посетил сон, столь внезапный и крепкий, что, стоя на ногах, он заснул и, заснув, упал. Аббат представился испуганным этим происшествием, велел раздеть его, принести холодной воды и прыснуть ему в лицо, употребить и многие другие, известные ему средства, как бы желая вызвать утраченные жизненные силы и чувства, отягченные парами желудка или чем другим; но когда аббат и монахи увидели, что, несмотря на все это, он не приходит в себя, пощупав пульс и не находя никакого признака чувствительности, решили все положительно, что он умер; поэтому послали о том сказать жене и его родственникам, которые все явились тотчас же, и когда жена и родные немного оплакали его, аббат распорядился положить его, как был одетым, в склеп. Жена, вернувшись домой, заявила, что никогда не намерена расставаться с ребенком, которого имела от мужа; так, оставшись в дому, она принялась воспитывать сына и управлять имуществом, бывшим Ферондо.
Аббат с одним болонским монахом, которому он очень доверял и который на ту пору приехал из Болоньи, тихо поднялся ночью; вдвоем они вытащили Ферондо из склепа и положили в другой, где совсем не видать было света и который назначен был тюрьмой провинившимся монахам; сняв с Ферондо его платье и одев его по-монашески, они положили его на связку соломы и оставили, пока он очувствуется. Между тем болонский монах, наученный аббатом, что ему делать, тогда как никто другой о том ничего не знал, стал дожидаться, когда Ферондо придет в себя. На другой день аббат с несколькими своими монахами отправился, как бы для посещения, в дом женщины, которую нашел одетой в черное и опечаленной, и, утешив ее нежно, тихонько попросил ее исполнить обещание. Видя себя свободной, без помехи со стороны Ферондо или кого другого, усмотрев на руке аббата другое красивое кольцо, она сказала, что готова, и сговорилась с ним, что он придет на следующую ночь. Вследствие этого, когда настала ночь, аббат, переодетый в платье Ферондо и сопутствуемый монахом, отправился туда и спал с ней до утрени с великим удовольствием и утехой, а потом воротился в монастырь. Он очень часто совершал этот путь по тому же делу, и некоторые, встречавшие его иногда, когда он шел туда и обратно, принимали его за Ферондо, блуждающего ради покаяния по той местности; пошло потом много рассказов промеж невежественных жителей деревни, много раз говорили о том и жене, хорошо знавшей, в чем дело.
Болонский монах, когда Ферондо очнулся, не зная, где он, вошел к нему, страшно голося, с розгами в руках и, схватив его, дал ему хорошую порку. Ферондо, плача и крича, то и дело спрашивал: «Где я?» На что монах отвечал: «В чистилище». – «Как? – сказал Ферондо, – так я, стало быть, умер?» Монах сказал: «Разумеется». Поэтому Ферондо принялся плакать о себе, своей жене и сыне, говоря самые несуразные в свете вещи. Монах принес ему поесть и попить; увидя это, Ферондо спросил: «Вот те на! Разве покойники едят?» – «Да, – сказал монах, – а принес я тебе то, что твоя бывшая жена послала сегодня утром в церковь на обедню по твою душу; что по воле Божией тебе и предлагается». Сказал тогда Ферондо: «Господь да пошлет ей благовремение. Я-то любил ее очень, прежде чем скончался, так что всю ночь держал ее в охапке и ничего другого не делал, как целовал ее; делал также и другое, когда приходило желание». Затем у него явилась большая охота поесть, и он принялся есть и пить, и так как вино показалось ему не особенно хорошим, сказал: «Да накажет ее Господь, что она не подала священнику вина из бочки, что у стены». Когда он поел, монах снова принялся за него и теми же розгами дал ему великую порку. Порядком покричав, Ферондо спросил его: «Боже мой! Зачем ты это со мной делаешь?» Монах сказал: «Потому что так повелел Господь, чтобы так чинить над тобою два раза в день». – «А по какой причине?» – говорит Ферондо. Сказал монах: «Потому что ты был ревнив, имея женою достойнейшую женщину, какая есть в твоей местности». – «Увы мне! – сказал Ферондо, – правду ты говоришь! И самую сладкую жену. Она была слаще пряника, но я не знал, что Господу неблагоугодно, чтоб мужчина был ревнив, не то я не был бы таким». Сказал монах: «Это ты должен был понять, пока был на том свете, и исправиться; если случится тебе когда-нибудь вернуться туда, постарайся там удержать в памяти, что я теперь с тобой делаю, дабы никогда более не быть ревнивым». Ферондо спросил: «Разве кто умер, возвращается когда-нибудь туда?» – «Да, – отвечал монах, – кому попустит Господь». – «Боже мой, – сказал Ферондо, – если я когда-нибудь туда вернусь, буду лучшим в свете мужем, никогда не стану бить ее, не скажу бранного слова – разве побраню за вино, которое она послала нам сегодня утром, да еще не послала нам ни одной свечи, и мне пришлось есть впотьмах». Сказал монах: «Послать-то она послала, но свечи сгорели за обедней». – «Да, ты, может быть, и прав, – заметил Ферондо, – наверно, коли я вернусь туда, я позволю ей делать все, что хочет. Но скажи мне, кто ты, совершающий это надо мною?» Сказал монах: «Я также умер, а жил в Сардинии, и так как я когда-то хвалил моего господина за его ревнивость, Господь осудил меня на такое наказание, что я должен давать тебе есть и пить и угощать ударами, пока Господь все это решит иначе относительно тебя и меня». Сказал Ферондо: «Никого здесь нет, кроме нас двоих?» Монах отвечал: «Есть целые тысячи, только ты не можешь ни видеть, ни слышать их, ни они тебя». Тогда Ферондо спросил: «А как мы далеко от наших мест?» – «Охо! – ответил монах. – На много миль дальше, чем Славнонаворотим». – «Вот те на! Это очень далеко, – сказал Ферондо, – по моему мнению, мы теперь по ту сторону света, так это далеко».
И вот среди таких и подобных разговоров, еды и порки Ферондо продержали почти десять месяцев, в течение которых аббат очень часто и удачливо посещал красавицу и проводил счастливейшее в свете время. Но бывают несчастия – женщина забеременела и, быстро заметив это, сказала о том аббату, вследствие чего обоим показалось, что пора немедленно вернуть Ферондо от чистилища к жизни, чтобы он к ней вернулся, а она бы ему сказала, что беременна от него. И вот на следующую ночь аббат велел, чтобы, изменив голос, Ферондо окликнули в его заключении и сказали: «Утешься, Ферондо, ибо Богу угодно, чтобы ты вернулся в мир; когда вернешься, у тебя будет сын от твоей жены, которого вели назвать Бенедиктом, ибо молитвами твоего святого аббата и жены твоей и из любви к св. Бенедикту Господь дарует тебе эту милость». Услышав это, Ферондо очень обрадовался и сказал: «Вот это мне нравится! Господь да вознаградит за это Господу Богу, и аббату, и св. Бенедикту, и моей жене, сырной, медовой, сытовой!» Велев дать ему в вине, которое ему посылал, того порошка, но столько, чтобы дать ему проспать часа четыре, и распорядясь одеть его в его платье, аббат вместе с монахом втихомолку перенес его в склеп, где он был погребен.
Как мне довелось слышать, вблизи Сан Бранкацио проживал хороший и богатый человек, по имени Пуччьо ди Риньери, который впоследствии, совсем предавшись благочестию, стал братом третьего разряда ордена св. Франциска и был наречен братом Пуччьо. Следуя своему духовному влечению и не имея иной семьи, кроме жены и прислужницы, потому и не имея надобности промышлять чем-либо, он часто ходил в церковь. Слабоумный и неотесанный, он твердил свой «Отче наш», слушал проповеди, выстаивал обедни, никогда не пропускал случая быть на духовном пении мирян, постился и бичевался, и под рукою говорили, что он принадлежал к секте бичующихся.
Жена его, по имени Изабетта, еще молодая, двадцати восьми – тридцати лет, свежая и красивая, пухленькая, как красное яблочко, по святости мужа, а может быть, и по его старости, очень часто выдерживала более продолжительную диету, чем того желала, и когда ей хотелось спать, а может быть, и позабавиться с ним, он рассказывал ей про жизнь Христа, или проповеди брата Настаджио, или о плаче Магдалины и другие подобные вещи. Вернулся в это время из Парижа один монах, по имени Дон Феличе, принадлежавший к монастырю св. Бранкацио, очень молодой, красивый собою, острого ума и глубоких знаний, с которым тесно сблизился брат Пуччьо. И так как он очень хорошо разрешал каждое его сомнение и, кроме того, уразумев его настроение, выказывал себя перед ним святым человеком, то брат Пуччьо стал иногда водить его к себе и приглашать то к обеду, то к ужину, смотря как приходилось; также и жена брата Пуччьо из любви к мужу сдружилась с ним и охотно его чествовала. Посещая, таким образом, дом брата Пуччьо и видя жену его такой свежей и кругленькой, монах догадался, в чем она наиболее ощущала недостаток, и задумал, коли возможно, свалив работу с брата Пуччьо, взять ее на себя. Раз и другой косясь на нее довольно плутовато, он таки добился того, что зажег в ее сердце то же вожделение, какое было у него. Заприметив это, монах при первом удобном случае переговорил с ней о своем желании, но, хотя он и нашел ее вполне готовой увенчать дело, способа к тому не находилось, потому что она не решалась сойтись с монахом ни в каком месте на свете, кроме своего дома, а дома это было невозможно, так как брат Пуччьо никогда не выезжал из города, что сильно печалило монаха. Долгое время спустя он придумал способ сойтись с своей дамой в ее же доме, не возбуждая подозрения, хотя бы брат Пуччьо был также дома. И вот однажды, когда брат Пуччьо навестил его, он заговорил с ним так: «Я уже не раз замечал, брат Пуччьо, что у тебя одно желание – стать святым, к чему, мне кажется, ты идешь долгим путем, тогда как есть другой, очень короткий, который папа и другие его набольшие прелаты знают, которым и пользуются, но не хотят, чтобы он открыт был другим, потому что духовный чин, живущий более всего подаянием, тотчас был бы разорен, так как миряне не взыскали бы его ни подаянием, ни чем другим. Но так как ты мне друг и много уважил меня, то, если бы я мог быть уверен, что ты никому того пути не откроешь и последуешь по нем, я наставил бы тебя». Брат Пуччьо, сгоравший желанием узнать это, прежде всего стал настоятельно просить, чтобы он наставил его, а затем начал клясться, что никогда, разве он сам того пожелает, никому того не скажет, утверждая, что, если он окажется в силах последовать пути, он тотчас же вступит на него. «Так как ты мне обещаешь это, – ответил монах, – то я тебя научу. Ты должен знать, да и святые отцы учат, что кто хочет стать блаженным, должен совершить покаяние, о котором ты услышишь; но пойми меня хорошенько. Я не хочу сказать, что после покаяния ты бы перестал быть грешником, каков ты есть, но выйдет то, что все грехи, совершенные тобой до времени покаяния, очистятся и будут тебе в силу его отпущены, а те, которые ты натворишь потом, не будут вменены в осуждение тебе, а сойдут святой водой, как теперь сходят подлежащие отпущению. Итак, тебе следует главнейше с великим усердием исповедать свои прегрешения, как начнется покаянный искус; затем тебе надлежит начать пост и величайшее воздержание, которое должно продолжаться сорок дней, в которые не только от другой женщины, но следует воздержаться от общения и с своей собственной женой. Кроме того, необходимо иметь в своем доме какое-нибудь место, откуда ты мог бы ночью видеть небо и в час повечерия пойти туда, и чтобы там был стол очень широкий, прилаженный так, чтобы, стоя, ты мог прислониться к нему поясницей и, держа ноги на земле, распростирать руки как бы распятый; если бы ты пожелал поддержать их какими-либо гвоздями, то можешь это сделать. Таким образом, глядя на небо, ты должен стоять, не двигаясь, до утрени. Будь ты грамотный – тебе подобало бы прочесть в это время некоторые молитвы, которые я дал бы тебе, но так как ты не таков, тебе следует триста раз сказать „Отче наш“ и триста раз „Богородицу“ в честь св. Троицы, и, глядя на небо, постоянно держать на памяти Господа, Создателя неба и земли, и страсти Христовы, стоя в таком же положении, в каком был Он на кресте. Затем, когда зазвонят к заутрени, ты можешь, если хочешь, пойти и так, не раздеваясь, броситься на кровать и заснуть, а на следующее утро отправиться в церковь и там простоять по крайней мере три обедни и перечитать пятьдесят раз „Отче наш“ и столько же „Богородицу“; после этого в простоте сердца отбыть кое-какие твои дела, если есть таковые, а затем обедать, а потом пойти к вечерне в церковь и там сказать некоторые молитвы, которые я напишу тебе и без которых обойтись нельзя, а уже затем около повечерия снова начать по-сказанному. Совершая это, как я когда-то сам совершал, надеюсь, что, прежде чем наступит конец покаяния, ты ощутишь чудесное состояние вечного блаженства, если с благочестием все исполнишь». Брат Пуччьо тогда ответил: «Это не слишком трудно и не долгое дело и его можно очень хорошо исполнить, почему я и хочу во имя Божие начать с воскресенья».
Оставив его и придя домой, он по порядку, с разрешения монаха, рассказал все своей жене. Та очень хорошо поняла, из неподвижного стояния до утрени, что разумел монах, и так как все это ей показалось очень удобным, она ответила, что как этим, так и всяким другим благим делом, которое он предпринимает для спасения своей души, она довольна и что для того, чтобы Бог сделал его покаяние плодотворным, она готова поститься с ним, но проделать все остальное отказывается. Согласившись на этом, брат Пуччьо, когда настало воскресенье, начал свое покаяние, господин монах, уговорившись с его женой, в час, когда никто не мог увидеть его, приходил к ней почти каждый вечер ужинать, всегда принося с собою кое-чего, чтобы можно было хорошо поесть и хорошо выпить, затем ложился с нею до утрени, когда, поднявшись, уходил, а брат Пуччьо возвращался на кровать.
Место, которое брат Пуччьо выбрал для своего покаяния, находилось рядом с комнатой, где спала жена, и ничем не отделялось от нее, как лишь тончайшею стеною; вследствие того, когда монах уже слишком невоздержно забавлялся с женою, а она с ним, брату Пуччьо показалось, что он чувствует какое-то сотрясение пола, почему, проговорив уже сто раз «Отче наш», он остановился и, не двигаясь, окликнув жену, спросил ее, что она делает. Та, большая шутница, оседлав, быть может, в это время коня св. Бенедикта либо св. Иоанна Гвальберта, отвечала: «Друг мой, я верчусь, как только могу». Тогда брат Пуччьо сказал: «Как же это ты вертишься? К чему это верчение?» Та, смеясь и весело (удалая она была; может быть, был и повод к смеху), ответила: «Неужели вы не знаете, что это значит? Я тысячу раз слыхала, как вы говорили сами: кто без ужина ложится, тот всю ночку провертится». И поверил брат Пуччьо, что пост – причина ее бессонницы, и потому она так вертится на кровати; почему он простодушно сказал: «Жена, говорил я тебе – не постничай, но так как ты все-таки захотела этого – не думай о том и постарайся отдохнуть; ты так скачешь по постели, что трясешь все, что ни на есть в доме!» Тогда жена ответила: «Не беспокойся о том, я хорошо знаю, что делаю, делай ты свое дело хорошенько, а я уж постараюсь так хорошо, как могу». Брат Пуччьо умолк и принялся за свой «Отче наш», а жена с господином монахом с этой ночи и впредь, велев изготовить постель в другой части дома, пребывали в ней, пока шло покаяние брата Пуччьо, в величайшем веселии, и когда монах уходил, жена возвращалась на свою кровать, а вскоре затем туда же возвращался с покаяния брат Пуччьо.
Когда таким образом продолжалось и покаяние брата Пуччьо и удовольствие жены его с монахом, она, шутя, не раз ему говорила: «Ты заставляешь брата Пуччьо нести покаяние, которым мы обрели рай». И так как ей было хорошо, она, долгое время продержавшись на диете у мужа, настолько привыкла к монашескому корму, что, хотя покаяние брата Пуччьо и кончилось, она нашла возможность в другом месте угощаться с монахом и долгое время осмотрительно пользовалась им в свое удовольствие. Таким образом (дабы последние слова рассказа не разногласили с первыми) и вышло, что в то время как брат Пуччьо, исполняя покаяние, думал попасть в рай, он отправил туда монаха, указавшего ему короткую дорогу, и жену, жившую при нем в большом недостатке того, чем монах, как человек милосердный, наделял ее в изобилии.
Новелла пятая
Зи?ма дарит свою парадную лошадь мессеру Франческо Верджеллези и за это, с его согласия, говорит с его женой; когда она молчит, он отвечает за нее от ее же лица, и все совершается согласно с его ответом
Когда Памфило кончил новеллу о брате Пуччьо, не без того, чтобы не вызвать смеха у дам, королева с достоинством приказала Елизе продолжать. Она, насмешливая, не по злорадству, а по старой привычке, начала говорить таким образом: – Многие, много знающие, полагают, что другие не знают ничего, и часто в то время, как они думают провести других, замечают, уже по совершении дела, что сами ими проведены. Потому я считаю большим неразумием, когда кто-нибудь без нужды решается пытать силы чужого ума. Но так как, быть может, не всякий разделит мое мнение, я хочу рассказать вам, следуя установленному порядку, что случилось с одним дворянином из Пистойи.
Был в Пистойе, в роде Верджеллези, один дворянин, по имени мессер Франческо, человек очень богатый, умный, вообще рассудительный, но безмерно скупой, который, долженствуя ехать в Милан в качестве подесты, обзавелся всем нужным, чтобы прилично туда отправиться, исключая верховой лошади, которая была бы ему необходима; не находя ни одной, которая бы ему понравилась, он был этим очень озабочен. Жил тогда в Пистойе некий молодой человек, по имени Риччьярдо, невысокого происхождения, но очень богатый, одевавшийся так изысканно и опрятно, что все звали его обыкновенно Зи?мой (щеголь). Он давно любил жену мессера Франческо, очень красивую и честную даму, и безуспешно увлекался ею. У него была одна из самых красивых в Тоскане верховых лошадей, и он очень дорожил ею за ее красоту. Так как все знали, что он увлечен женою мессера Франческо, то кто-то сказал последнему, что если он попросит у Зимы его лошадь, он получит ее ради любви, которую тот питает к его жене. Мессер Франческо, побуждаемый скупостью, велел позвать к себе Зиму, просил продать ему свою лошадь, рассчитывая, что тот предложит ее ему в дар. Услышав это, Зима обрадовался и сказал ему: «Мессере, если б вы дали мне все, что у вас есть на свете, то и тогда не приобрели бы моей лошади путем купли; но вы можете, коли угодно, получить ее в дар с условием, чтобы, прежде чем отдать вам ее, я мог, с вашего позволения и в вашем присутствии, сказать несколько слов вашей жене, но вдали от всех, так, чтобы меня не слышал никто другой, кроме нее». Дворянин, побуждаемый скупостью, ответил, что согласен, и, оставив его в зале своего дворца, пошел в комнату жены и, рассказав, как легко он может добыть лошадь, приказал ей пойти выслушать Зиму, но чтобы она хорошенько поостереглась отвечать что-либо, ни мало, ни много, на то, что он станет говорить ей. Дама сильно это осудила, но так как ей надо было последовать желанию мужа, сказала, что сделает, и, отправившись за мужем, пошла в залу, чтобы выслушать, что хочет ей сказать Зима. Тот, подтвердив свое соглашение с дворянином, пошел, сел с дамой в одном углу залы, вдали от всех, и начал говорить таким образом: «Доблестная дама, я полагаю и уверен, что вы, при вашем уме, уж давно могли хорошо понять, в какую любовь вовлекла меня ваша красота, которая, без всякого сомнения, превосходит красоту всех женщин, каких только я когда-либо видел. Не говорю о достойных похвалы нравах и высоких добродетелях, которыми вы обладаете, сила которых могла бы покорить всякого, даже высокого духом человека; потому мне нет нужды доказывать словами, что моя любовь была сильнее и пламеннее, чем какую питал когда-либо мужчина к женщине; так, без сомнения, я буду любить, пока моя несчастная жизнь будет поддерживать эти члены; ибо, если и там любят, как здесь, я вечно буду любить вас. Потому вы можете быть уверены, что у вас нет вещи, будь она дорога или ничтожна, которую вы могли бы настолько считать своею и на которую могли бы при всяких обстоятельствах так рассчитывать, как на меня, каков бы я там ни был, а также на все мне принадлежащее. Для того чтобы вы получили тому самое верное доказательство, скажу вам, что я счел бы большей милостью, если б вы приказали мне сделать что-либо, что я могу и вам угодно, чем если б я повелевал, а весь мир мне тотчас повиновался. Итак, если я, как вы слышите, до такой степени весь ваш, я не без основания осмеливаюсь обратить мои мольбы к вашему величию, от которого одного может мне прийти покой, все мое благо, все мое спасение – и не откуда более. Потому, о мое сокровище, единственная надежда моей души, живущей в любовном пламени лишь надеждой на вас, прошу вас, как покорнейший слуга: да будет такова ваша благость, да смягчится ваша суровость, которую прежде вы выказывали мне, вам принадлежащему, дабы, утешенный вашим соболезнованием, я мог сказать, что, как ваша красота внушила мне любовь, так ей же я обязан жизнью, которая, если ваш гордый дух не склонится к моим мольбам, несомненно, угаснет, и я умру, а вас могут назвать моим убийцей. Не говорю, чтоб моя смерть не послужила вам к чести, тем не менее полагаю, что, когда порой ваша совесть станет упрекать вас, вы посетуете, что так поступили, иногда же, лучше настроенная, скажете сами себе: „Увы! Как дурно я сделала, не пожалев моего Зимы!“ Но это раскаяние не послужило бы ни к чему и было бы вам поводом к большей печали. Потому, дабы этого не случилось, пожалейте о том теперь, пока вы можете прийти мне на помощь, и прежде чем мне умереть, склонитесь на милость, ибо от вас одной зависит сделать меня самым радостным или самым печальным человеком из числа живущих. Надеюсь, ваша благость будет такова, что вы не потерпите, чтобы за такую и столь великую любовь я принял в награду смерть, но что радостным и исполненным милости ответом вы утешите мой дух, в смущении трепещущий при взгляде на вас». Затем, умолкнув, он пролил несколько слез вслед за глубоким вздохом и стал ожидать, что скажет ему в ответ благородная дама.
Дама, на которую не подействовало ни долгое ухаживание, ни турниры, ни любовные канцоны на рассвете и ничто подобное, что из любви к ней устраивал Зима, была тронута задушевными словами этого пылкого любовника и ощутила, чего прежде не ощущала вовсе: что такое любовь. И хотя, следуя приказанию мужа, она молчала, тем не менее тот и другой затаенный вздох не в состоянии был скрыть того, что она охотно бы и показала, если бы отвечала Зиме. Обождав несколько и видя, что никакого ответа не последовало, он удивился, а затем стал догадываться о хитрости, употребленной дворянином; но, взглянув в лицо дамы, видя порою блеск обращенных на него взглядов и замечая, кроме того, вздохи, которым она не давала со всею их силой выходить из груди, он возымел некоторую добрую надежду и, ободренный ею, решился на новую попытку, начав от лица дамы, слушавшей его, отвечать самому себе таким образом: «Зима мой, без сомнения, я уже давно заметила, что твоя любовь ко мне велика и совершенна, теперь же из твоих слов я еще более о ней узнала и тем довольна, как и должно мне быть. Тем не менее, если я тебе казалась строгой и жестокой, я не хочу, чтобы ты думал, что в глубине души я была тем, чем казалась по наружности; напротив, я тебя всегда любила, и ты был для меня дороже всего; но мне надлежало так действовать как из боязни другого, так и для охраны моей чести. Но теперь настало время, когда я могу ясно показать тебе, люблю ли я тебя, и вознаградить тебя за любовь, которую ты питал и питаешь ко мне; поэтому утешься и будь в доброй надежде, ибо мессер Франческо должен отправиться через несколько дней в Милан подестою, как то знаешь ты, подаривший ему из любви ко мне свою прекрасную верховую лошадь; лишь только он уедет, я обещаю тебе непременно, на мою веру и ради верной любви, которую к тебе питаю, что спустя немного дней ты будешь со мной и мы доставим нашей любви приятное и полное завершение. А дабы мне в другой раз не говорить тебе об этом деле, я теперь же скажу тебе, что в тот день, когда ты увидишь два полотенца, вывешенных в окне моей комнаты, выходящей в наш сад, вечером к ночи, остерегаясь, чтобы тебя никто не увидел, приходи ко мне через калитку сада; ты найдешь меня, ибо я буду ждать тебя, и мы всю ночь будем в радости и взаимном удовольствии, как ты того желаешь».
Когда Зима так сказал от лица дамы, стал говорить за себя и ответил так: «Дорогая дама, избыток радости, которую доставил мне ваш ответ, так подавил все мои силы, что я едва могу сообразить ответ, чтобы воздать вам подобающую благодарность: да если бы я и мог говорить, как бы желал, я не нашел бы достаточно долгого срока, который дал бы мне возможность поблагодарить вас вполне, как бы хотелось и как должно было бы мне сделать; поэтому я предоставляю на ваше благоусмотрение понять то, чего, несмотря на мое желание, я не могу выразить словами. Скажу вам только, что, как вы мне приказали, так я намерен сделать непременно, и тогда, быть может, более успокоенный великим даром, который вы мне обещали, я постараюсь, по мере сил, воздать вам благодарность, какую смогу. Теперь пока ничего другого не остается сказать; потому, дорогая моя дама, да пошлет вам Господь ту радость и то благо, которого вы наиболее желаете, и да охранит вас Бог». На все это дама не сказала ни слова, потому Зима поднялся и направился к дворянину, который, увидя, что он встал, пошел к нему навстречу и, смеясь, сказал: «Ну, как тебе кажется, сдержал я свое обещание?» – «Нет, мессере, – отвечал Зима, – вы мне обещали дозволить побеседовать с своей женой, а я должен был говорить с мраморной статуей». Эти слова очень понравились дворянину, который, хотя и был хорошего мнения о жене, теперь составил о ней еще лучшее и сказал: «Итак, моя ли теперь парадная лошадь, что была твоею?» На это Зима отвечал: «Да, мессере; но если бы я думал, что извлеку из той милости, которую вы мне оказали, такую пользу, какую я извлек, я отдал бы вам лошадь, не прося о милости. Дал бы Бог, чтобы я поступил так, ибо теперь вы, оказалось, купили лошадь, а я вам ее не продавал». Дворянин посмеялся над этим и, обзаведясь лошадью, через несколько дней отправился в путь и поехал в Милан на должность подесты. Дама, оставшись свободной в своем доме, размыслив о словах Зимы, о любви, которую он к ней питал, о верховой лошади, которую он отдал из любви к ней, и, видя его, часто проходившего мимо ее дома, сказала про себя: «Что я делаю? Зачем теряю свою молодость? Тот отправился в Милан и не возвратится в течение шести месяцев; когда же он вознаградит меня за них? Может быть, когда я буду старухой? Кроме того, когда найду я такого поклонника, как Зима? Я одна, и мне некого бояться; не знаю, почему мне не пожить весело, пока на то есть возможность; не всегда у меня будет такое удобство, как теперь; никто никогда не узнает об этом; но если бы даже это и стало известным, то лучше сделать и покаяться, чем оставаться так и – каяться». Приняв такое решение, она однажды повесила два полотенца на окно, выходившее в сад, как сказал ей Зима. Увидя их, он, сильно обрадовавшись, лишь только наступила ночь, тайно направился один к калитке сада дамы и нашел ее открытой; отсюда он добрался до другой двери, ведшей в дом, где нашел даму, которая его поджидала. Увидя, что он идет, она встала, пошла ему навстречу и приняла его с величайшею радостью; обняв ее и поцеловав сто тысяч раз, он последовал за ней вверх по лестнице; там без промедления они легли и познали конечные цели любви. И хотя это был первый раз, но он не был последним, потому что, пока дворянин был в Милане и по его возвращении, Зима возвращался туда много раз к величайшему утешению как той, так и другой стороны.
Новелла шестая
Риччьярдо Минутоло любит жену Филиппелло Фигинольфи; узнав, что она ревнива, он, рассказав ей, что Филиппелло на следующий день назначил свидание в бане его жене, устраивает так, что сама дама отправляется туда и, воображая, что была с мужем, узнает, что отдалась Риччьярдо
Елизе не оставалось больше ничего прибавить, когда, похвалив остроумие Зимы, королева приказала Фьямметте продолжать, рассказав новеллу. «Извольте, мадонна», – ответила она, смеясь, и начала так: – Нам придется на время оставить наш город, изобилующий как всем вообще, так и прикладами на всякий сюжет, и, как то сделала Елиза, сообщить нечто приключившееся в других областях света. Поэтому, перенесясь в Неаполь, я расскажу вам, как одна из тех святош, которые обнаруживают такое отвращение к любви, была доведена хитростью своего любовника до того, что вкусила плод любви прежде, чем узнала ее цветы; это в одно и то же время даст вам предостережение для случаев, возможных в будущем, и развеселит рассказом о приключившемся.
В Неаполе, городе очень древнем и, может быть, столь приятном, и даже более, чем всякий другой город Италии, жил некогда один молодой человек, славный благородством своего происхождения, блиставший своими богатствами, по имени Риччьярдо Минутоло, который, хотя жена у него была молодая, очень красивая и милая, влюбился в другую, по общему мнению, далеко превосходившую красотой всех неаполитанских дам, по имени Кателлу, жену другого столь же родовитого юноши, по имени Филиппелло Фигинольфи, которого она, женщина честнейшая, любила и лелеяла. Итак, Риччьярдо Минутоло, любя эту Кателлу и делая все то, чем приобретается благосклонность и любовь дамы, и несмотря на это не достигая ни в чем удовлетворения своих желаний, почти приходил в отчаяние; и не умея или не будучи в силах отрешиться от своей любви, он и умереть не умел, и жизнь его не радовала. Когда он находился в таком настроении духа, случилось однажды, что некоторые дамы, его родственницы, стали настоятельно убеждать его отделаться от подобной любви, потому что это труд напрасный, ибо для Кателлы нет другого блага, кроме Филиппелло, которого она до такой степени ревнует, что боится всякой птички, летающей в воздухе, как бы она не отняла его у нее. Риччьярдо, услышав о ревности Кателлы, тотчас же сообразил, как ему достигнуть своих желаний, начал притворяться, что он отчаялся в любви Кателлы и потому перенес ее на другую благородную даму, и стал показывать, что из любви к ней он устраивает и бои и турниры и все то, что он имел обыкновение делать для Кателлы. Прошло немного времени, как почти все неаполитанцы, а также и Кателла пришли к тому мнению, что он любит страстно уже не Кателлу, а эту другую даму; и он так долго это выдержал и так твердо в этом были убеждены все, что не только другие, но и Кателла оставила холодность, с которой относилась к нему из-за любви, которую он прежде изъявлял ей, и дружески, как соседу, кланялась ему, уходя и приходя, как то делала с другими.
Случилось однажды в жаркую пору, что много дам и мужчин, по обычаю неаполитанцев, отправились обществом погулять на берег моря, пообедать там или поужинать. Риччьярдо, зная, что Кателла отправилась туда с своим обществом, тоже пошел с своим, и был приглашен в кружок Кателлы и ее дам, заставив наперед долго просить себя, как будто у него не было особенного желания быть там.
Здесь дамы, а с ними и Кателла, стали шутить над ним по поводу его новой любви, он же, показывая себя сильно влюбленным, давал им тем больший повод к разговорам. По некотором времени, когда дамы разошлись одна сюда, другая туда, как то обыкновенно там бывает, а Кателла с немногими оставалась там, где был и Риччьярдо, он, шутя, бросил ей слово об одной страстишке ее мужа Филиппелло, от чего она внезапно вошла в ревность и вся возгорелась желанием узнать, что хотел сказать Риччьярдо. Некоторое время она сдерживалась, но, не будучи более в состоянии сдержать себя, попросила Риччьярдо, ради его страсти к даме, которую он всего более любит, одолжить ее, разъяснив, что такое он говорил о Филиппелло. Риччьярдо сказал ей: «Вы закляли меня именем такой особы, что я не смею не сделать, о чем вы меня просите, поэтому я готов вам сказать, но лишь под условием, что вы мне пообещаете никогда не говорить об этом ни ему, ни другим, пока не увидите на деле, что то, что я вам расскажу, правда; ибо, если вам угодно, я научу вас, как вам это увидеть». Дама согласилась на то, что он требовал, тем более уверившись, что это правда, и поклялась не говорить о том. Итак, отойдя в сторону, дабы никто не мог их услышать, Риччьярдо начал говорить так: «Мадонна, если бы я вас любил, как любил когда-то, у меня не стало бы духу сказать вам что-либо, что причинило бы вам досаду, но так как эта любовь прошла, то я с меньшим стеснением открою вам всю истину. Я не знаю, оскорблялся ли когда Филиппелло, что я питал к вам любовь, и полагал ли он, что я был любим вами; так или иначе, мне лично он ничего такого не показывал. Теперь же, быть может, выждав время, когда, по его мнению, у меня всего менее подозрений, он, кажется, желает сделать мне то, чего, полагаю, он боялся, чтобы я не учинил ему, то есть хочет склонить к своему желанию мою жену; насколько мне известно, он с недавнего времени тайно осаждает ее многочисленными посланиями, о чем обо всем я от нее узнал, и она отвечала ему, как я ей наказал. Но еще сегодня утром, прежде чем мне отправиться сюда, я застал дома у моей жены, в тесной с нею беседе, одну женщину, которую тотчас же признал за то, чем она и была, почему я позвал жену и спросил, чего та желает. Жена мне сказала: „Это – досаждение от Филиппелло, которое ты взвалил мне на плечи, когда приказал ответить ему и его обнадеживать; он говорит, что желает знать откровенно, как я намерена поступить, а он, коли я пожелаю, устроит так, чтобы я могла тайно сойтись с ним в одной городской бане; об этом он меня просит и досаждает, и если бы ты не заставил меня, не понимаю для чего, войти с ним в эти переговоры, я так бы отделалась от него, что он никогда бы более не глазел, где я“. Тут мне показалось, что он зашел слишком далеко, что не следует больше терпеть, и надо сказать вам, дабы вы знали, какой награды заслужила ваша непреклонная верность, ради которой я был когда-то близок к смерти. А дабы вы не думали, что все это слова и басни, и могли бы, если явится у вас желание, все это увидеть и осязать, я приказал моей жене дать ожидавшей женщине такой ответ, что она готова быть в той бане около девятого часа, когда все спят, после чего та, очень довольная, удалилась. Вы, я думаю, не поверите, что я пошлю туда мою жену; но если бы я был на вашем месте, я сделал бы так, что он принял бы меня за ту, которую ожидал там встретить, и после того, как я провел бы с ним некоторое время, я бы показал ему, с кем он был, и учествовал его так, как ему подобает; поступив таким образом, я полагаю, вы так бы пристыдили его, что оскорбление, которое он хочет нанести вам и мне, было бы разом отомщено».
Кателла, слушая это и, по обычаю ревнивых, не обращая никакого внимания ни на то, кто это ей говорит, ни на его коварство, тотчас же поверив его словам, принялась сопоставлять с этим случаем разные другие, бывшие прежде, и, внезапно воспламенясь гневом, отвечала, что она непременно это сделает, что сделать это ей будет не так уж тягостно и что если он придет, она наверно так пристыдит его, что всякий раз, как он увидит потом женщину, ему будет приходить это в голову. Риччьярдо, довольный этим и видя, что его затея хороша и удается, многими другими речами утвердил ее в ее намерении и упрочил уверенность, прося тем не менее не говорить никогда, что она это узнала от него, что она и пообещала ему на своей чести.
На следующее утро Риччьярдо отправился к одной досужей женщине, державшей баню, о которой он говорил Кателле; он рассказал ей, что намерен сделать, и просил быть в этом случае, насколько может, ему помощницей. Женщина, будучи ему очень обязанной, сказала, что охотно это исполнит, и условилась с ним, что ей говорить и делать. В доме, где находились бани, была одна очень темная комната, так как в нее не выходило ни одного окна, через которое мог бы проникать свет; согласно наставлению Риччьярдо, женщина устроила ее и поставила в ней постель, какую могла лучше, в которой Риччьярдо и лег, поужинав, и стал ожидать Кателлу.
Дама, выслушав слова Риччьярдо и придав им более веры, чем то было нужно, полная негодования возвратилась вечером к себе, где случайно Филиппелло, вернувшись с своей стороны, занятый другими мыслями, не оказал ей, быть может, такого дружеского приема, с каким обыкновенно он ее встречал. Видя это, она стала подозревать его еще больше прежнего, говоря про себя: «Действительно, у него в мыслях та дама, с которой завтра он думает найти удовольствие и наслаждение; но этому наверно не бывать». С этой мыслью, раздумывая, что она ему скажет, когда пробудет с ним, она провела почти всю ночь.
Сказывать ли далее? Когда настал девятый час, Кателла, взяв с собой свою служанку и не изменяя ни в чем своему намерению, отправилась в те бани, какие указал ей Риччьярдо; там, найдя ту женщину, она спросила, не приходил ли сюда сегодня Филиппелло? На это женщина, наученная Риччьярдо, сказала: «Не вы ли дама, которая должна прийти, чтобы поговорить с ним?» Кателла ответила: «Да, я самая». – «В таком случае, – сказала женщина, – пожалуйте к нему». Кателла, искавшая, чего не желала бы найти, велев отвести себя в комнату, где находился Риччьярдо, вошла туда с покрытой головой и заперла за собою дверь. Риччьярдо, видя, что она вошла, с радостью встал и, приняв ее в свои объятия, тихо сказал: «Добро пожаловать, душа моя!» Кателла, чтобы лучше притвориться не тою, чем была, обняла его и поцеловала и очень обласкала, не произнеся ни слова, из боязни быть им узнанной, если заговорит. Комната была очень темна, чем каждый из них был доволен; даже от долгого пребывания в ней глаза не приглядывались ни к чему. Риччьярдо повел ее на постель, и там, ничего не говоря, дабы голоса нельзя было распознать, они долго оставались к большему удовольствию и утехе одной, чем другой стороны. Но когда Кателле показалось, что настало время выразить затаенное негодование, она, разгоряченная пылким гневом, начала говорить так: «Увы, как несчастна судьба женщин и как дурно расточают многие из них свою любовь к мужьям! Вот я, несчастная, уже восемь лет как люблю тебя больше жизни, а ты, как вижу, весь сгораешь и томишься любовью к посторонней женщине, преступный ты злодей! С кем думаешь провел ты время? С тою, которую благодаря лживым ласкам ты так долго обманывал, показывая ей любовь, но будучи влюблен в другую. Я – Кателла, а не жена Риччьярдо, бесчестный ты изменник! Прислушайся, не узнаешь ли ты мой голос? Ведь это я; тысячелетием кажется мне время, отделяющее нас от света, чтобы мне можно было пристыдить тебя, как ты того заслуживаешь, грязный ты, подлый пес! Увы, бедная я, к кому в течение стольких лет я питала такую любовь? К этому мерзкому псу, который, полагая, что держит в объятиях другую женщину, оказал мне более ласки и любви в столь короткий срок, проведенный мною с ним, чем во все остальное время, как я ему принадлежала. Ты сегодня очень был силен, поганый ты пес, а дома оказываешься обыкновенно таким вялым и бессильным! Но хвала Богу, ты обработал свое поле, не чужое, как ты предполагал. Я не удивляюсь, что в эту ночь ты не приближался ко мне. Ты намеревался свалить тяжесть на стороне, и тебе хотелось явиться свежим всадником на поле битвы. Но, благодарение Богу и моей предусмотрительности, вода все же пошла по течению, как и надлежало. Почему же не отвечаешь ты, преступный человек? Почему не скажешь чего-нибудь? Или ты онемел, слушая меня? Ей-богу, не знаю, что удерживает меня всадить мои ногти в твои глаза и вырвать их. Ты рассчитывал очень скрытно устроить эту измену; но слава Богу, что знает один, узнает и другой; тебе не это удалось: я послала по твоим следам лучших собак, чем ты думал».
Риччьярдо радовался про себя этим словам и, ничего не отвечая, обнимал ее, целовал и расточал ласки пуще прежнего. Поэтому она продолжала речь, говоря: «Да, теперь ты думаешь задобрить меня твоими притворными ласками, постылый ты пес, успокоить и утешить меня, но ты ошибаешься. Я никогда не утешусь этим, пока не опозорю тебя в присутствии всех наших родственников и друзей, какие только есть. Но разве, злой ты человек, я не так же красива, как жена Риччьярдо Минутоло? Не такая же благородная? Отчего ты не отвечаешь, грязный ты пес? Чего у нее больше, чем у меня? Убирайся, не трогай меня, ведь ты уж слишком много поратовал. Я хорошо знаю, что теперь, когда тебе известно, кто я, ты принялся бы делать насильно то, что делал; но по милости Божией я еще заставлю тебя попоститься. Не понимаю, почему мне не послать за Риччьярдо, который любил меня больше самого себя и не мог похвалиться, чтобы я хотя бы раз на него взглянула; а какое было бы от того зло, если б я так поступила? Ты думал иметь здесь дело с его женой, и кабы имел ее, не за тобой стало бы дело; потому, если бы он стал моим, у тебя не было бы основания осуждать меня». Много было еще речей и упреков со стороны дамы; однако же, наконец, Риччьярдо, сообразив, что если он дозволит ей удалиться в этом убеждении, то может произойти много зла, решил объявиться и вывести ее из заблуждения, в каком она находилась; обняв ее и обвив ее так, что она не могла уйти, он сказал: «Душа моя, не гневайтесь; чего я, любя вас, попросту не мог получить, то научил меня добыть обманом Амур; я – ваш Риччьярдо».
Услышав это и узнав голос, Кателла хотела мгновенно вскочить с постели, но не могла; поэтому она собралась закричать, но Риччьярдо, закрыв ей рот рукою, сказал: «Мадонна, теперь уже нельзя устроить так, чтобы не было того, что совершилось, хотя бы вы кричали всю вашу жизнь, если же вы закричите или сделаете как-нибудь так, что о том кто-нибудь где-нибудь узнает, то могут произойти два последствия. Во-первых – и это не может не интересовать вас, – ваша честь и ваша добрая слава будут испорчены, потому что, если бы вы и стали говорить, что я завлек вас сюда обманом, я скажу, что это неправда и что, напротив, я побудил вас прийти сюда, обещая дать денег и подарок, а вы, не получив вполне, как надеялись, рассердились и завели эти пререкания и шум. А вы знаете, что люди более склонны верить дурному, чем хорошему; поэтому мне поверят не менее, чем вам. После этого между вашим мужем и мною возникнет смертельная вражда, и может так случиться, что или я его убью, или он меня, от чего вам не будет потом ни веселья, ни удовлетворения. Поэтому, сердце мое, откажитесь от намерения в одно и то же время и себя опозорить и вовлечь в опасность и ссору вашего мужа и меня. Вы не первая, которая была обманута, и не будете последней, я же обманул вас не с тем, чтобы отнять у вас то, что вам принадлежит, а вследствие избытка любви, какую я питаю к вам и склонен питать всегда, оставаясь вашим нижайшим слугою. И так как я сам, и все мое, и все, что я смогу и чего стою, уже давно было вашим и к вашим услугам, я хочу, чтобы с этого времени и впредь все это было еще более таковым. Вы, рассудительная во всем, будете, я уверен, такою же и в этом случае».
Пока Риччьярдо держал эту речь, Кателла сильно плакала, и хотя была очень разгневана и распространялась в упреках, тем не менее рассудок указывал ей справедливость слов Риччьярдо, и она поняла, что может приключиться все то, о чем он ей говорил; поэтому она сказала: «Риччьярдо, не знаю, даст ли мне Бог силу перенести нанесенное мне тобою оскорбление и обман. Я не хочу кричать здесь, куда привели меня моя простота и излишняя ревность; но будь уверен, я никогда не буду довольна, если не увижу себя тем или другим способом отомщенной за то, что ты со мною сделал; поэтому отпусти меня, не удерживай больше; ты добился того, чего желал, и получил от меня сколько тебе было угодно; пора меня оставить; оставь меня, прошу тебя об этом». Видя, что она еще сильно разгневана, Риччьярдо решил сам с собою не отпускать ее до тех пор, пока она не помирится с ним; поэтому он начал умилостивлять ее нежнейшими словами и так говорил, так просил, так заклинал, что она, побежденная, помирилась с ним, и они с обоюдного согласия остались вместе довольно долго в величайшем удовольствии. Познав тогда, насколько поцелуи любовника слаще поцелуев мужа, дама, сменив свою строгость к Риччьярдо на нежную любовь, любила его с этого дня очень нежно; действуя с большой осторожностью, они часто наслаждались своею любовью. Да пошлет Господь и нам наслаждаться нашей.
Новелла седьмая
Тедальдо, рассорившись со своей любовницей, уезжает из Флоренции; спустя некоторое время возвращается туда под видом паломника, говорит с ней, приводит ее к сознанию ее неправоты, спасает жизнь ее мужа, обвиненного в его убийстве, примиряет его с братьями и разумно благоденствует с его женою
Уже Фьямметта умолкла, восхваляемая всеми, когда королева, дабы не терять времени, поскорее велела рассказывать Емилии, которая и начала так: – Мне хочется вернуться в наш город, из которого угодно было выйти двум моим предшественницам, и показать вам, как один из наших сограждан снова вернул себе свою утраченную им даму.
Итак, жил во Флоренции некий молодой человек, по имени Тедальдо дельи Элизеи, который, будучи без меры влюблен в одну даму, по имени Эрмеллина, жену некоего Альдобрандино Палермини, своими достохвальными нравами заслуживал исполнения своих желаний. Этому счастью воспротивилась судьба, враг счастливых, ибо по какому бы то ни было поводу дама, некоторое время милостивая к Тедальдо, совсем отняла у него свои милости и не только отказывалась принимать его послания, но не хотела никоим образом видеть его, вследствие чего он впал в жестокую, досадливую печаль; но его любовь была так скрыта, что никто не думал, что это и было причиной его грусти. Попытавшись разными способами снова приобресть любовь, которую, казалось ему, он утратил без всякой своей вины, и видя, что все его труды напрасны, он решился покинуть свет, не желая, чтобы та, которая была причиной его бедствий, радовалась, видя его чахнущим. Собрав какие мог деньги, он тайком, ничего не говоря ни родственникам, ни друзьям, кроме одного своего приятеля, знавшего все, уехал и прибыл в Анкону, назвавшись Филиппе де Сандолеччио; здесь, сойдясь с одним богатым купцом, он устроился у него в качестве слуги и поехал с ним на его корабле в Кипр. Его обхождение и поведение так понравились купцу, что тот не только назначил ему хорошее жалованье, но и принял его в долю товарищем, передав, кроме того, в его руки большую часть своих дел, которые он вел так успешно и с таким старанием, что в несколько лет стал хорошим, богатым и известным купцом. Среди этих занятий, хотя будучи глубоко уязвлен любовью, он часто вспоминал о своей жестокой даме и сильно желал снова увидеть ее, он проявил такую настойчивость, что семь лет выдержал эту борьбу. Но случилось, что однажды на Кипре он услышал песню, когда-то им сложенную, где говорилось о его любви к даме и ее любви к нему и о радостях, которые ему от нее были, и ему представилось, что не может того быть, чтобы она забыла его, и в нем возгорелось столь сильное желание снова увидеть ее, что, не будучи в силах долее выдержать, он решил вернуться во Флоренцию. Приведя все свои дела в порядок, он отправился в сопровождении одного своего слуги в Анкону, откуда, когда его пожитки прибыли, отослал их во Флоренцию к одному другу своего анконского товарища, сам же тайно, под видом паломника от гроба Господня, поехал вслед с своим слугою.
Прибыв во Флоренцию, он остановился в небольшой гостинице, содержимой двумя братьями и находившейся по соседству с домом его дамы, и никуда не захотел пойти, не побывав перед ее домом, чтобы увидеть ее, если можно. Но он нашел окна, двери и все в доме запертым и сильно обеспокоился, не умерла ли она, или не переехала ли. Поэтому, весьма озабоченный, он направился к дому своих братьев, перед которым увидел четырех из них, одетых во все черное, что сильно его удивило. Зная, что он так изменился в одежде и лицом сравнительно с тем, каким был, когда уезжал, что его нелегко будет узнать, он храбро подошел к одному башмачнику и спросил, почему эти люди одеты в черное. На это башмачник отвечал: «Они в черном потому, что еще не прошло двух недель, как один из их братьев, бывший долгое время в отсутствии, по имени Тедальдо, был убит, и, кажется, я слышал, – они показали это на суде, – убил его некий Альдобрандино Палермини, ныне схваченный, потому что Тедальдо любил его жену и тайно вернулся, чтобы быть с ней». Тедальдо крайне удивился, что есть кто-то, столь на него похожий, что был принят за него, пожалел и о беде Альдобрандино. Узнав, что дама жива и здорова, он вернулся с наступлением ночи, исполненный разных мыслей, в гостиницу; когда он поужинал с своим слугой, его положили чуть ли не в верхнем этаже дома; потому ли, что его беспокоили разные думы, или постель была дурная, а может быть, и по причине тощего ужина, но прошла уже половина ночи, а он все еще не мог уснуть. Когда он бодрствовал таким образом, ему показалось, что кто-то лез с крыши, и спустя немного через щель двери своей комнаты он увидел поднимавшийся наверх свет. Тогда, прислонясь без шума к щели, он стал смотреть, что бы это значило, и увидел молодую, очень красивую девушку, которая держала светоч, а к ней шли трое мужчин, спустившихся с крыши. После взаимных дружеских приветствий один из них сказал молодой девушке: «Теперь, слава Богу, мы можем быть совершенно спокойны, потому что достоверно знаем, что братья Тедальдо Элизеи показали, как на виновника его смерти, на Альдобрандино Палермини, в чем он и сознался, и приговор уже подписан; тем не менее необходимо молчать, потому что, если когда-либо узнают, что это были мы, мы очутимся в той же опасности, как и Альдобрандино». Сказав это девушке, которая очень тому обрадовалась, они спустились и пошли спать.
Услышав это, Тедальдо стал размышлять, сколь велики и каковы бывают заблуждения, в которые может впасть ум человеческий. Сперва ему пришли на ум его братья, принявшие и похоронившие вместо него чужого человека, потом невинно обвиненный по ложному подозрению и доведенный неверными свидетельствами до смерти, а также слепая строгость законов и правителей, которые очень часто, как будто ревностно разыскивая истину, заставляют своей жестокостью доказывать ложь, а выдают себя за служителей правосудия и Бога, тогда как они – служители неправды и дьявола. Затем он стал думать о том, как бы спасти Альдобрандино, и, сообразив, решил, что ему надо сделать. Лишь только он поднялся утром, оставил своего слугу, а сам отправился, когда ему показалось, что пора, к дому своей дамы; найдя случайно дверь открытою, вошел и, увидя свою даму, сидевшую на полу в небольшой зале нижнего этажа, всю в слезах и печали, от жалости чуть не заплакал и, приблизясь к ней, сказал: «Мадонна, не печальтесь, ваше утешение близко». Услышав его, дама подняла глаза и, плача, сказала: «Добрый человек, ты, кажется, иностранец, паломник, что можешь ты знать о моем утешении или о моей печали?» Тогда паломник отвечал: «Мадонна, я – из Константинополя и только что прибыл сюда, посланный Богом, дабы обратить ваши слезы в веселье и спасти вашего мужа от смерти». – «Если ты из Константинополя, – сказала дама, – и только что прибыл сюда, как же ты знаешь, кто мой муж и кто я?» Паломник, начав с начала, рассказал всю историю злоключений Альдобрандино, а ей объяснил, кто она, сколько времени замужем и многое другое, что было хорошо ему известно из ее прошлого; это сильно удивило даму, и, приняв его за пророка, она упала на колени, прося его именем Бога, коли он пришел для спасения Альдобрандино, поспешить, потому что времени оставалось не много. Паломник, притворясь совсем святым человеком, сказал: «Мадонна, встаньте, не плачьте и выслушайте хорошенько, что я вам скажу, и берегитесь не передавать этого никогда и никому. Как открыл мне Господь, бедствие, в котором вы теперь обретаетесь, ниспослано за один грех, некогда совершенный вами, который он пожелал отчасти очистить этой печалью, и ему угодно, чтобы вы искупили его вполне, иначе вы снова впадете в еще большее несчастье». Тогда дама сказала: «Мессере, много у меня грехов, и я не знаю, какой из них Богу угодно, чтобы я искупила». – «Мадонна, – сказал тогда паломник, – я хорошо знаю, что это за грех, и спрошу у вас о нем не для того, чтобы лучше доведаться о нем, а для того, чтобы вы, рассказав его, сами возымели большее угрызение совести. Но приступим к делу. Скажите мне: не помните ли вы, чтобы у вас был когда-нибудь любовник?» Услышав это, дама испустила глубокий вздох и сильно удивилась, не подозревая, чтобы кто-нибудь знал об этом, хотя, когда убит был тот, кого похоронили за Тедальдо, об этом говорили под рукой на основании нескольких слов, неосторожно пущенных товарищем Тедальдо, который был в том осведомлен. Она отвечала: «Я вижу, что Бог открывает вам все людские тайны, и потому не намерена скрывать от вас мои. Правда, в моей молодости я очень любила несчастного молодого человека, смерть которого приписывают моему мужу, и эту смерть я оплакивала, как и теперь она печалит меня, ибо хотя я и выказывала себя к нему жестокой и холодной перед его отъездом, но ни отъезд, ни его долгое отсутствие, ни несчастная смерть не могли вырвать его из моего сердца». На это паломник сказал: «Несчастного молодого человека, которого убили, вы не любили никогда, а любили Тедальдо Элизеи. Но скажите мне, какая была причина, вследствие которой вы рассердились на него? Оскорбил ли он вас когда-нибудь?» На это дама отвечала: «Нет, он никогда не оскорблял меня, но причиной моего гнева были слова одного проклятого монаха, которому я раз исповедовалась; потому что, когда я ему рассказала о своей любви к тому человеку и о моих близких отношениях с ним, он так накричал на меня, что я и теперь еще напугана: говорил, что если я не отстану, то попаду в пасть дьявола, в преисподнюю ада и буду брошена в огонь в наказание за то. От этого на меня напал такой страх, что я решила не искать более близости Тедальдо; и дабы не иметь к тому повода, не захотела более принимать его писем и посланий, хотя я думаю, что если бы он продолжал настаивать, а не удалился, как я предполагаю, в отчаянии, и я видела бы, как он тает, точно снег на солнце, моя твердая решимость была бы поколеблена, потому что и у меня не было более сильного желания в мире». Сказал тогда паломник: «Этот один грех вас и мучит теперь. Я знаю наверно, что Тедальдо никоим образом не принуждал вас, когда вы влюбились в него, вы сделали это по вашему собственному желанию, ибо он вам понравился и пользовался вашим расположением, причем вы показывали ему, и словами и действиями, столько ласки, что если он и до того вас любил, вы усилили его любовь в тысячу раз и более. Если же это было так (а я знаю, что так было), то какой же повод мог вас заставить столь жестоко устраниться от него? Следовало подумать об этом наперед, и если бы вам представилось, что вам придется в том раскаяться, как в дурном поступке, не совершать его. Как он стал вашим, так и вы стали его. Вы могли, распоряжаясь им по желанию, как своею собственностью, сделать так, чтобы он не был вашим; но пожелать отнять у него вас, которая ему принадлежала, это была татьба и непристойное дело, коли на это не было его желания. Вы должны знать, что я – монах и что потому мне известны все нравы монахов, и если я выражусь о них несколько свободно для вашей пользы, это мне более пристало, чем другому, и я хочу рассказать вам о них, дабы отныне вы их познали лучше, чем кажется, знали до сих пор. Были некогда весьма святые и достойные монахи, но у тех, которые нынче называют себя монахами и желают, чтобы их принимали за таковых, нет ничего монашеского, кроме рясы, да и та не монашеская, потому что в то время как основатели монашества наказали делать рясы узкие, простые, из грубой материи, во свидетельство, что их дух презирает все мирское, коли они облекают тело в столь презренную одежду, – нынешние монахи делают себе рясы просторные, двойные, блестящие, из тонкой материи, придав им красивый архипастырский вид, и не стыдятся красоваться ими в церквах и на площадях, как миряне своими платьями; и как рыбак старается в реке разом захватить своею сетью много рыбы, так они, завернувшись в широчайшие складки, тщатся запутать в них побольше святош, вдов и других недалеких женщин и мужчин; и об этом они более заботятся, чем о других занятиях. Потому – дабы еще ближе подойти к истине – у них не монашеские рясы, а только цвет ряс. Тогда как древние монахи желали спасения людей, нынешние ищут женщин и богатств; и все свое старание они положили и полагают на то, чтобы криками и изображением страхов пугать дураков и доказывать им, что грехи искупаются милостынями и обеднями, для того чтобы им, ставшим монахами по низости духа, не по набожности, и дабы не нести труда, кто приносил хлеба, кто посылал вина, кто поминки за души их усопших. Действительно, справедливо, что милостыня и молитва искупают грехи; но если бы те, что творят милостыню, видели, кому они ее творят, или знали их, они скорее сберегли бы ее себе или бросили свиньям. И так как они знают, что чем менее обладателей большого состояния, тем им живется лучше, каждый из них старается криками и страхами отстранить другого от того, чем хотел бы обладать один. Они нападают на мужчин, предающихся сладострастию, для того, чтобы те, на которых они нападают, от него отстали, а нападавшим остались бы женщины; они осуждают лихву и незаконные барыши с тем, чтобы им поручили взыскать их, а они могли бы сделать себе более широкие рясы, приобресть епископство и другие выгодные прелатуры на те самые средства, которые, как они объявляли, должны вести к гибели их обладателей. И когда их порицают за эти дела, как и за многие другие грязные, они отвечают: „Поступайте так, как мы говорим, а не так, как делаем“, ибо полагают, что это достаточное облегчение всякой духовной тяжести, как будто овцам легче быть непреклонными и твердыми, как железо, чем пастырям. А сколько есть людей, которым они дают подобный ответ и которые не понимают его в том смысле, какой они ему придают, про то знает бо?льшая их часть. Нынешние монахи желают, чтобы вы делали то, что они говорят, то есть чтобы вы наполняли их кошельки деньгами, поверяли им свои тайны, сохраняли целомудрие, были бы терпеливы, прощали обиды, остерегались злословия; все это очень хорошие вещи, честные, святые; но для чего они говорят вам о всем этом? Для того, чтобы они сами могли делать, чего не могли бы, если бы то стали делать миряне. Кто не знает, что без денег их тунеядство не могло бы продолжаться? Если ты тратишь свои деньги на свое удовольствие, монах не может тогда бездельничать в ордене; если ты станешь ухаживать за женщинами, монахам не будет места; если ты нетерпелив и не прощаешь обиды, монах не осмелится явиться в твой дом, чтобы осквернить твою семью. Но зачем мне останавливаться на всем? Они сами обвиняют себя каждый раз, когда перед лицом людей понимающих приводят то оправдание. Почему не остаются они у себя дома, если полагают, что не могут быть ни святыми, ни воздержными? А если они уже хотят посвятить себя на то, почему не следуют другому святому слову Евангелия? Христос начал творить и поучать. Пусть же и они сперва делают, а уже затем поучают других. Я видел на моем веку тысячи ухаживателей, любителей, посетителей не только светских женщин, но и монахинь; и это были из тех, которые громче всех кричали с амвонов. Не за этими ли, так творящими, последуем мы? Кто так делает, на то его добрая воля, но Бог знает, делает ли он благоразумно. Но положим, справедливо то, что сказал вам накричавший на вас монах, а именно, что нарушение супружеского долга – тяжкий грех, но разве не более тяжкое преступление обокрасть человека? Разве еще не большее убить его или изгнать на скитание по свету? Каждый согласится с этим. Что женщина сближается с мужчиной – это естественный грех; но обокрасть и убить его или изгнать – это происходит от злорадства. Что вы обокрали Тедальдо, отняв от него самое себя, ставшую его собственностью с вашего добровольного согласия, это я уже доказал вам выше; затем я утверждаю, что, насколько это зависело от вас, вы убили его, потому что не ваша была вина, если он, видя, что вы оказываетесь все более к нему жестокой, не наложил на себя рук, а закон говорит, что тот, кто был причиной совершенного зла, повинен тому же, что и тот, кто совершил его. А что вы были причиной его изгнания и скитания по свету в течение семи лет, этого нельзя отрицать. Таким образом, вы совершили гораздо больший грех каждым из трех вышеназванных действий, чем какой совершили, находясь с ним в близких отношениях. Но посмотрим: быть может, Тедальдо заслужил все это? Поистине нет; вы сами уже признали это, не говоря о том, что, сколько я знаю, он любит вас больше самого себя. Никого он так не уважал, так не восхвалял и не превозносил над всеми женщинами, как вас, когда был в таком месте, где он пристойно и не возбуждая подозрения говорил о вас. Все его благо, вся его честь, вся его свобода, все было предоставлено им в ваши руки. Разве он не юноша хорошего рода? Не красив был между другими своими согражданами? Не доблестен во всем, что прилично молодым людям? Разве его все не любили, не дорожили им и не желали его видеть? И на это вы не скажете: нет. Итак, каким же образом по одному слову дурака монаха, глупого и завистливого, вы могли принять против него какое бы то ни было жестокое решение? Я не понимаю заблуждения женщин, пренебрегающих мужчинами и мало их ценящих, тогда как, сознавая, что такое они сами и каково благородство, дарованное Богом мужчине превыше всякого другого животного, они должны бы гордиться, когда любимы кем-нибудь, и высоко ценить его и употреблять все усилия, чтобы угодить ему, дабы он никогда не перестал их любить. Что вы это сделали, побуждаемая словами монаха, который, наверное, должен быть каким-нибудь прихлебателем и охотником до пирогов – вы знаете; может быть, он сам желал стать на место, с которого старался прогнать другого. Вот это и есть тот грех, который божественная справедливость, праведно уравновешивающая свои действия с последствиями, не пожелала оставить безнаказанным; и как вы старались без всякого повода отнять себя у Тедальдо, так ваш муж без справедливого повода был и еще находится в опасности ради Тедальдо, а вы в печали. Если вы хотите от нее избавиться, вот что следует пообещать и тем более сделать: если когда-нибудь случится, что Тедальдо вернется сюда из своего долгого изгнания, вы должны возвратить ему вашу милость, вашу любовь, вашу благосклонность и близость и восстановить его в то положение, в каком он был, прежде чем вы неразумно поверили сумасбродному монаху».
Паломник окончил свою речь, когда дама, слушавшая его внимательно, ибо его доводы казались ей весьма справедливыми и она была уверена, что, как он говорил, она взыскана печалью именно за тот грех, сказала: «Друг Божий, я признаю совершенно справедливым все, о чем вы говорили, и благодаря главным образом вашим указаниям узнала, что такое монахи, которых до того считала за святых; без всякого сомнения я признаю, что, действуя таким образом с Тедальдо, я совершила большой проступок, и если бы можно, я бы охотно искупила его тем способом, каким вы говорите; но как это может статься? Тедальдо никогда не вернется сюда: он умер; итак, чего нельзя сделать, того, не знаю, зачем вам и обещать». На это паломник сказал: «Мадонна, Тедальдо вовсе не умер, как открыл мне Господь, а жив и здоров, и ему было бы хорошо, если б он пользовался вашей милостью». Дама сказала тогда: «Послушайте, что вы говорите? Я видела его перед моими дверями пронзенного несколькими ударами ножа, держала его в этих объятиях, пролила на его мертвое лицо много слез, которые, быть может, и были причиной того, что об этом сказано было нечто, о чем потом говорили, злословя». Паломник тогда ответил: «Мадонна, что бы вы ни говорили, я вас уверяю, что Тедальдо жив, и, если вы намерены пообещать и исполнить сказанное, я надеюсь, вы его скоро увидите». Дама сказала тогда: «Я сделаю это, и сделаю охотно, и ничего не может случиться, что бы доставило мне такую радость, как увидеть моего мужа свободным и без ущерба, а Тедальдо живым». Тогда Тедальдо показалось, что пора ему открыться и утешить даму более положительной надеждой насчет ее мужа, и он сказал: «Мадонна, дабы успокоить вас насчет вашего мужа, мне надо открыть вам одну тайну, которую вы сохраните так, чтобы во всю вашу жизнь не обнаружить ее никогда». Они были одни в отдаленном месте дома, ибо дама возымела полное доверие к святости, которою, казалось ей, исполнен был паломник; потому Тедальдо, вынув перстень, старательно сохраняемый им и подаренный ему дамой в последнюю ночь, проведенную с ней, показал ей его и спросил: «Мадонна, узнаете ли вы это?» Как увидела его дама, признала и сказала: «Да, мессере, я подарила его когда-то Тедальдо». Тогда паломник встал, быстро сбросил с себя паломническую одежду, а с головы шляпу, и, заговоря по-флорентийски, сказал: «А меня узнаете ли вы?» Когда дама увидела его, узнав, что то был Тедальдо, совсем остолбенела, так испугавшись его, как пугаются мертвых, когда их видят ходящими как живые; поэтому она не пошла ему навстречу, как к Тедальдо, явившемуся из Кипра, а готова была убежать в испуге, как от Тедальдо, вернувшегося сюда из могилы. Но Тедальдо сказал ей: «Мадонна, не бойтесь, я – ваш Тедальдо, живой и здоровый, я никогда не умирал и не был убит, что бы ни думали вы и мои братья». Немного ободренная и узнавшая его голос дама, всмотревшись в него несколько и уверившись, что действительно это был Тедальдо, бросилась к нему со слезами на шею, поцеловала его и сказала: «Мой милый Тедальдо, добро пожаловать». Тедальдо, обняв ее и поцеловав, сказал: «Мадонна, теперь не время для более близкой встречи; я хочу пойти устроить, чтобы Альдобрандино был возвращен вам здравым и невредимым, и надеюсь, что до завтрашнего вечера вы услышите вести, которые будут вам по сердцу; если же, как я думаю, вести об его освобождении будут у меня хорошие, я хочу сегодня же ночью прийти к вам и рассказать их вам с большим удобством, чем мог бы сделать теперь».
Надев снова свое паломническое платье и шляпу, поцеловав в другой раз даму и утешив ее доброй надеждой, он расстался с нею и направился туда, где Альдобрандино обретался в заключении, более отдаваясь мыслями страху предстоящей смерти, чем надежде будущего освобождения. Как бы в качестве утешителя, Тедальдо вошел к нему с согласия тюремщиков и, сев возле него, сказал ему: «Альдобрандино, я один из твоих друзей, посланный тебе для твоего спасения Богом, сжалившимся над тобой за твою невинность; поэтому если ты из почитания к нему пожелаешь даровать мне небольшую милость, о которой я попрошу тебя, то без сомнения, прежде чем завтра наступит вечер, ты вместо ожидаемого тобою смертного приговора услышишь о своем оправдании». На это Альдобрандино отвечал: «Почтенный человек, так как ты стараешься о моем спасении, хотя я и не знаю тебя и не помню, чтобы видел тебя когда-либо, ты, должно быть, мне друг, как ты это говоришь. И, поистине, проступка, за который, говорят, я должен быть приговорен к смерти, я никогда не совершал; много других совершал я прежде, они-то, быть может, и привели меня к этому концу. Но говорю тебе перед Богом, если он теперь смиловался надо мной, я не только обещаю, но охотно сделаю и большее, не то что малое; поэтому проси, что тебе угодно, ибо, если случится, что я освобожусь, я непременно и верно все исполню». Тогда паломник сказал: «Я не желаю ничего другого, как только, чтобы ты простил четырем братьям Тедальдо за то, что они довели тебя до этого положения, предположив, что ты виновен в смерти их брата, и чтобы ты принял их как братьев и друзей, если они попросят у тебя за это прощения». На это Альдобрандино отвечал: «Никто не знает, сколь сладостна месть и с какой горячностью ее желают, кроме того, кто получил оскорбление; тем не менее, лишь бы Господь озаботился моим спасением, я охотно прощу их и простил уже теперь; и если я выйду отсюда живым и освобожусь, постараюсь сделать так, как будет тебе угодно».
Паломник остался этим доволен и, не желая объяснять ему больше, просил его ободриться духом, ибо наверное, прежде чем кончится следующий день, он узнает точнейшие вести о своем спасении. Оставя его, он пошел к синьории и так сказал тому, кому в тот день принадлежала власть: «Синьор мой, каждому надлежит по мере сил стараться, чтобы раскрыта была истина вещей, особенно тем, которые занимают положение, подобное вашему, и это для того, чтобы не совершившие преступления не несли наказания, а виновные были наказаны. Дабы так именно и случилось, к вашей чести и назло тому, кто его заслужил, я и пришел сюда. Как вам известно, вы строго преследуете судом Альдобрандино Палермини, полагая, будто в самом деле открыли, что это он убил Тедальдо Элизеи, и готовы его осудить; это наверное ложно, как я рассчитываю доказать вам до полуночи, отдав вам в руки убийц этого юноши». Почтенный муж, которому жаль было Альдобрандино, охотно склонил слух к словам паломника и, когда тот многое рассказал ему об этом деле, схватил по его указанию при первом сне обоих братьев гостиников и их слугу без всякого с их стороны сопротивления, и когда он готовился, дабы узнать, как было дело, подвергнуть их пытке, они, не желая того, каждый с своей стороны, а потом и все вместе открыто сознались, что они убили, не зная его, Тедальдо Элизеи. Когда их спросили о поводе, они сказали, что сделали это потому, что, когда их не было в гостинице, он приставал к жене одного из них и хотел принудить ее удовлетворить его желаниям.
Узнав об этом, паломник, с согласия синьора, удалился и пришел тайком в дом мадонны Эрмеллины, которую нашел одну, так как все в доме спали, поджидавшую его и одинаково желавшую услышать хорошие вести о своем муже и вполне примириться с своим Тедальдо. Придя к ней, он с веселым видом сказал: «Дражайшая моя дама, радуйся, ибо завтра наверно твой Альдобрандино будет у тебя здрав и невредим» – и, дабы дать ей более полную уверенность, он рассказал ей подробно все, что сделал. Дама, которую эти два таких и столь внезапных происшествия, как возврат живого Тедальдо, которого она оплакивала, как действительно мертвого, и ожидание увидеть избавленного от опасности Альдобрандино, привели в такую радость, какую когда-либо кто испытывал, любовно обняла и поцеловала Тедальдо; отправясь вместе на постель, они, с общего доброго согласия, заключили прелестный и веселый союз, доставляя друг другу удовольствие и утеху.
Когда стал близиться день, Тедальдо поднялся, объяснив даме, что он намерен делать, и, попросив ее снова держать это в большой тайне, вышел от нее все еще в платье паломника, чтобы заняться, когда придет время, делами Альдобрандино. С наступлением дня синьория, полагая, что она имеет полное осведомление о деле, тотчас же освободила Альдобрандино, и несколько дней спустя, на том самом месте, где было совершено убийство, сняли головы преступникам. Альдобрандино, освобожденный, таким образом, к великой радости его, его жены и всех друзей и родных, ясно понимая, что все это сделалось благодаря вмешательству паломника, перевел его к себе на все время, пока он пожелает остаться в городе; и здесь и муж и жена не могли достаточно учествовать его и нарадоваться ему, в особенности жена, хорошо знавшая, для кого она это делает.
Через несколько времени, полагая, что пора помирить Альдобрандино с своими братьями, которые, как он слышал, были не только оскорблены объявлением его невинным, но из страха и вооружились, Тедальдо напомнил Альдобрандино об его обещании. Альдобрандино тотчас отвечал, что готов. Тогда паломник попросил его устроить на следующий день великое пиршество, на котором, по его желанию, Альдобрандино с своими родичами и их женами учествовал бы четырех братьев и их жен, к чему прибавил, что сам немедленно пригласит их с своей стороны на его мировую и на его пир. Когда Альдобрандино согласился на все, что было угодно паломнику, тот сейчас же пошел к четырем братьям и, после многих переговоров, потребных в деле такого рода, очень легко убедил их, наконец, при помощи неопровержимых доводов в необходимости снова приобрести дружбу Альдобрандино, испросив у него прощение. Сделав это, он пригласил их и их жен обедать на другое утро к Альдобрандино; они, поверив его честному слову, охотно приняли приглашение.
Итак, на следующий день утром, в обеденное время, сперва четыре брата Тедальдо, одетые в траур, как были, пришли с некоторыми из своих друзей в дом ожидавшего их Альдобрандино; здесь перед всеми теми, кто был приглашен Альдобрандино разделить их общество, бросив на землю свое оружие, они отдали себя в его руки, прося прощения в том, что они учинили против него. Альдобрандино, в слезах, принял их дружественно и, поцеловав всех в губы, в коротких словах простил им нанесенное ему оскорбление. После них пришли их сестры и жены, все одетые в черное, и были любезно приняты мадонной Эрмеллиной и другими дамами. Затем мужчины, а равно и дамы были угощены великолепным пиром, где не было ничего не достойного похвалы, если не молчаливость, причиненная недавним горем и выражавшаяся в черном платье родственников Тедальдо, что заставило некоторых порицать пиршественный замысел паломника, который это и заметил. Но когда настало время нарушить эту молчаливость, как он решил это раньше, он встал, пока другие еще кушали плоды, и сказал: «Ничего недостает этому пиру, чтобы сделать его веселым, кроме Тедальдо, которого, так как вы его не узнали, хотя он непрестанно среди вас, я хочу вам показать». И, сбросив с себя рясу и весь монашеский убор, он остался в одной шелковой зеленой куртке. Все смотрели на него не без величайшего изумления и долго приглядывались, прежде чем кто-нибудь решился поверить, что это был он. Заметив это, Тедальдо начал рассказывать многое об их родне, о происшествиях, между ними бывших, и своих собственных приключениях. Тогда его братья и другие мужчины, обливаясь слезами радости, побежали его целовать, а потом то же сделали и дамы, как посторонние, так и родственницы, кроме мадонны Эрмеллины. Видя это, Альдобрандино сказал: «Что это такое, Эрмеллина? Почему ты не приветствуешь Тедальдо, как другие дамы?» На что дама ответила при всех: «Здесь нет никого, кто бы охотнее желал или желает оказать ему приветствие, чем я, обязанная ему более всякого другого, если подумать, что благодаря его помощи ты мне возвращен; но несчастные речи, сказанные во дни, когда мы оплакивали того, кого принимали за Тедальдо, удерживают меня от этого». На это Альдобрандино сказал: «Убирайся с ними, неужели ты думаешь, что я верю тем, кто лает? Стараясь о моем спасении, он хорошо показал, что это была ложь, не говоря уже о том, что я никогда тому не верил; встань же скорее и пойди обними его». Дама, не желавшая ничего другого, не замедлила повиноваться в этом своему мужу; поэтому, встав, она поцеловала Тедальдо, как то сделали другие, и приветствовала его. Это великодушие Альдобрандино понравилось братьям Тедальдо, так же как всем мужчинам и женщинам, бывшим там, и всякая ржавчинка, которая могла зародиться в умах некоторых от ходивших когда-то слухов, таким образом сгладилась.
Когда каждый выразил свою радость Тедальдо, он сам сорвал с братьев черные одежды и темные с сестер и своячениц и приказал, чтобы им принесли сюда другие одежды. Когда они переоделись, много было там песен и плясок и других забав, почему пир, бывший вначале молчаливым, имел шумный конец. В великом веселии все они, как были, пошли в дом Тедальдо, где ужинали вечером, и много еще дней после того они таким же образом продолжали празднество.
Флорентийцы долгое время смотрели на Тедальдо как на воскресшего человека и как на чудо, и у многих людей, даже у его братьев, осталось в уме слабое сомнение, он ли это, или нет; они еще не вполне верили этому и, может быть, еще долго не уверились бы, если бы не один случай, который им ясно доказал, кто был убитый. И этот случай был такой: однажды, когда солдаты из Луниджианы проходили перед их домом, они, увидев Тедальдо, пошли к нему навстречу, говоря: «Здравствуй, Фациоло!» На что Тедальдо, при братьях, отвечал: «Вы приняли меня за другого». Те, услышав его речь, смутились и попросили у него извинения, говоря: «Действительно, вы похожи, больше чем можно себе представить одного человека похожим на другого, на одного нашего товарища, по имени Фациоло из Понтремоли, который две недели тому назад, или немного более, отправился сюда, и мы никогда не могли узнать, что с ним сталось. Правда, нас удивило ваше платье, потому что он был солдат, как и мы». Старший брат Тедальдо, услышав это, подошел и спросил: как был одет этот Фациоло? Те рассказали, и оказалось, что тот убитый одет был именно так, как они говорили. Таким образом, по этим и другим приметам, узнали, что убитый был Фациоло, а не Тедальдо, вследствие чего исчезло подозрение к нему братьев и всех других. А Тедальдо, вернувшись богачом, оставался постоянным в своей привязанности, и так как его дама более с ним не ссорилась, то они, осторожно ведя дело, долгое время наслаждались своей любовью. Господь да способит нас насладиться нашей.
Новелла восьмая
Ферондо, отведав некоего порошка, похоронен за мертвого; извлеченный из могилы аббатом, который забавляется с его женою, он посажен в тюрьму и его уверяют, что он в чистилище; воскреснув, он воспитывает сына, рожденного от аббата его женою
Когда пришла к концу новелла Емилии, не только не надоевшая своей продолжительностью, но и показавшаяся всем рассказанной слишком кратко, ввиду количества и разнообразия сообщенных в ней происшествий, королева, одним знаком дав понять Лауретте свое желание, дала ей повод начать таким образом: – Дорогие дамы, мне припоминается для рассказа действительное происшествие, гораздо более похожее на выдумку, чем то было на самом деле; а пришло оно мне на память, когда я услышала, как один был похоронен и оплакан за другого. Я же расскажу, как один живой был погребен за мертвого, как затем он сам и многие другие сочли его не за живого, а за воскресшего, вышедшего из могилы, а тот был почтен за святого, кому, как виновному, следовало бы быть осужденным.
Итак, было и еще существует в Тоскане аббатство, лежавшее, как мы видим и многие другие, в местности, не слишком посещаемой людьми, куда поставлен был аббатом монах, во всех отношениях человек святейший, только не в отношении женщин; и умел он это делать так осторожно, что почти никто не то что о том не знал, но и не подозревал, почему его считали святым и во всех отношениях строгим. Случилось аббату близко сойтись с одним богатейшим крестьянином, по имени Ферондо, человеком грубым и безмерно простым, и ничем иным это знакомство не нравилось аббату, как тем, что он иногда потешался над его простотою. Во время этого знакомства аббат приметил, что у Ферондо красавица жена, в которую он так горячо влюбился, что о другом не думал ни днем, ни ночью; но услышав, что Ферондо был во всем остальном простаком и дураком, но в любви к своей жене и в ее охране был очень рассудителен, он пришел почти в отчаяние. Тем не менее, как человек умный, он довел Ферондо до того, что тот с своей женою приходил иногда поразвлечься в сад аббата, и здесь аббат самым скромным образом говорил им о блаженстве вечной жизни и о святых делах многих древних мужей и жен, так что у жены явилось желание у него исповедаться, и она попросила на то позволения у Ферондо и получила его.
Итак, придя на исповедь к аббату, к великому его удовольствию, и сев у ног его, прежде чем перейти к другому, она начала так: «Отче, если бы Господь даровал мне настоящего мужа или не даровал вовсе, мне, быть может, было бы легко, при помощи ваших наставлений, вступить на путь, ведущий, как вы сказали, к вечной жизни; но я, когда подумаю, что такое Ферондо и какова его глупость, могу сказать о себе, что хотя я и замужем, но вдова, поскольку, покуда он жив, не могу иметь другого мужа; а он, дурак, без всякого повода так безмерно ревнует меня, что я, вследствие этого, не могу с ним жить иначе, как в печали и беде. Поэтому, прежде чем приступить к дальнейшей исповеди, насколько могу смиренно прошу вас, да будет вам благоугодно дать мне какой-нибудь совет в этом деле, ибо, если в этом отношении я не обрету возможности к добродетельной жизни, ни исповедь и никакие благие дела мне не помогут».
Эта речь приятно затронула душу аббата, и ему представилось, что судьба открывает ему путь к достижению его величайшего желания; и он сказал: «Дочь моя, я думаю, что для такой красивой и нежной женщины, как вы, должно быть большой досадой, что у нее муж полоумный; но еще большей, думается мне, если он ревнив; а так как у вас и то и другое, я легко представляю себе то, что вы рассказываете о своем горе. Но, говоря кратко, против этого я не вижу иного совета или средства, кроме одного, а именно: излечить Ферондо от этой ревности. Средство излечить его я очень хорошо знаю как приготовить, лишь бы у вас хватило духа держать в тайне, что я вам скажу». Женщина сказала: «Отец мой, не сомневайтесь в этом, ибо я скорее умру, чем скажу кому бы то ни было, что вы мне запретили рассказывать; но как это можно будет сделать?» Аббат отвечал: «Если вы желаете, чтобы он выздоровел, необходимо, чтоб он отправился в чистилище». – «Как же он пойдет туда, будучи живым?» – сказала женщина. Аббат сказал: «Надо, чтоб он умер, так он и пойдет туда, и когда он претерпит столько мучений, что излечится от своей ревности, вы известными молитвами помолите Господа, чтоб он вернулся к жизни, и он вернется». – «Так мне придется остаться вдовой?» – сказала женщина. «Да, – ответил аббат, – на некоторое время, в которое остерегайтесь выходить за другого, ибо Господу это не понравится, а когда вернется Ферондо, вам придется вернуться к нему, и он стал бы ревновать более, чем когда-либо». Женщина сказала: «Лишь бы он излечился от этой злой напасти и мне не приходилось вечно жить взаперти, я согласна; делайте, как вам заблагорассудится». Сказал тогда аббат: «Я и сделаю, но какую же награду получу я от вас за такую услугу?» – «Отец мой, – сказала женщина, – что вам угодно, лишь бы это было в моей власти; но что может сделать женщина вроде меня, что бы приличествовало такому человеку, как вы?» На это аббат сказал: «Мадонна, вы можете сделать для меня не менее того, что я намерен сделать для вас, ибо, как я готовлюсь устроить нечто для вашего блага и утешения, так вы можете учинить, что будет мне во здравие и спасение моей жизни». Тогда женщина сказала: «Коли так, я готова». – «Итак, – сказал аббат, – вы подарите мне свою любовь и отдадитесь мне своей особой, к которой я пылаю и по которой совсем чахну». Как услышала это женщина, совсем смутившись, ответила: «Что это, отец мой, о чем вы это просите? А я думала, что вы – святой человек! Пристойно ли святым людям просить о таких делах женщин, обращающихся к ним за советом?» На это аббат сказал: «Душа моя, не удивляйтесь, ибо из-за этого святость не умаляется, так как она пребывает в душе, а что я прошу у вас – телесный грех. Как бы то ни было, но таковую силу возымела ваша прелестная краса, что так поступить меня побудила любовь. И скажу вам, что вашей красотой вы можете гордиться более, чем всякая другая женщина, коли подумаете, что она нравится святым, привыкшим созерцать красоты неба; кроме того, хотя я и аббат, все же человек, как другие, и, как видите, еще не стар. И сделать это вам не будет тягостно, напротив, вы должны того желать, ибо, пока Ферондо будет в чистилище, я ночью, находясь в обществе с вами, доставлю вам то утешение, которое должен был бы доставить он, и никогда никто об этом не догадается, потому что все считают меня за того, за кого и вы недавно меня считали. Не отказывайтесь от милости, которую посылает вам Господь, ибо много таких, которые желают того, что вы можете получить и получите, если, будучи разумной, поверите моему совету. К тому же у меня есть хорошенькие, дорогие вещицы, которые, я решил, будут принадлежать никому, как вам. Итак, сладостная моя надежда, сделайте для меня то, что я охотно делаю для вас». Женщина, опустив глаза, не знала, как ему отказать, а согласиться, казалось ей, не ладно; потому аббат, видя, что, выслушав его, она медлит ответом, подумал, что обратил ее наполовину, и, присоединяя многие другие речи к прежним, не успел кончить, как вбил ей в голову, что сделать то будет ладно; потому она стыдливо сказала, что готова исполнить всякое его приказание, но не прежде, чем Ферондо отправится в чистилище. На это аббат, очень довольный, сказал: «Мы так устроим, что он сейчас туда пойдет, только сделайте так, чтобы завтра или послезавтра он побывал у меня здесь». Сказав это и тихонько сунув ей в руку прекраснейшее кольцо, он отпустил ее.
Женщина, обрадованная подарком, чая и других, вернувшись к товаркам, стала рассказывать удивительные вещи о святости аббата и пошла с ними домой. Через несколько дней Ферондо отправился в аббатство; как увидел его аббат, тотчас же решил послать его в чистилище; отыскал порошок удивительного свойства, полученный им в областях Востока от одного великого принца, утверждавшего, что его обыкновенно употребляет Горний старец, когда хочет кого-нибудь во сне отправить в свой рай или извлечь его оттуда, и что данный в большем или меньшем количестве этот порошок, без всякого вреда, так усыпляет принявших его более или менее, что, пока действует его сила, никто бы не сказал, что тот человек жив. Положив этого порошка столько, чтобы можно было усыпить на три дня, в стакан не отстоявшегося еще вина, он дал его выпить в своей келье ничего не подозревавшему Ферондо и повел его затем в монастырь, где с некоторыми другими своими монахами стал забавляться его дурачествами. Не прошло много времени, как порошок подействовал, и голову Ферондо посетил сон, столь внезапный и крепкий, что, стоя на ногах, он заснул и, заснув, упал. Аббат представился испуганным этим происшествием, велел раздеть его, принести холодной воды и прыснуть ему в лицо, употребить и многие другие, известные ему средства, как бы желая вызвать утраченные жизненные силы и чувства, отягченные парами желудка или чем другим; но когда аббат и монахи увидели, что, несмотря на все это, он не приходит в себя, пощупав пульс и не находя никакого признака чувствительности, решили все положительно, что он умер; поэтому послали о том сказать жене и его родственникам, которые все явились тотчас же, и когда жена и родные немного оплакали его, аббат распорядился положить его, как был одетым, в склеп. Жена, вернувшись домой, заявила, что никогда не намерена расставаться с ребенком, которого имела от мужа; так, оставшись в дому, она принялась воспитывать сына и управлять имуществом, бывшим Ферондо.
Аббат с одним болонским монахом, которому он очень доверял и который на ту пору приехал из Болоньи, тихо поднялся ночью; вдвоем они вытащили Ферондо из склепа и положили в другой, где совсем не видать было света и который назначен был тюрьмой провинившимся монахам; сняв с Ферондо его платье и одев его по-монашески, они положили его на связку соломы и оставили, пока он очувствуется. Между тем болонский монах, наученный аббатом, что ему делать, тогда как никто другой о том ничего не знал, стал дожидаться, когда Ферондо придет в себя. На другой день аббат с несколькими своими монахами отправился, как бы для посещения, в дом женщины, которую нашел одетой в черное и опечаленной, и, утешив ее нежно, тихонько попросил ее исполнить обещание. Видя себя свободной, без помехи со стороны Ферондо или кого другого, усмотрев на руке аббата другое красивое кольцо, она сказала, что готова, и сговорилась с ним, что он придет на следующую ночь. Вследствие этого, когда настала ночь, аббат, переодетый в платье Ферондо и сопутствуемый монахом, отправился туда и спал с ней до утрени с великим удовольствием и утехой, а потом воротился в монастырь. Он очень часто совершал этот путь по тому же делу, и некоторые, встречавшие его иногда, когда он шел туда и обратно, принимали его за Ферондо, блуждающего ради покаяния по той местности; пошло потом много рассказов промеж невежественных жителей деревни, много раз говорили о том и жене, хорошо знавшей, в чем дело.
Болонский монах, когда Ферондо очнулся, не зная, где он, вошел к нему, страшно голося, с розгами в руках и, схватив его, дал ему хорошую порку. Ферондо, плача и крича, то и дело спрашивал: «Где я?» На что монах отвечал: «В чистилище». – «Как? – сказал Ферондо, – так я, стало быть, умер?» Монах сказал: «Разумеется». Поэтому Ферондо принялся плакать о себе, своей жене и сыне, говоря самые несуразные в свете вещи. Монах принес ему поесть и попить; увидя это, Ферондо спросил: «Вот те на! Разве покойники едят?» – «Да, – сказал монах, – а принес я тебе то, что твоя бывшая жена послала сегодня утром в церковь на обедню по твою душу; что по воле Божией тебе и предлагается». Сказал тогда Ферондо: «Господь да пошлет ей благовремение. Я-то любил ее очень, прежде чем скончался, так что всю ночь держал ее в охапке и ничего другого не делал, как целовал ее; делал также и другое, когда приходило желание». Затем у него явилась большая охота поесть, и он принялся есть и пить, и так как вино показалось ему не особенно хорошим, сказал: «Да накажет ее Господь, что она не подала священнику вина из бочки, что у стены». Когда он поел, монах снова принялся за него и теми же розгами дал ему великую порку. Порядком покричав, Ферондо спросил его: «Боже мой! Зачем ты это со мной делаешь?» Монах сказал: «Потому что так повелел Господь, чтобы так чинить над тобою два раза в день». – «А по какой причине?» – говорит Ферондо. Сказал монах: «Потому что ты был ревнив, имея женою достойнейшую женщину, какая есть в твоей местности». – «Увы мне! – сказал Ферондо, – правду ты говоришь! И самую сладкую жену. Она была слаще пряника, но я не знал, что Господу неблагоугодно, чтоб мужчина был ревнив, не то я не был бы таким». Сказал монах: «Это ты должен был понять, пока был на том свете, и исправиться; если случится тебе когда-нибудь вернуться туда, постарайся там удержать в памяти, что я теперь с тобой делаю, дабы никогда более не быть ревнивым». Ферондо спросил: «Разве кто умер, возвращается когда-нибудь туда?» – «Да, – отвечал монах, – кому попустит Господь». – «Боже мой, – сказал Ферондо, – если я когда-нибудь туда вернусь, буду лучшим в свете мужем, никогда не стану бить ее, не скажу бранного слова – разве побраню за вино, которое она послала нам сегодня утром, да еще не послала нам ни одной свечи, и мне пришлось есть впотьмах». Сказал монах: «Послать-то она послала, но свечи сгорели за обедней». – «Да, ты, может быть, и прав, – заметил Ферондо, – наверно, коли я вернусь туда, я позволю ей делать все, что хочет. Но скажи мне, кто ты, совершающий это надо мною?» Сказал монах: «Я также умер, а жил в Сардинии, и так как я когда-то хвалил моего господина за его ревнивость, Господь осудил меня на такое наказание, что я должен давать тебе есть и пить и угощать ударами, пока Господь все это решит иначе относительно тебя и меня». Сказал Ферондо: «Никого здесь нет, кроме нас двоих?» Монах отвечал: «Есть целые тысячи, только ты не можешь ни видеть, ни слышать их, ни они тебя». Тогда Ферондо спросил: «А как мы далеко от наших мест?» – «Охо! – ответил монах. – На много миль дальше, чем Славнонаворотим». – «Вот те на! Это очень далеко, – сказал Ферондо, – по моему мнению, мы теперь по ту сторону света, так это далеко».
И вот среди таких и подобных разговоров, еды и порки Ферондо продержали почти десять месяцев, в течение которых аббат очень часто и удачливо посещал красавицу и проводил счастливейшее в свете время. Но бывают несчастия – женщина забеременела и, быстро заметив это, сказала о том аббату, вследствие чего обоим показалось, что пора немедленно вернуть Ферондо от чистилища к жизни, чтобы он к ней вернулся, а она бы ему сказала, что беременна от него. И вот на следующую ночь аббат велел, чтобы, изменив голос, Ферондо окликнули в его заключении и сказали: «Утешься, Ферондо, ибо Богу угодно, чтобы ты вернулся в мир; когда вернешься, у тебя будет сын от твоей жены, которого вели назвать Бенедиктом, ибо молитвами твоего святого аббата и жены твоей и из любви к св. Бенедикту Господь дарует тебе эту милость». Услышав это, Ферондо очень обрадовался и сказал: «Вот это мне нравится! Господь да вознаградит за это Господу Богу, и аббату, и св. Бенедикту, и моей жене, сырной, медовой, сытовой!» Велев дать ему в вине, которое ему посылал, того порошка, но столько, чтобы дать ему проспать часа четыре, и распорядясь одеть его в его платье, аббат вместе с монахом втихомолку перенес его в склеп, где он был погребен.