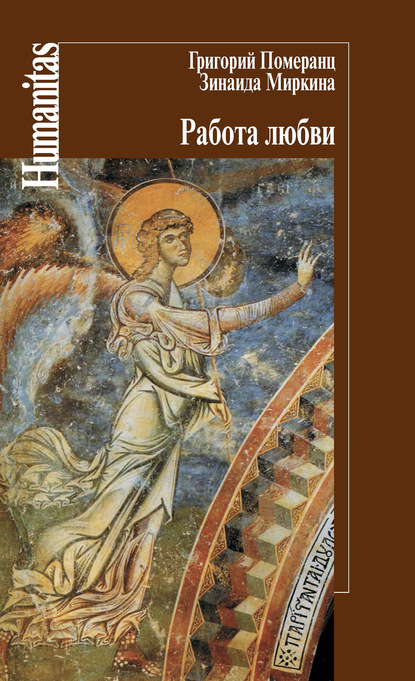По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Работа любви
Жанр
Серия
Год написания книги
2013
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мартин Бубер вспоминает в своих автобиографических заметках: «В 8 часов утра звонил колокольчик, входил один из учителей и поднимался на кафедру, над которой на стене возвышалось большое распятие. В ту же минуту ученики вставали со своих скамей. Учитель и польские ученики крестились; он произносил символ веры, и все они вслух молились. Мы, евреи, стояли молча и неподвижно, глядя в пол, пока не разрешалось сесть…
Я не могу припомнить учителя, который не был бы терпим или не хотел казаться терпимым. Но ежедневное обязательное стояние в классе и слушание чужого богослужения действовало на меня хуже, чем мог бы задеть какой-либо акт нетерпимости. Это отпечаталось во всем моем существе» (The philosophy of Martin Buber. Ed. by P. A. Schlipp a M. Friedman. La Salle – L., 1967, p. 8).
Для Ошерова нет неразрешимых проблем, нет вопросов, с которыми люди бьются веками, подходя к ним то так, то эдак. На все есть свой бесспорный ответ: плохо решала проблему абортов Америка, хорошо – Германия. Там «в конституции страны ясно говорится о Боге, о высшем авторитете, стоящем над всеми мирскими, человеческими – научными, политическими, социальными, экономическими – и прочими интересами. Не случайно, например, в объединенной Германии аборты были объявлены Конституционным судом фундаментально неконституционными. Причем за такое решение было подано подавляющее большинство голосов – шесть против двух. В своем решении суд заявил: «Женщина должна знать, что неродившийся ребенок имеет свое собственное право на жизнь». И: «К абортам можно прибегать только в исключительных обстоятельствах». Это не значит, что аборты, сделанные в первые три месяца беременности, будут считаться преступлением. Но на них не будет распространяться государственная медицинская страховка. В итоге каждый действительно поступает согласно велению совести и несет личную ответственность за свои поступки» (с. 162–168).
Метафизически все концы сошлись с концами. А практически дело сводится к деньгам, к «иметь» и «не иметь». Имеешь – и тебя карает только совесть. Для менее состоятельных – огромная дыра в бюджете. А для бедных, да еще неопытных – неразрешимая проблема. А что значат «исключительные обстоятельства»? Почему восемь мужчин вправе решать, что для женщины абсолютно исключено? Я подозреваю, что все восемь судей (или по крайней мере шесть) – мужчины, и думаю, где у них совесть? Где была совесть у Лexa Валенсы, наложившего вето на закон сейма, разрешивший аборты?
В этом вопросе даже в книге «Папа римский Иоанн Павел II» автор ее, Елена Твердислова, позволила себе (единственный раз) свое женское возражение авторитету: «Можно, разумеется, оспорить некоторые позиции Ватикана, к примеру закон об абортах, хотя он по природе своей правомерен: должна изначально существовать ответственность за человеческую жизнь; но закон этот бессмыслен и трагичен для стран, где материнство не о б е с п е ч е н о с о ц и а л ь н о, а только при таких условиях он может разумно действовать, иначе начинаются поиски его обойти, которые, как известно, заканчиваются бедой» (Твердислова Е. Папа римский Иоанн Павел II. М., 1995, с. 56. Разрядка моя. – Г.П.).
Церковь вправе и обязана учить прихожанок, что аборт – крайняя, нежелательная мера. Но безнравственно пускать против женщин юридическую машину, сыщиков и полицию. Здесь нравственные импульсы сталкиваются. С одной стороны – жизнь зародыша. С другой – жизнь и здоровье женщины. В праве это называется коллизией законов: один запрещает, другой разрешает. Я думаю, что нам, мужчинам, лучше воздерживаться. Наша ответственность – в другом: позаботиться, чтобы подруге в момент близости не пришлось думать о последствиях, а потом (не подумавши вовремя) – как избежать последствий. В девяти случаях из десяти это на совести мужчины. И здесь моя совесть вступает в противоречие с Библией. Библия запрещает предупреждение беременности.
Однако почему церковь сохранила этот ветхозаветный запрет? Почему не отменила его вместе с субботой, обрезанием, покрыванием головы перед Богом? Потому что эллины и без истории Онана привыкли доводить половой акт до конца, а к обрезанию относились с отвращением, да и к другим еврейским обычаям. И Павел решил еврейскими святынями пожертвовать. Это вызвало раскол: не все ранние христиане согласились пренебречь прямым словом Христа: «Я пришел не нарушить (закон. – Г.П.), а исполнить». Иудео-христианство дожило до IV века. Но история решила спор в пользу Павла.
Мы подходим здесь вплотную к пониманию очень важной вещи: авторитет без внутреннего простора свободы так же хрупок, нежизнеспособен, как свобода без координат авторитета. Павел был искренен, когда писал, что умер и жив в нем Христос. И я не сомневаюсь, что внутренний голос Христа разрешил пожертвовать очередной «буквой» во имя «духа». Но такие коллизии повторяются вечно. Пророки доходили до полного отрицания культа. Хотя культ был святыней и ни одна религия без этой святыни не обходится.
В Средние века тяжелый кризис вызвала заповедь «не сотвори себе кумира». Церковь учила десяти заповедям и сама с ними не считалась. Эллинам и римлянам нужен был зримый Бог. Первый шаг навстречу им был сделан уже в формуле: «Бога не видел никогда и никто. Единородный сын, сущий в недрах Отчих, – Он явил». И пока христиане оставались гонимым меньшинством, им хватало мысленного образа. У энтузиастов, готовых на казнь во имя веры, вся жизнь была сосредоточена на внутреннем образе Христа. Но все переменилось после Константина и Феодосия. Государственную религию приняли массы полуязычников. Им нужен был вполне зримый, чувственно зримый культ – с иконами и статуями. Меньшинство в любой культуре способно сжечь, чему поклонялось, и поклоняться тому, что сжигали; большинство консервативно и по-своему право. О нем говорит традиция культуры. Сталкиваясь с этнически чужой верой, культура вступает с ней в диалог, и прямой победы одного почти никогда не бывает. Церковь не отказалась от диалога с современностью V века и создала новый живой культ.
Однако были племена, чуждые греко-римской традиции чувственно-зримой святыни. Таких племен немало (например, все арабы). И случилось так, что престол в Константинополе достался исаврийской династии, вышедшей из глубин Малой Азии. Опираясь на незыблемое Слово Бога, продиктованное на Синае, императоры-иконоборцы запретили почитание икон и статуй. Греки пытались бороться с запретом. Св. Максим Исповедник провел различие между кумиром (идолом) и иконой (символом Бога без прямого подобия). Однако иконоборцев он не убедил. Помог случай. Гречанка Ирина, избранная за красоту, воспользовалась ранней смертью мужа-иконоборца, ослепила сына (лишив его таким образом прав на престол без смертного греха сыноубийства), короновалась в мужском роде василевсом и восстановила почитание икон. Иконоборцы, сопротивлявшиеся этому, были истреблены. Погибли около 100 000 человек. Что касается латинской церкви, то она просто выкинула «не сотвори себе кумира» из Декалога. Но ничего не помогло: протестанты, читавшие Библию в подлиннике, вернулись к авторитету Писания. И вот что любопытно: средиземноморские народы остались верны культуре зримой святыни, протестантизм победил только там, где античность не оставила заметных следов. В столкновении заповеди с культурой победила культура.
Ошеров сожалеет, что американским детям не преподают десять заповедей. По какому Декалогу учить? Католическому (отредактированному в Риме)? Православному (с комментариями Максима Исповедника) или протестантскому без святоотеческих разъяснений? И как быть с иудаистами, мусульманами, буддистами? Они живут в христианской, по своим основам, цивилизации, но хотят оставаться самими собой. Америка – страна религиозных меньшинств, и она первая столкнулась с этой проблемой. Но постепенно в городах всех развитых стран складывается та же обстановка. Мы живем в неслыханно тесном мире с огромными скоростями передвижений и перемен. Каждый волен избрать в авторитеты пророческий монолог одной религии, но миру в целом не избежать диалога. Современный эфир – диалог пророческих монологов, и постепенно таким же становится религиозное сознание. Государственная школа, общая школа не может вернуться к одному катехизису, просто игнорируя другие. Ей нужна книга – много книг, в которых одинаково сочувственно рассказывается обо всех великих религиях и сам материал подталкивает подростка к переживанию реальности единого Бога за всеми исторически сложившимися образами, но ни один не навязывается как безусловная реальность. Мы с Зинаидой Миркиной попытались написать такую книгу («Великие религии мира», М., 1995), она тоже вызвала недоразумения и обиды[8 - Которые мы попытались учесть во 2-м издании (М., 2001).]. Нужны новые попытки. Жизненные потребности заставляют создавать суперэкуменическую книгу для школьников до того, как вполне сложилось экуменическое и суперэкуменическое богословие. О совершенстве здесь не может быть и речи, да оно и в идеале неосуществимо: процесс религиозного развития никогда не закончится, никогда не достигнет окончательных форм. Надо учиться жить в духовно открытом мире, находить новые духовные лекарства против новых болезней, искать пути восстановления цельности во все более сложном, все более дробном техногенном мире. Ибо суть дела в этом. Одно из имен Бога – Целое (имя, заново найденное Достоевским в «Сне смешного человека»).
Как противостоять лавине раздробленной и дробящей личность информации? Как противостоять силам, вытягивающим человека из его собственной глубины на поверхность, к голубому экрану?
Великие законодатели причастились Богу, познали его реальность и действовали не от себя, а «творили волю Пославшего»… Но всякое слово переносит нас из сферы абсолютной целостности в раздробленное бытие, где одна правда непременно противоречит другой. Всякое высказывание воли Божьей неполно и неточно, несет на себе отпечаток языка, времени, места, наконец – пола. Дух Божий по ту сторону всякой двойственности, но патриархи были мужчинами и считали превосходство мужчин чем-то установленным свыше. У евреев есть даже молитва: благодарю тебя, Господи, что ты не создал меня женщиной. В нынешнем нашем мире это неловко звучит.
Советский опыт сталинских лет показал необходимость заповеди «не предай». Во времена Моисея она еще не понадобилась. Но уже в I веке, в оставленную щель влез грех: на Христа донесли, что Он оскорбил величие Кесаря Тиберия. А потом умыли руки. У евреев, веками не имевших собственной власти, самый характерный образ зла – не Иван Грозный, не Малюта Скуратов, а доносчик (так и в романе Башевиса-Зингера «Раб»). Правдивый донос за грех не считался.
В Библии нет запрета употреблять наркотики. Это не значит, что Моисей и Христос наркотики разрешили. Просто им нечего было запрещать, не было в Палестине этого обычая, а в Индии он был, и Будда наркотики запретил. Жизнь религии – это процесс, в котором все время идет борьба духа со все более изощренным злом. Какие-то заповеди ветшают, какие-то возникают вновь. И понимание закона, заповеди тоже меняется. Буквальное исполнение табу, заповеди, закона уступает место нравственному творчеству, выходу из положения, в котором законы сталкиваются, противоречат друг другу (а такие положения все чаще). Идет диалог между законом и совестью (пример – суд присяжных, способный вынести приговор «не виновен» при явном и доказанном преступлении).
Идет и другой диалог: между религией в узком смысле слова и святынями, складывающимися вне этой сферы. Один из ведущих теологов нашего века, Пауль Тиллих, пишет: «Религия в самом широком и фундаментальном смысле есть предельный интерес… Он проявляется в сфере морали как безусловная серьезность моральных требований. Следовательно, если кто-либо отвергает религию во имя моральной функции человеческого духа, он отвергает религию во имя религии (далее то же повторяется о науке, об искусстве. – Г.П.)… Невозможно отвергать религию с предельной серьезностью, поскольку предельная серьезность, или состояние предельной заинтересованности, и есть сама религия. Религия – это субстанция, основание и глубина духовной жизни человека.
Но тогда возникает вопрос: как быть с религией в более узком и привычном смысле слова? Если она присутствует во всех функциях духовной жизни, почему человечество развивало религию как особую сферу, в мифе, культе, поклонении, церковных институтах? Вот ответ: из-за трагического отчуждения человеческой духовной жизни от своего собственного основания и глубины. Согласно визионеру, написавшему последнюю книгу Библии (Откровение св. Иоанна Богослова. – Г.П.), не будет храма, ибо Бог будет во всем…
Религия открывает глубину духовной жизни человека, обычно скрытую пылью повседневной жизни и шумом нашего секулярного труда. Она дает нам опыт священного, того, к чему нельзя прикоснуться, что внушает благоговейный ужас, предельный смысл, источник предельного мужества. В этом слава того, что мы называем религией. Но рядом со славой мы видим ее позор. Она возвышает себя и презирает секулярную сферу. Она придает своим мифам и учениям, ритуалам и законам предельное значение и преследует тех, кто им не подчиняется (тогда как животворит дух, а не буква. – Г.П.). Она забывает, что ее собственное существование – результат трагического отчуждения человека от его истинного бытия (отчуждения, совпавшего с самым началом цивилизации, с разрушением культуры примитивно-целостной. – Г.П.). Она забывает, что возникла в качестве выхода из чрезвычайной ситуации» (Тиллих Пауль. Избранное. Теология культуры. М., 1995, с. 240–241).
Либеральные реформы – попытка отделить славу религии от ее позора. Попытки, сплошь и рядом ведущие к временному торжеству атеизма. Высшая сила, которую мы называем Богом, «предшествует всякому разделению и делает возможным всякое взаимодействие, потому что она точка тождества, без которого нельзя помыслить ни разделение, ни взаимодействие. Это относится главным образом к разделению субъекта и объекта, а также к их взаимодействию как в познании, так и в действии. Prius (предшествующее. – Г.П.) субъекта и объекта (абсолютно целостное. – Г.П.) не может стать объектом, с которым теоретически и практически соотносится человек как субъект. Бог – не объект для нас как субъектов. Он всегда то, что предшествует этому разделению. Но, с другой стороны, мы говорим с Ним, мы действуем по отношению к Нему и не можем избежать этого, так как все, что становится реальным для нас, вступает в субъектно-объектную корреляцию. Из этой парадоксальной ситуации возникло наполовину богохульное мифологическое понятие „существование Бога“. И отсюда пошли бесплодные попытки доказать существование этого „объекта». Атеизм – разумный религиозный и теологический ответ на это понятие и на подобные попытки. Это было хорошо известно наиболее глубокому благочестию во все времена. Поражает атеистическая терминология мистицизма (например, «и Бог преходит!» у Мейстера Экхарта. – Г.П.). Она ведет за пределы Бога к безусловному, трансцендируя всякую фиксацию божественного как объекта. Но мы находим то же самое ощущение неадекватности всех ограничивающих имен Бога и в немистической религии (опирающейся не столько на непосредственный опыт причастия Богу, сколько на авторитет. – Г.П.). Подлинную религию невозможно представить себе без элементов атеизма. Не случайно, что не только Сократа, но также евреев и ранних христиан преследовали как атеистов. Для приверженцев „сил“ они были атеистами» (там же, с. 253).
«В этом смысле всю историю религии можно рассматривать как борьбу за религию конкретного духа, борьбу Бога против религии («буквы» религии. – Г.П.) внутри религии. И эта формула – борьба Бога против религии внутри религии – могла бы стать ключом к пониманию чрезвычайно хаотичной (или по крайней мере кажущейся хаотичной) истории религии» (там же, с. 449).
Внутренний авторитет ведет нескончаемый разговор с внешним. Иногда они приходят в согласие (как в эссе Аверинцева), иногда решительно сталкиваются, и тогда решают внутренние «присяжные». С почтением к закону, но не забывая, что формально правы были Каиафа и Анна, а не Христос.
Открытое общество – это общество открытых вопросов. Их вызов нельзя упразднить. Надо ежедневно искать новые ответы на новые проблемы.
Бог – это любовь. Бог – это совесть, голос, который мы слышим в тишине, в молчании, в созерцании целостности природы, в созерцании иконного искусства (т. е. не только икон, но искусства иконного духа), в переживании книг, которые будят совесть, в припоминании детской и отроческой боязни оскорбить любовь. Единственный бесспорный авторитет – это авторитет любви. Этот единый и нераздельный дух любви – к родным людям, родной стране, к творческой силе, создающей родство, – надо хранить, поддерживать, как хрупкий кустик, которому угрожает много-много барашков (я продолжаю здесь тему, начатую Аверинцевым, но делаю это языком сказки Сент-Экзюпери).
Если не будет сознания важности этого, если не будет помощи в этом, никакие законы не спасут, ни либеральные, ни консервативные. И больное общество будет рождать своих могильщиков.
Истина диалога
Говорят, что истина рождается в споре. Это и так, и не так. Новый подступ к истине, веточка, брошенная в перенасыщенный раствор и сразу обрастающая кристаллами, часто падает откуда-то в тишине, в одиноком созерцании, и в споре только гранится, рассыпается на множество частных истин, как истины Евангелия в богословском диспуте. Но бывают разговоры, в которых дух истины витает над всеми репликами, и здесь действительно что-то рождается. Это и есть диалог, спор, в котором новое, рожденное сейчас, признается выше всего, рожденного ранее и вынутого из запасов памяти.
Такие диалоги вел Сократ. Этому научился у него Платон. На старости лет он, к сожалению, увлекся логическим развитием идеи и сохранил диалог только как оболочку философской истины. Диалог не выстраивает никакой системы, не дает никаких инструкций. Он дает чувство истины, высшей истины, связывающей спорщиков. В этом смысл перехода к диалогу, провозглашенного II Ватиканским собором. В этом дух философии диалога, разработанного Бубером, Марселем, Левинасом и Бахтиным.
Наше время – одно их тех, о которых говорил Кришна в «Бхагават Гите»: «Когда падает добродетель, когда торжествует порок – тогда я воплощаюсь!» Но мессия уже приходил. И Будда уже приходил. И я не могу себе представить новых, глубже прежних. А если не лучше и не глубже, то старых нельзя просто отодвинуть, как Христос – греческих богов. Христос останется в святая святых, и Будда останется. И поклонники Будды и Христа по-прежнему будут поклоняться Будде и Христу. Возможно только дойти до глубины, в которой откроется Дух, веющий всюду, и выйдут из забвения слова Христа: «Всякому простится слово на Сына, не простится хула на Святой Дух». Хула, которой часто грешат ревнивые исповедники своей веры, не замечая Святого Духа в чужих одеждах.
Наше дело – идти по выбранной дороге, но не хулить чужие дороги. Они расходятся в долинах, а наверху сходятся и совершенно сливаются там, где время становится вечностью, а пространство – точкой целого. И почувствовав эту точку в груди, мы чувствуем любовь к другому, идущему другим путем, и не даем ревности и ненависти отвлечь от пути вверх.
Баха-Алла не был самозванцем, и теософы не сделали, если можно так сказать, «кадровой» ошибки, избрав в мессии Кришнамурти. Но когда Кришнамурти достиг зрелости, он отказался от своего звания. Он понял, что оно противоречит духу времени. А успехи бахаизма очень невелики. Огромное богатство духовных путей, накопленное «старыми» мировыми религиями, удерживает в их кругу, несмотря на трудности в толковании древних символов веры. Старые мировые религии тысячами нитей связаны с культурой своих регионов, а бахаизм противостоит им как отвлеченная религиозная идея, та же идея монотеизма без старых, но прекрасных икон, старой музыки и т. п.
Творческие меньшинства разных культур может объединить только дух диалога, дух понимающей переклички вероисповеданий, дух любви, внушившей Владимиру Соловьеву его статьи о Талмуде и Магомете. Не каждый способен писать такие статьи, но я считаю религиозным долгом знакомство с другим: оно помогает любить. Нет любви к Богу без широкой, охватывающей весь мир любви к другому. Св. Силуан писал: «Тот, кто не любит своих врагов, в том числе врагов церкви, – не христианин».
Через понимание другого приходит и понимание самого себя. Мне, на пути самоучки, это помогло осознать то, что я смутно чувствовал. Другим это помогало осознать скрытые, дремлющие возможности своего вероисповедания. Александр Мень распространил среди своих духовных чад католический катехизис – чтобы знать другую ветвь вселенской церкви и не судить о ней свысока; при этом переход одного из духовных детей в католичество его глубоко огорчил как свидетельство поверхностности, суетности, предпочтения одних букв другим – вместо движения от буквы к духу.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: