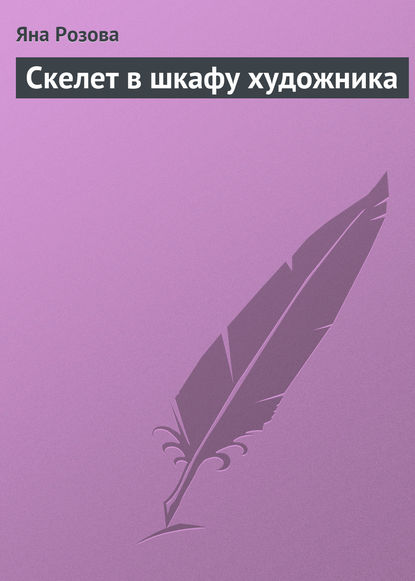По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Скелет в шкафу художника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ижевский то и дело перекидывался с гостями парой фраз. Он уже отыграл свою роль хозяина и теперь давал возможность народу самому оценить качество представленных работ. В общем, товаров, если быть честными.
– А твой муж далеко пойдет, если не срежется на взлете. – Такая похвала дорогого стоила! – Он молодец, я рад, что Игорь настоял на выставке. Мне сначала Тимур не приглянулся. Картины чудесные, но у нас в провинции он не пробьется без мохнатой лапы. Даже в столицах ему было бы легче, но там деньги нужны.
– Да, – я кивнула, не слишком вникая в его слова и ощущая, как неукротимо нарастает боль в позвоночнике. – А кто это там прогуливается? Мне мерещится, или это Костров дефилирует с хорошенькой женщиной?
– Да, это Евгений Семенович, – ответил Ижевский, тоном выражая дружелюбную симпатию к объекту разговора.
– Что он тут делает? – удивилась я.
– Как что? Он большой знаток и любитель живописи. Между прочим, у него солидная коллекция полотен, частное собрание и даже собственная маленькая закрытая галерея.
– А я и не знала!
– А ты пока и не должна знать! – рассмеялся он. – Вот оперится твой Багров, и все узнаешь. Кстати, именно у него собрано самое большое количество работ твоей матери. Они…
Он выразительно замялся.
– Они?.. – переспросила я, не веря своим ушам. – Они с моей мамой?
– Ну, ты не пугайся так! – Ижевский сам был не рад, что проболтался. – Она лечилась у него долгое время, он и увлекся ею. Твоя мать была потрясающей женщиной и талантливым художником. Просто ей не повезло. Время было такое, что надо было продаваться. А она не могла рисовать всех этих передовых доярок и членов, сама знаешь чего. Я вот рисовал в свое время! Да… – он немного помрачнел. – Да. Такое было время. Ее совсем не выставляли. В Союз художников не приняли, а здесь так вообще грызли со всех сторон. Я сам тогда в крайкоме партии сидел, наставлял! Стыдно теперь, но из песни слова не выбросишь. Я говорил ей: пиши на два фронта – для карьеры и для себя! Ну что бы ей намалевать советские поля с советской озимой пшеницей, самой озимой в мире! Но она не могла… Это я сейчас все понимаю, а тогда – совсем другое дело было. Я тоже твоей бедной маме крови напортил. И только сейчас узнал, что твой дед – генерал КГБ в отставке.
– Он жутко честный был, – сказала я без одобрения. – Не хотел связи использовать. Хотя прекрасно мог бы!
– Да, понимаю. – Ижевский вздохнул. – Вот так и вышло!
– В общих чертах я все знаю. Только про Кострова не знаю. Как раз за год до ее смерти я уехала поступать, в Питер. Провалилась и осталась еще на год. Работала, готовилась к следующей попытке. А потом пришла телеграмма о том, что мама умерла, и я срочно приехала домой. А что да как, не знаю!
Я не просто не знала обстоятельств смерти своей мамы, я не хотела знать! Боялась услышать самое страшное для себя – то, что она была одинока… Очень страшная смерть для молодой, в сущности, женщины: накинуть петлю на шею и оттолкнуть табуретку. Я объясняла ее поступок для себя ранимостью творческой натуры, накоплением критической массы бед, возрастным кризисом, безнадежностью.
– Сорвалась она, пыталась с собой покончить. Я не знаю, мы с ней после теплых встреч в крайкоме не очень-то дружили. Но Гродин – маленький город, и слухи до меня доходили. Я слышал, что сорвалась она тогда, когда у нее появились реальные перспективы выйти из тени. Тогда, после перестройки, стали вылезать все, кому не лень. Только тявкни пару раз на соцреализм и поплачься, что тебя зажимали партийные боссы, вроде Миши Ижевского, и глядишь, уже персональная выставка, уже – член Союза художников, уже – за границей! Но Маргарита и на это не пошла. В последний год жизни она отправилась к Кострову. Говорила, что плачет, не спит, не может работать. А не может работать – не может жить.
Мне было стыдно. Я вообще ничего такого не знала! Звонила домой из Питера, она говорила, что все хорошо, даже шутила. Не то чтобы мы не были близки с ней, просто мама всегда жила своей внутренней жизнью, она была для нее больше, чем реалии каждого дня. Пытать ее на предмет душевного состояния было бы жестоко. В этом смысле папа был прав – рядом с ней живешь как с привидением.
– И Костров увлекся ею, вот такой разбитой?
– Так ведь он психиатр, это его контингент! – рассмеялся Ижевский невесело. – И он увлекся ее талантом. Он рассказывал о ее картинах, как о чем-то необыкновенном, просто был без ума от них. Знал, что со временем они вырастут в цене. И она всегда была красавицей, даже тогда.
– Я знаю. А он мне не говорил о ней…
– Да он просто не знает, что ты ее дочь. Что общего между Ритой Садковой и Варей Багровой? Прости, детка, но ты на нее совсем не похожа.
Это было не обидно, потому что сравниться с моей мамой могла бы только Брижит Бардо. Правда! Те же густые, тяжелые, вьющиеся светлые локоны, огромные миндалевидные карие глаза, капризный рот маленькой девочки, познавшей чуть больше, чем положено знать девчушкам. И тело богини. Оно было настолько совершенно, что вызывало даже у мужчин скорее священный восторг, чем желание.
И я – ее дочь! Мелкие и неправильные черты лица, серые волосы, серые глаза, субтильная фигурка, локти, колени – все как на шарнирах. Сегодня я была зеленоглазой блондинкой с пышной грудью, но сути это не меняло. Я ничем на маму не походила. К тому же бог обидел дочь гения способностями и наградил мерзким характером, который уже привел меня к краю пропасти.
И она была! Была собой, личностью, самодостаточной, творческой и полноценной, а я стала лишь проекцией чужих грязных мыслей. Отражением чужих недобрых слов. Меня нет. Почему так? Никто не знает.
– И он лечил ее? – Я снова вернулась к разговору, внезапно разбудившему в моем сердце печаль.
– Да.
– И она дарила ему свои картины?
– Думаю, да.
– Хочу посмотреть. У меня почти ничего не осталось от мамы. Так, два-три эскиза, ранние акварели, пара пейзажей. Все, что было в квартире, мама завещала Гродинскому художественному музею. Я даже немного обиделась на нее за это. А оказывается, есть еще картины последнего года…
– Как ты красиво сказала, – перебил меня Ижевский, – «Картины последнего года»! Надо будет использовать. Только это подойдет к уже умершим художникам.
Он спросил еще что-то, но я не расслышала его. Мой взгляд, поблуждав по лицам зрителей, нашел стальной силуэт молодого начинающего художника. Рядом с ним, спиной ко мне, стояла женщина, которую, даже не видя ее лица, можно было бы назвать красивой. Ну, есть такое в некоторых людях – мужчинах и женщинах – они красивы с любого бока. Хочу заметить, что говорю о красоте не только физической. Говорю о том, что одухотворяет биологическую особь, об особой божьей искре. Эта женщина была такой, и я напряглась, закусив губу, боясь угадывать будущее. Мне стало страшно.
Женщина, кивнув напоследок гордой головой с красивой современной стрижкой, отошла и пропала в толпе. Я так и не разглядела ее, только запомнила прямую балетную спину. Тимур почувствовал мой прожигающий взгляд и поднял глаза. Наши взгляды скрестились, я жадно сканировала его сетчатку, надеясь, что на ней осталось изображение той феи. Тимур вопросительно поднял брови и отвернулся.
«Вот и расплата», – решила я. Иначе и быть не может. О личной жизни мужа после нашего разрыва я не знала ничего. У всех художников бывают всякие музы и поклонницы, это нормально, но о музах и поклонницах Багрова я ничего не знала. Думаю, с его темпераментом он не мог долго обходиться без маленьких приключений определенного рода. Однако, в отличие от меня, Тимур своими подвигами не делился.
Глава 8
На следующий день я прямо с утра приняла таблетку обезболивающего и позвонила Кострову. Он даже не спросил, зачем я звоню, а сразу назначил мне прием. Только прийти надо было не в больницу, где я лечилась после падения, а в частный медицинский Центр, где у Евгения Семеновича был личный кабинет. Собственно, я хотела поговорить о маме, но не стала перегружать телефонную беседу лишними разговорами. При встрече и поговорю!
В клинику меня подвез Тимур, который спешил на встречу с журналистом из столичного ежемесячного издания, посвященного миру искусства. Журналист был на вчерашнем вернисаже и теперь хотел взять небольшое интервью у Багрова. Тимур хотел того же. Сегодня он был одет в более естественной для себя манере: узкие джинсы и темно-красный, скорее багровый, в соответствии с фамилией, свитер.
Я же решила отдохнуть от яркости и просто распустила свои волосы цвета благородной мыши и влезла в удобное просторное платье.
Тимур поглядывал на меня, наверно, прикидывая, для кого вся эта простота.
Евгений Семенович встретил меня на пороге своего роскошного кабинета, он пропустил меня и зашел следом. Я огляделась. Деревянные панели под орех, такой же рабочий стол, видеосистема и стопка кассет на тумбочке для аппаратуры в углу. На паркетном полу – дагестанский ковер, на стенах – живописные полотна. Здесь царило ощущение респектабельности, вкуса и комфорта. И на хозяина я посмотрела другими глазами. Этот человек знал мою маму, у них был роман, он целовал ее, он любил ее! Что он вспоминает о ней? Тоскует ли? Не его ли цветы появляются регулярно на ее могиле?
Я села в кресло возле его стола и снова принялась разглядывать доктора: высокий, полноватый, но еще не грузный мужчина. Седые волосы львиной гривой обрамляют умный лоб. Достоинство светится в светло-карих глазах. О чем они разговаривали? Что их сблизило? Наверное, искусство.
– Варенька, – начал он. – Вы прекрасно выглядите. Принимаете препараты, которые я вам назначил?
– Нет, – небрежно ответила я и тут же спросила: – Вы знали мою маму?
– А кто ваша мама?
– Рита Садкова.
Психиатр отреагировал неожиданно бурно. Он вскочил с места, всплеснул руками, покраснел. Его глаза забегали: казалось, он хочет, но не может оторвать взгляд от чего-то находящегося в правом, дальнем от него, углу кабинета. Я обернулась и увидела картину, висящую на уровне человеческого роста. Это была, безусловно, работа моей матери, и, покопавшись в памяти, я вспомнила ее.
Картина была написана в период особенно широкой амплитуды ее творческих исканий. Только что перед этой работой мама закончила традиционный пейзаж, похожий на ранние пейзажи Тимура: четкий рисунок, природные цвета. А эта композиция, созданная непосредственно за пейзажем, была выполнена в духе постимпрессионизма и даже, пожалуй, абстракционизма. Причем техника была выбрана нарочито грубая: краска накладывалась не мазками, а прямо-таки чешуйками. Мне показалось, что мама вообще не брала в руки кисть, работая над этим полотном. Но талант – это особое умение прикоснуться к лягушке и обратить ее в принцессу. Абстракция производила завораживающее, околдовывающее впечатление. Внизу стояла подпись: «Рита Садкова».
Я уже забыла о мечущемся Кострове. Подойдя к полотну, стояла, потеряв счет времени. Я говорила с мамой.
– Варя, я не знал… – раздался над ухом растерянный голос. – То есть Рита рассказывала мне о своей дочери, которая вроде бы учится где-то в Москве или в Питере. Я полагал, что вы там и остались после учебы.
– Это было бы логично: по собственной воле никто в провинцию не возвращается! К тому же я на маму не похожа и фамилия у меня другая. Да и лечиться раньше в психушках мне не приходилось. А тут мне вчера Ижевский рассказал. Мы разговорились о ней, о маме то есть, и мне захотелось узнать наконец, что произошло. Я ведь ничего не знаю о ее смерти. Сначала было слишком больно спрашивать, потом привыкла к неизвестности. А сейчас я готова совершенно! У вас же есть еще ее работы?
Обернувшись, увидела, как он побелел. Неужели это любовь? Евгений Семенович просто впился взглядом в левый нижний угол композиции. Там были расположены несколько желтых пятен-чешуек и одно, как бы поверх остальных, – бурое. Это бурое пятно имело форму неправильной восьмерки или буквы «В». Причем верхнее колечко восьмерки было более вытянутым и крупным. Психотерапевт тяжело дышал над моим ухом.