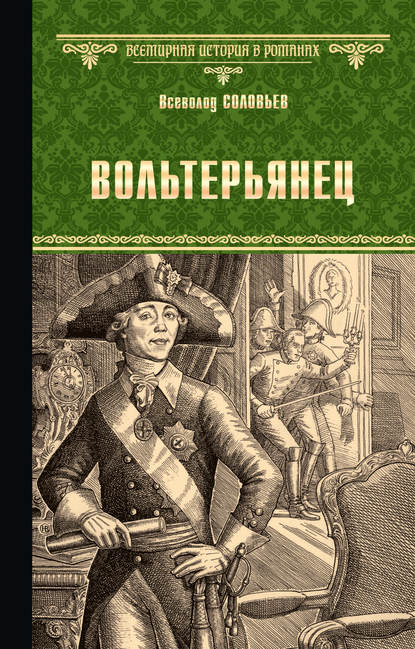По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вольтерьянец
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– За что же, дядюшка, мне на вас сердиться?!
– Ведь, я чаю, ты думаешь, что за тебя не хлопотал, не старался?!
– Я ничего такого не думаю, я уверен, что если бы от вас зависело, если бы вы могли что-нибудь, то я давно был бы в России.
– Так, так! – с видимым удовольствием и в то же время очень серьезно повторял Нарышкин. – Видит Бог – все сделал и ничего не мог добиться… и думал о тебе часто – ведь восемь лет, шутка ли?!
– С матерью не мог проститься! – невольно вырвалось у Сергея.
– Да, и вот как и в первый раз я вижу тебя после такой потери – тогда отца схоронил, теперь мать!
– Но я был при кончине отца! Да уж что говорить об этом, я не жаловаться хочу вам, я хочу, чтобы вы мне глаза открыли на то, что здесь делается, чего мне ожидать, ведь я как в лесу, – что я знаю! Помните, тогда мальчиком приехал, ничего не понимал тоже, а теперь и того меньше. Насколько мог сообразить оттуда, издалека, теперь все иное – научите!
– Веселого от меня услышишь мало, – сказал Нарышкин, – а объяснить тебе не только могу, но и должен. Ты вот сказал, что я мало изменился – это может быть, а другие нет – другие сильно постарели. Вот тебе и вся разгадка. Уже несколько лет как я зачастую от самой слышу: стара я стала! И мы уже к этому привыкли – с самой смерти Потемкина постарела.
Сергей печально усмехнулся.
– Да, но знаете, ведь я нахожусь в самом невыносимом положении. Вы вот говорите, что давно ко всему привыкли, оно понятно, время действует. Перемены, происходящие изо дня в день, у вас же на глазах, не так поражают, а я был совсем ото всего оторван, я не в силах примириться с некоторыми обстоятельствами, не могу смотреть на многое вашими глазами. Конечно, я прежде всего буду говорить о Зубове. Знаете ли, что он такое для меня?! – Ничтожный офицерик, несостоятельный мальчик, обуреваемый желанием жить на широкую ногу, вкусить от всех удовольствий и потому подлизывающийся к богатой молодежи, льнущий ко всем, кто может быть так или иначе ему полезен, увертливый, низкопоклонный, нахальный, когда это не может повредить ему, одним словом – сущая ничтожность, и ничтожность противная. Таким я его оставил восемь лет тому назад, в день моего отъезда из Петербурга. До этого дня он был совсем незаметен, и если я его заметил, то единственно потому, что он случайно попался на моей дороге. Он всячески ухаживал за мною, взял у меня деньги и потом, вдруг преобразившись, почувствовал под собою почву, поняв, что я ему не нужен и не помеха ему, он, с самым непристойным, циничным нахальством хотел мне вернуть эти деньги. Я сказал, что не приму их от него – и после того мы не видались. Я знаю, что я ему, и одному ему, обязан тем, что до сих пор не мог выбраться в Россию. Но все же, когда мне приходилось поневоле думать, слушая почти невероятные рассказы о полученном им назначении, я представлял и представляю его себе до сей минуты таким, каким он был тогда – он не мог измениться. И вот этот человек, как мне говорят, управляет всеми делами, и, наконец – ведь он мое высшее начальство! Безбородко уступил ему звание президента Коллегии иностранных дел! Послушайте, это сказка, это что-то совсем невозможное!
Нарышкин добродушно улыбался и тихонько кивал головою.
А Сергей между тем разгорячался больше и больше.
– Да, мне пришлось подумать об этом ничтожном человеке. Он мелочный и мстительный, как всякое ничтожество, как все выскочки. Он знал, что я не могу стать ему поперек дороги, я просил только свободы, просил позволения вернуться в деревню, я бы жил там безбедно – и я не мог этого добиться. Ему, очевидно, нужно держать меня в своей власти, доказать мне, что он мой тюремщик. Он доказал мне это – но и того ему мало. Я все ждал, что ему наконец надоест и он меня оставит в покое. Нет, я вижу, теперь ему нужно еще моего унижения. Получив известие о кончине матушки, я опять просил отставки и опять получил отказ. Я должен был прямо из Лондона явиться сюда. Я должен завтра же, послезавтра, одним словом, на этих днях представиться господину президенту Иностранной коллегии. Каково положение! Какова роль!
Нарышкин как-то полузакрыл глаза, стиснул зубы, даже покраснел, пальцы его усиленно играли кистью халата. Волнение Сергея, очевидно, сообщилось и ему, невозмутимому «Левушке». Но он все же молчал и только внимательно слушал.
Сергей продолжал:
– Знаете ли, дядюшка, в первую минуту я уже было решился не ехать в Россию. Что же мне – я опоздал, мать похоронена, денежные мои дела, заботы по имениям в надежных руках. Я чувствовал себя неспособным на эти встречи, на эти сцены, на эту невозможную, жалкую роль. А между тем это было только минуту; я выехал в тот же день и с радостью, и с наслаждением. Я русский, я люблю Россию. Я будто проснулся, будто помолодел с тех пор, как дышу родным воздухом. Но скажите мне, неужели я не могу сейчас же, немедленно получить отставку и уехать в Горбатовское? Ведь ваше положение не изменилось, ведь вы по-прежнему близки, по-прежнему друг государыни. Прошу вас, если не ради меня, то хоть ради памяти отца сделать для меня это… Избавьте меня от унижений!
Он замолчал и с сильно бьющимся сердцем глядел на Нарышкина и ждал, что тот ему ответит.
– Милый мой, – тихо и серьезно проговорил Лев Александрович, – я ждал этого твоего ко мне обращения и обо всем подумал. Не всегда же я дурачусь, и, поверь, твои чувства мне понятны, я сам возмущен, глубоко возмущен. Слушай, что я скажу тебе. Отставки тебе не дадут, т. е., может быть, и дадут, но не сейчас. Ты должен показаться… но постой, не торопись, не волнуйся, твое положение вовсе не так дурно, как тебе оно может казаться. Известного господина ты описал верно. Да, он ничтожный и мстительный, и весьма вероятно, что он помышляет о твоем унижении; но, поверь мне, я знаю что говорю – не он отказал тебе в отставке, государыня мне говорила, что хочет тебя видеть, и не дальше как дня три тому назад о тебе спрашивала. Ведь я ее знаю и понимаю так же хорошо, как и самого себя, и я тебе говорю: тебе нечего бояться встречи с нею. Не знаю, как она к тебе относилась и что о тебе думала прежде, но теперь, именно теперь она не желает тебе дурного – напротив. Успокойся же – и потом знай, что хотя мы все, твои друзья и родные, и обессилены, но на столько же у нас есть сил, чтобы защитить тебя. Пусть Зубов желает тебя унизить; но ведь ты не из тех, кого можно легко унизить – он торжествовать не будет! Конечно, тебе придется пережить неприятный час; но ведь не мне учить тебя, сам выйдешь из тяжелого положения, будь только хладнокровен, не теряй головы, думай о каждом своем шаге, о каждом слове. Ты ничего не ищешь, тебе никто не нужен, для тебя вон величайшим благополучием представляется отставка, возможность уехать и запереться в деревне, т. е. именно то, что всем здешним людям представляется величайшим несчастием. Так чего же тебе – никто тебя не унизит. В таком случае твое положение прекрасно, оно бесконечно лучше положения самого этого господина. Нет, дружок, напрасно только волновался – это еще остаток юности. Подумай-ка, ведь я прав?!
Он ласково положил руку на колени Сергея и заглянул ему в глаза.
Сергей несколько мгновений сидел задумчиво, насупив брови, разбираясь в быстро нахлынувших мыслях и ощущениях.
– Да, пожалуй, вы правы, – проговорил он наконец, – и спасибо вам. Я так был возбужден и взволнован это время и немудрено, что глядел односторонне. Вы указали мне, по крайней мере, соломинку, за которую я могу схватиться…
– Я укажу тебе еще нечто другое, – перебил его Нарышкин. – Есть обстоятельство, которое должно тебя успокоить и заставить снисходительнее смотреть на многое. Скажи мне, изменились ли твои чувства относительного того человека, с которым, помнишь, ты беседовал здесь, вот в этой самой комнате, во время маскарада?
Лицо Сергея внезапно оживилось.
– Я почитаю и люблю этого человека по-прежнему, – быстро проговорил он, – и если я до сих пор не сказал вам о нем ни слова, то это вовсе не потому, что я о нем не думаю. Если бы вы знали, с каким нетерпением я жду возможности его видеть!
– Вот я в этом и был уверен, – сказал Нарышкин, – этот человек тоже ждет тебя, желает тебя видеть. «Я люблю его» – это он сказал мне про тебя несколько дней тому назад. Ну, друг любезный, надеюсь, ты теперь не станешь доходить до отчаяния – вот тебе выходы. И если станет очень тяжко, если ты увидишь пустоту и ничтожество глумящихся над тобою, вспомни только об этом человеке – и ты непременно должен будешь успокоиться. Он подвергается тому же, чему ты боишься быть подвергнутым, он воистину подает всем нам великий пример долготерпения и христианского смирения, и если этого не хотят видеть, тем хуже только для тех, кто не видит.
– Так, так! – горячо проговорил Сергей. – Но, скажите мне, неужели все идет совсем по-прежнему – так, как было тогда?
– По-прежнему! – воскликнул Нарышкин. – Нет, не по-прежнему, а во сто раз хуже. Тогда он кому уступал? Человеку больших и чудных дарований, человеку, работавшему для славы России, возведшему ее на высокую степень могущества и влияния. Светлейший был часто несправедлив к нему, но он никогда не был мелочным и злым человеком, во всяком случае, он соблюдал приличия. Теперь же о приличиях не думают, теперь раздувшаяся тля унижает, и сносить это – большой подвиг. Мы все возмущены, но что должен он был чувствовать, что чувствует он теперь?! Ты вот говорил о ничтожном мальчишке. Когда этот ничтожный мальчишка пошел в гору, все полагали, что дело ограничится только внешним почетом, что он как человек необразованный и невоспитанный не получит никакого влияния на дела; к тому же был еще жив Потемкин. Но всеобщие расчеты оказались пустыми. Мальчишка сразу задрал голову и вообразил себя государственным мужем. Его недостатков, его неспособности не видели. Потемкина не было в Петербурге. И знаю, что ему письменно рекомендовали полюбить господина Зубова и брата его, Валериана. «Милые дети!» – для них не было другого названия. Не прошло и нескольких месяцев, как перед милыми детьми все преклонялись и ползали, а они задирали голову выше и выше. Мне на своем веку не раз приходилось быть свидетелем, как слепая фортуна невпопад сыпала дары свои на чью-нибудь подвернувшуюся случайно голову; но подобного зрелища я никогда еще не видывал! Рог изобилия внезапно высыпался до дна на голову господина Зубова, и удивляться надо, как он не задохся под навалившейся на него грудой благополучия!.. Но он не задохся, а хотел еще большего. Потемкин все же стоял ему поперек дороги. И вот, ничтожный мальчишка, льстя, ухаживая, изыскивая только способы быть приятным и не перечить, в то же время копал яму великану – и великан рухнул в эту яму, выкопанную столь ничтожными руками. Светлейший умер, потому что ему нельзя было больше жить. Умер оттого, что сознавал это, оттого, что мог примириться со всем, но не с забвением своих истинных заслуг, не с неблагодарностью. О нем плакали, даже заболели от печали, но это продолжалось недолго. «Как я буду жить без Потемкина, кто мне его заменит?» – так говорили. А между тем заместитель был налицо: едва Потемкин скончался, господин Платон Зубов был объявлен государственным мужем и забрал в свои руки верховное управление всеми делами государства. Мне что, я никогда в это не вмешивался и не терял ничего, но и стоя в стороне и вчуже, было обидно смотреть. А уж что испытывали наши дельцы – сам можешь легко себе представить. Но любимцу фортуны всего было мало, он хотел управлять Россией – ему было это дано. Он хотел управлять внешними сношениями – и Безбородко, сам Безбородко, положение которого казалось твердым и упроченным, дарования которого всем были явны, должен был уступить ему свое место. Не каждый год, а каждый почти месяц приносил нам известие о новой милости, полученной счастливым юношей. Его грудь украшена всеми знаками отличия, ведь еще с 91-го года он носит Александра Невского, Анну, Белого орла и Станислава. Три года тому назад его отец, хищник и взяточник, о котором никто не мог никогда обмолвиться добрым словом, был возведен со своими сыновьями в графское достоинство Римской империи. Платону был тогда же пожалован Андрей Первозванный. Он носит теперь все титула и все звания, занимает более тридцати различных должностей самых разнородных. Наконец, ему пожалован портрет императрицы, осыпанный бриллиантами. Кажется, желать больше нечего, но и на этом он не мог остановиться. Его мелкую душонку мучило, что он носит один общий титул с братьями. И вот, после долгих хлопот удалось наконец исполнить его желание – он светлейший князь Римской империи! Да, любезный друг, это сказка, но никому от этого ведь не легче!..
– Скажите, по крайней мере, дядюшка, одно, – проговорил Сергей, – есть ли хоть что-нибудь порядочное в его светлости, умеет ли он, по крайности, обращаться с людьми? Я слыхал, что он невыносимо дерзок?
– И тебя не обманули. Высокомерию его нет предела, он крайне невоспитан, он держит себя совершенно как глупый лакей, которого назвали барином…
– И все это выносят?!
– Да, все без исключения. Ведь иначе что же делать? Выносить приходится поневоле, и, наконец, люди с истинным достоинством не могут себя считать оскорбленными. Оскорбить тебя может только равный тебе, а он никому не равен. Кого ни возьми – он или бесконечно выше этого человека, или бесконечно ниже.
– Дядюшка, я полагаю, однако, что это всеобщее долготерпение не имеет ничего общего с долготерпением цесаревича. Оно указывает на всеобщее бессилие, на нравственное ничтожество. Если цесаревич одинок и в таком невозможном положении – это вина всех тех, кто преклоняется перед господином Зубовым. Извините меня, я говорю прямо, но положение этой новоявленной светлости указывает на то, что все, перед ним преклоняющиеся, ничего иного не достойны.
Нарышкин усмехнулся.
– Не в бровь, а прямо в глаз! Ну, что же, мой любезный, я и тут не стану с тобой спорить, может, ты и прав. Очень, очень быть может, что мы никуда не годны и нас ничем не исправишь – мы пасуем перед силой, каково бы ни было ее происхождение. Мы помышляем только о самих себе, о наших собственных делишках и животишках. И ради того, чтобы получить какую-нибудь выгоду, чтобы добиться какой-нибудь удачи, ради того, чтобы нам кинули какую-нибудь подачку, мы будем ползать и пресмыкаться перед кем угодно. И все мы таковы, все без исключения, мы таковы с малолетства, так уж нас воспитали, а добрых примеров откуда нам взять?! Вон поэты воспевают на своих лирах всякие добродетели, клеймят порок, смеются над лестью – а посмотри на них! Возьмем хоть нашего поэта, Гаврилу Державина, – и он пресмыкается перед всесильной светлостью и он воспевает его мнимые доблести в звучных одах.
– Я никогда не видал Державина, – сказал Сергей, – но я знаю и люблю его творения, в них виден смелый ум и редкое дарование. То, что вы говорите о нем, очень грустно. Да, если такие люди способны пресмыкаться перед случайно возвеличенным ничтожеством, то чего же ждать от других!
Сергей улыбнулся своей тихой усталой улыбкой.
– Восемь лет тому назад, если бы вы рассказали мне это про Державина, я бы почувствовал себя просто несчастным, а теперь, в сущности, вы не сказали мне ничего нового – я ко всему привык и всего навидался. Но все же, чтобы нам покончить с господином Зубовым, вы должны же мне указать на что-нибудь в нем доброе. Будьте беспристрастны, дядюшка, найдите в нем это доброе, ну хоть что-нибудь, самую малость.
– Доброе! Если бы я целый день об этом продумал, то я все же ничего бы не выдумал, ничего бы не мог найти, – отвечал Нарышкин. – Этот господин воистину не имеет никаких достоинств – и только одни пороки. За все эти восемь лет его могущества я не знаю ни одного доброго дела, которому бы он помог. Он ни разу еще не заступался за правого и обиженного. Он способен только заступиться за неправое дело, сулящее ему выгоды. Он портит все, к чему прикасается. Вот ты хорошо знаком с внешней политикой и можешь сам посудить, сколько наделано ошибок и как ослаблено влияние России за эти восемь лет. Внутри государства царит несправедливость, хищение, распущенность. Он пожелал, между прочим, распоряжаться и войском – и что он сделал с ним? Наше еще недавно столь победоносное воинство теперь в самом жалком виде. Посмотри, что сталось с гвардией! Посмотри на офицеров, ведь они о своем деле не имеют понятия. Дисциплина уничтожена, офицеры расхаживают в партикулярном платье, занимаются кутежами и всякими дебошами. Вот еще недавно мне верный человек рассказывал, что часто за офицера, который спит непробудно, учить солдат выходит его жена, переодевшаяся в мужнино платье.
– Дядюшка, вы мне рассказываете такие вещи, которым бы я не поверил, если бы услыхал их от другого. Я был приготовлен услышать многое, но все же такого не ждал. И теперь мне ясно, что такое положение не может продолжаться, скоро должен настать этому конец.
– Какой конец? – спросил Нарышкин.
– А я почем знаю, но, так или иначе, все это должно измениться. Долго жить в таком положении государство не может. Что же касается до меня, вы мне оказали большую услугу – вы ободрили меня, и теперь мне уже нестрашно подумать о представлении его светлости.
– А ведь только это и нужно было, друг любезный! – весело сказал Нарышкин.
Сергей простился с «Левушкой» и уехал к себе, разбираясь в мыслях, вызванных этих разговором.
IV. «Дней гражданин золотых»
После целой недели ненастья петербургское сентябрьское небо наконец прояснилось. Солнечное утро заглянуло в полуспущенные занавеси одной из комнат Зимнего дворца.
Это была обширная комната, которой трудно было дать определенное наименование. Ее бы следовало назвать спальней, но можно было назвать и уборной, и кабинетом, и приемной, и всем чем угодно. Самая разнообразная мебель и мало подходящие друг к другу предметы наполняли ее. В глубине, под дорогим штофным балдахином, виднелась золоченая кровать; неподалеку от нее стоял туалетный стол с большим венецианским зеркалом, уставленный всякими скляночками и баночками, гребешками и щетками, одним словом, вещами, необходимыми скорее для женского, чем для мужского туалета. По стенам висело несколько больших и малых картин с самыми разнообразными сюжетами; и между ними, на самых видных местах, превосходные портреты императрицы Екатерины. На всех этих портретах она была похожа и в то же время необыкновенно красива и моложава.
Ближе к окнам стоял письменный стол, заваленный бумагами; возле него этажерка с книгами. На другом столе лежали, очевидно, небрежно брошенные орденские звезды и другие знаки отличия. На нескольких стульях виднелись различные принадлежности мужского костюма. Рядом с ночным столиком, приставленным к кровати, был придвинут еще другой тяжелый вычурный столик мозаичной работы, и на нем стояла перламутровая открытая шкатулка.
Шкатулка вся была полна драгоценными украшениями, по преимуществу табакерками и перстнями. И все это сверкало огромными бриллиантами чистейшей воды, превосходными рубинами, изумрудами и яхонтами.
Но, несмотря на роскошные, драгоценные вещи, разбросанные повсюду, несмотря на золото, шелк и бархат эта комната поражала своим беспорядком, своей неряшливостью.
У ног кровати на табуретке, прикрытой пушистым одеялом, спала, свернувшись, маленькая обезьяна. Она иногда вздрагивала, приподнимала свою безобразную и смешную мордочку, мигала большими черными глазами, нюхала воздух, зевала во весь огромный рот и чесала за ухом с ужимками и манерами уже проснувшегося, но желающего еще полениться и понежиться человека. Почесавшись, поморгав и позевав, обезьянка повертывала мордочку по направлению к кровати, заглядывала под занавеску балдахина, прислушивалась и затем опять свертывалась в клубочек и засыпала.
– Ведь, я чаю, ты думаешь, что за тебя не хлопотал, не старался?!
– Я ничего такого не думаю, я уверен, что если бы от вас зависело, если бы вы могли что-нибудь, то я давно был бы в России.
– Так, так! – с видимым удовольствием и в то же время очень серьезно повторял Нарышкин. – Видит Бог – все сделал и ничего не мог добиться… и думал о тебе часто – ведь восемь лет, шутка ли?!
– С матерью не мог проститься! – невольно вырвалось у Сергея.
– Да, и вот как и в первый раз я вижу тебя после такой потери – тогда отца схоронил, теперь мать!
– Но я был при кончине отца! Да уж что говорить об этом, я не жаловаться хочу вам, я хочу, чтобы вы мне глаза открыли на то, что здесь делается, чего мне ожидать, ведь я как в лесу, – что я знаю! Помните, тогда мальчиком приехал, ничего не понимал тоже, а теперь и того меньше. Насколько мог сообразить оттуда, издалека, теперь все иное – научите!
– Веселого от меня услышишь мало, – сказал Нарышкин, – а объяснить тебе не только могу, но и должен. Ты вот сказал, что я мало изменился – это может быть, а другие нет – другие сильно постарели. Вот тебе и вся разгадка. Уже несколько лет как я зачастую от самой слышу: стара я стала! И мы уже к этому привыкли – с самой смерти Потемкина постарела.
Сергей печально усмехнулся.
– Да, но знаете, ведь я нахожусь в самом невыносимом положении. Вы вот говорите, что давно ко всему привыкли, оно понятно, время действует. Перемены, происходящие изо дня в день, у вас же на глазах, не так поражают, а я был совсем ото всего оторван, я не в силах примириться с некоторыми обстоятельствами, не могу смотреть на многое вашими глазами. Конечно, я прежде всего буду говорить о Зубове. Знаете ли, что он такое для меня?! – Ничтожный офицерик, несостоятельный мальчик, обуреваемый желанием жить на широкую ногу, вкусить от всех удовольствий и потому подлизывающийся к богатой молодежи, льнущий ко всем, кто может быть так или иначе ему полезен, увертливый, низкопоклонный, нахальный, когда это не может повредить ему, одним словом – сущая ничтожность, и ничтожность противная. Таким я его оставил восемь лет тому назад, в день моего отъезда из Петербурга. До этого дня он был совсем незаметен, и если я его заметил, то единственно потому, что он случайно попался на моей дороге. Он всячески ухаживал за мною, взял у меня деньги и потом, вдруг преобразившись, почувствовал под собою почву, поняв, что я ему не нужен и не помеха ему, он, с самым непристойным, циничным нахальством хотел мне вернуть эти деньги. Я сказал, что не приму их от него – и после того мы не видались. Я знаю, что я ему, и одному ему, обязан тем, что до сих пор не мог выбраться в Россию. Но все же, когда мне приходилось поневоле думать, слушая почти невероятные рассказы о полученном им назначении, я представлял и представляю его себе до сей минуты таким, каким он был тогда – он не мог измениться. И вот этот человек, как мне говорят, управляет всеми делами, и, наконец – ведь он мое высшее начальство! Безбородко уступил ему звание президента Коллегии иностранных дел! Послушайте, это сказка, это что-то совсем невозможное!
Нарышкин добродушно улыбался и тихонько кивал головою.
А Сергей между тем разгорячался больше и больше.
– Да, мне пришлось подумать об этом ничтожном человеке. Он мелочный и мстительный, как всякое ничтожество, как все выскочки. Он знал, что я не могу стать ему поперек дороги, я просил только свободы, просил позволения вернуться в деревню, я бы жил там безбедно – и я не мог этого добиться. Ему, очевидно, нужно держать меня в своей власти, доказать мне, что он мой тюремщик. Он доказал мне это – но и того ему мало. Я все ждал, что ему наконец надоест и он меня оставит в покое. Нет, я вижу, теперь ему нужно еще моего унижения. Получив известие о кончине матушки, я опять просил отставки и опять получил отказ. Я должен был прямо из Лондона явиться сюда. Я должен завтра же, послезавтра, одним словом, на этих днях представиться господину президенту Иностранной коллегии. Каково положение! Какова роль!
Нарышкин как-то полузакрыл глаза, стиснул зубы, даже покраснел, пальцы его усиленно играли кистью халата. Волнение Сергея, очевидно, сообщилось и ему, невозмутимому «Левушке». Но он все же молчал и только внимательно слушал.
Сергей продолжал:
– Знаете ли, дядюшка, в первую минуту я уже было решился не ехать в Россию. Что же мне – я опоздал, мать похоронена, денежные мои дела, заботы по имениям в надежных руках. Я чувствовал себя неспособным на эти встречи, на эти сцены, на эту невозможную, жалкую роль. А между тем это было только минуту; я выехал в тот же день и с радостью, и с наслаждением. Я русский, я люблю Россию. Я будто проснулся, будто помолодел с тех пор, как дышу родным воздухом. Но скажите мне, неужели я не могу сейчас же, немедленно получить отставку и уехать в Горбатовское? Ведь ваше положение не изменилось, ведь вы по-прежнему близки, по-прежнему друг государыни. Прошу вас, если не ради меня, то хоть ради памяти отца сделать для меня это… Избавьте меня от унижений!
Он замолчал и с сильно бьющимся сердцем глядел на Нарышкина и ждал, что тот ему ответит.
– Милый мой, – тихо и серьезно проговорил Лев Александрович, – я ждал этого твоего ко мне обращения и обо всем подумал. Не всегда же я дурачусь, и, поверь, твои чувства мне понятны, я сам возмущен, глубоко возмущен. Слушай, что я скажу тебе. Отставки тебе не дадут, т. е., может быть, и дадут, но не сейчас. Ты должен показаться… но постой, не торопись, не волнуйся, твое положение вовсе не так дурно, как тебе оно может казаться. Известного господина ты описал верно. Да, он ничтожный и мстительный, и весьма вероятно, что он помышляет о твоем унижении; но, поверь мне, я знаю что говорю – не он отказал тебе в отставке, государыня мне говорила, что хочет тебя видеть, и не дальше как дня три тому назад о тебе спрашивала. Ведь я ее знаю и понимаю так же хорошо, как и самого себя, и я тебе говорю: тебе нечего бояться встречи с нею. Не знаю, как она к тебе относилась и что о тебе думала прежде, но теперь, именно теперь она не желает тебе дурного – напротив. Успокойся же – и потом знай, что хотя мы все, твои друзья и родные, и обессилены, но на столько же у нас есть сил, чтобы защитить тебя. Пусть Зубов желает тебя унизить; но ведь ты не из тех, кого можно легко унизить – он торжествовать не будет! Конечно, тебе придется пережить неприятный час; но ведь не мне учить тебя, сам выйдешь из тяжелого положения, будь только хладнокровен, не теряй головы, думай о каждом своем шаге, о каждом слове. Ты ничего не ищешь, тебе никто не нужен, для тебя вон величайшим благополучием представляется отставка, возможность уехать и запереться в деревне, т. е. именно то, что всем здешним людям представляется величайшим несчастием. Так чего же тебе – никто тебя не унизит. В таком случае твое положение прекрасно, оно бесконечно лучше положения самого этого господина. Нет, дружок, напрасно только волновался – это еще остаток юности. Подумай-ка, ведь я прав?!
Он ласково положил руку на колени Сергея и заглянул ему в глаза.
Сергей несколько мгновений сидел задумчиво, насупив брови, разбираясь в быстро нахлынувших мыслях и ощущениях.
– Да, пожалуй, вы правы, – проговорил он наконец, – и спасибо вам. Я так был возбужден и взволнован это время и немудрено, что глядел односторонне. Вы указали мне, по крайней мере, соломинку, за которую я могу схватиться…
– Я укажу тебе еще нечто другое, – перебил его Нарышкин. – Есть обстоятельство, которое должно тебя успокоить и заставить снисходительнее смотреть на многое. Скажи мне, изменились ли твои чувства относительного того человека, с которым, помнишь, ты беседовал здесь, вот в этой самой комнате, во время маскарада?
Лицо Сергея внезапно оживилось.
– Я почитаю и люблю этого человека по-прежнему, – быстро проговорил он, – и если я до сих пор не сказал вам о нем ни слова, то это вовсе не потому, что я о нем не думаю. Если бы вы знали, с каким нетерпением я жду возможности его видеть!
– Вот я в этом и был уверен, – сказал Нарышкин, – этот человек тоже ждет тебя, желает тебя видеть. «Я люблю его» – это он сказал мне про тебя несколько дней тому назад. Ну, друг любезный, надеюсь, ты теперь не станешь доходить до отчаяния – вот тебе выходы. И если станет очень тяжко, если ты увидишь пустоту и ничтожество глумящихся над тобою, вспомни только об этом человеке – и ты непременно должен будешь успокоиться. Он подвергается тому же, чему ты боишься быть подвергнутым, он воистину подает всем нам великий пример долготерпения и христианского смирения, и если этого не хотят видеть, тем хуже только для тех, кто не видит.
– Так, так! – горячо проговорил Сергей. – Но, скажите мне, неужели все идет совсем по-прежнему – так, как было тогда?
– По-прежнему! – воскликнул Нарышкин. – Нет, не по-прежнему, а во сто раз хуже. Тогда он кому уступал? Человеку больших и чудных дарований, человеку, работавшему для славы России, возведшему ее на высокую степень могущества и влияния. Светлейший был часто несправедлив к нему, но он никогда не был мелочным и злым человеком, во всяком случае, он соблюдал приличия. Теперь же о приличиях не думают, теперь раздувшаяся тля унижает, и сносить это – большой подвиг. Мы все возмущены, но что должен он был чувствовать, что чувствует он теперь?! Ты вот говорил о ничтожном мальчишке. Когда этот ничтожный мальчишка пошел в гору, все полагали, что дело ограничится только внешним почетом, что он как человек необразованный и невоспитанный не получит никакого влияния на дела; к тому же был еще жив Потемкин. Но всеобщие расчеты оказались пустыми. Мальчишка сразу задрал голову и вообразил себя государственным мужем. Его недостатков, его неспособности не видели. Потемкина не было в Петербурге. И знаю, что ему письменно рекомендовали полюбить господина Зубова и брата его, Валериана. «Милые дети!» – для них не было другого названия. Не прошло и нескольких месяцев, как перед милыми детьми все преклонялись и ползали, а они задирали голову выше и выше. Мне на своем веку не раз приходилось быть свидетелем, как слепая фортуна невпопад сыпала дары свои на чью-нибудь подвернувшуюся случайно голову; но подобного зрелища я никогда еще не видывал! Рог изобилия внезапно высыпался до дна на голову господина Зубова, и удивляться надо, как он не задохся под навалившейся на него грудой благополучия!.. Но он не задохся, а хотел еще большего. Потемкин все же стоял ему поперек дороги. И вот, ничтожный мальчишка, льстя, ухаживая, изыскивая только способы быть приятным и не перечить, в то же время копал яму великану – и великан рухнул в эту яму, выкопанную столь ничтожными руками. Светлейший умер, потому что ему нельзя было больше жить. Умер оттого, что сознавал это, оттого, что мог примириться со всем, но не с забвением своих истинных заслуг, не с неблагодарностью. О нем плакали, даже заболели от печали, но это продолжалось недолго. «Как я буду жить без Потемкина, кто мне его заменит?» – так говорили. А между тем заместитель был налицо: едва Потемкин скончался, господин Платон Зубов был объявлен государственным мужем и забрал в свои руки верховное управление всеми делами государства. Мне что, я никогда в это не вмешивался и не терял ничего, но и стоя в стороне и вчуже, было обидно смотреть. А уж что испытывали наши дельцы – сам можешь легко себе представить. Но любимцу фортуны всего было мало, он хотел управлять Россией – ему было это дано. Он хотел управлять внешними сношениями – и Безбородко, сам Безбородко, положение которого казалось твердым и упроченным, дарования которого всем были явны, должен был уступить ему свое место. Не каждый год, а каждый почти месяц приносил нам известие о новой милости, полученной счастливым юношей. Его грудь украшена всеми знаками отличия, ведь еще с 91-го года он носит Александра Невского, Анну, Белого орла и Станислава. Три года тому назад его отец, хищник и взяточник, о котором никто не мог никогда обмолвиться добрым словом, был возведен со своими сыновьями в графское достоинство Римской империи. Платону был тогда же пожалован Андрей Первозванный. Он носит теперь все титула и все звания, занимает более тридцати различных должностей самых разнородных. Наконец, ему пожалован портрет императрицы, осыпанный бриллиантами. Кажется, желать больше нечего, но и на этом он не мог остановиться. Его мелкую душонку мучило, что он носит один общий титул с братьями. И вот, после долгих хлопот удалось наконец исполнить его желание – он светлейший князь Римской империи! Да, любезный друг, это сказка, но никому от этого ведь не легче!..
– Скажите, по крайней мере, дядюшка, одно, – проговорил Сергей, – есть ли хоть что-нибудь порядочное в его светлости, умеет ли он, по крайности, обращаться с людьми? Я слыхал, что он невыносимо дерзок?
– И тебя не обманули. Высокомерию его нет предела, он крайне невоспитан, он держит себя совершенно как глупый лакей, которого назвали барином…
– И все это выносят?!
– Да, все без исключения. Ведь иначе что же делать? Выносить приходится поневоле, и, наконец, люди с истинным достоинством не могут себя считать оскорбленными. Оскорбить тебя может только равный тебе, а он никому не равен. Кого ни возьми – он или бесконечно выше этого человека, или бесконечно ниже.
– Дядюшка, я полагаю, однако, что это всеобщее долготерпение не имеет ничего общего с долготерпением цесаревича. Оно указывает на всеобщее бессилие, на нравственное ничтожество. Если цесаревич одинок и в таком невозможном положении – это вина всех тех, кто преклоняется перед господином Зубовым. Извините меня, я говорю прямо, но положение этой новоявленной светлости указывает на то, что все, перед ним преклоняющиеся, ничего иного не достойны.
Нарышкин усмехнулся.
– Не в бровь, а прямо в глаз! Ну, что же, мой любезный, я и тут не стану с тобой спорить, может, ты и прав. Очень, очень быть может, что мы никуда не годны и нас ничем не исправишь – мы пасуем перед силой, каково бы ни было ее происхождение. Мы помышляем только о самих себе, о наших собственных делишках и животишках. И ради того, чтобы получить какую-нибудь выгоду, чтобы добиться какой-нибудь удачи, ради того, чтобы нам кинули какую-нибудь подачку, мы будем ползать и пресмыкаться перед кем угодно. И все мы таковы, все без исключения, мы таковы с малолетства, так уж нас воспитали, а добрых примеров откуда нам взять?! Вон поэты воспевают на своих лирах всякие добродетели, клеймят порок, смеются над лестью – а посмотри на них! Возьмем хоть нашего поэта, Гаврилу Державина, – и он пресмыкается перед всесильной светлостью и он воспевает его мнимые доблести в звучных одах.
– Я никогда не видал Державина, – сказал Сергей, – но я знаю и люблю его творения, в них виден смелый ум и редкое дарование. То, что вы говорите о нем, очень грустно. Да, если такие люди способны пресмыкаться перед случайно возвеличенным ничтожеством, то чего же ждать от других!
Сергей улыбнулся своей тихой усталой улыбкой.
– Восемь лет тому назад, если бы вы рассказали мне это про Державина, я бы почувствовал себя просто несчастным, а теперь, в сущности, вы не сказали мне ничего нового – я ко всему привык и всего навидался. Но все же, чтобы нам покончить с господином Зубовым, вы должны же мне указать на что-нибудь в нем доброе. Будьте беспристрастны, дядюшка, найдите в нем это доброе, ну хоть что-нибудь, самую малость.
– Доброе! Если бы я целый день об этом продумал, то я все же ничего бы не выдумал, ничего бы не мог найти, – отвечал Нарышкин. – Этот господин воистину не имеет никаких достоинств – и только одни пороки. За все эти восемь лет его могущества я не знаю ни одного доброго дела, которому бы он помог. Он ни разу еще не заступался за правого и обиженного. Он способен только заступиться за неправое дело, сулящее ему выгоды. Он портит все, к чему прикасается. Вот ты хорошо знаком с внешней политикой и можешь сам посудить, сколько наделано ошибок и как ослаблено влияние России за эти восемь лет. Внутри государства царит несправедливость, хищение, распущенность. Он пожелал, между прочим, распоряжаться и войском – и что он сделал с ним? Наше еще недавно столь победоносное воинство теперь в самом жалком виде. Посмотри, что сталось с гвардией! Посмотри на офицеров, ведь они о своем деле не имеют понятия. Дисциплина уничтожена, офицеры расхаживают в партикулярном платье, занимаются кутежами и всякими дебошами. Вот еще недавно мне верный человек рассказывал, что часто за офицера, который спит непробудно, учить солдат выходит его жена, переодевшаяся в мужнино платье.
– Дядюшка, вы мне рассказываете такие вещи, которым бы я не поверил, если бы услыхал их от другого. Я был приготовлен услышать многое, но все же такого не ждал. И теперь мне ясно, что такое положение не может продолжаться, скоро должен настать этому конец.
– Какой конец? – спросил Нарышкин.
– А я почем знаю, но, так или иначе, все это должно измениться. Долго жить в таком положении государство не может. Что же касается до меня, вы мне оказали большую услугу – вы ободрили меня, и теперь мне уже нестрашно подумать о представлении его светлости.
– А ведь только это и нужно было, друг любезный! – весело сказал Нарышкин.
Сергей простился с «Левушкой» и уехал к себе, разбираясь в мыслях, вызванных этих разговором.
IV. «Дней гражданин золотых»
После целой недели ненастья петербургское сентябрьское небо наконец прояснилось. Солнечное утро заглянуло в полуспущенные занавеси одной из комнат Зимнего дворца.
Это была обширная комната, которой трудно было дать определенное наименование. Ее бы следовало назвать спальней, но можно было назвать и уборной, и кабинетом, и приемной, и всем чем угодно. Самая разнообразная мебель и мало подходящие друг к другу предметы наполняли ее. В глубине, под дорогим штофным балдахином, виднелась золоченая кровать; неподалеку от нее стоял туалетный стол с большим венецианским зеркалом, уставленный всякими скляночками и баночками, гребешками и щетками, одним словом, вещами, необходимыми скорее для женского, чем для мужского туалета. По стенам висело несколько больших и малых картин с самыми разнообразными сюжетами; и между ними, на самых видных местах, превосходные портреты императрицы Екатерины. На всех этих портретах она была похожа и в то же время необыкновенно красива и моложава.
Ближе к окнам стоял письменный стол, заваленный бумагами; возле него этажерка с книгами. На другом столе лежали, очевидно, небрежно брошенные орденские звезды и другие знаки отличия. На нескольких стульях виднелись различные принадлежности мужского костюма. Рядом с ночным столиком, приставленным к кровати, был придвинут еще другой тяжелый вычурный столик мозаичной работы, и на нем стояла перламутровая открытая шкатулка.
Шкатулка вся была полна драгоценными украшениями, по преимуществу табакерками и перстнями. И все это сверкало огромными бриллиантами чистейшей воды, превосходными рубинами, изумрудами и яхонтами.
Но, несмотря на роскошные, драгоценные вещи, разбросанные повсюду, несмотря на золото, шелк и бархат эта комната поражала своим беспорядком, своей неряшливостью.
У ног кровати на табуретке, прикрытой пушистым одеялом, спала, свернувшись, маленькая обезьяна. Она иногда вздрагивала, приподнимала свою безобразную и смешную мордочку, мигала большими черными глазами, нюхала воздух, зевала во весь огромный рот и чесала за ухом с ужимками и манерами уже проснувшегося, но желающего еще полениться и понежиться человека. Почесавшись, поморгав и позевав, обезьянка повертывала мордочку по направлению к кровати, заглядывала под занавеску балдахина, прислушивалась и затем опять свертывалась в клубочек и засыпала.