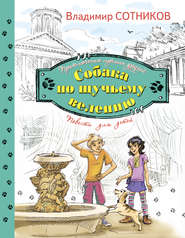По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Покров
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, ложись.
А он и до этого догадался, что надо ложиться, и опустился сначала на колени, потом неудобно прилег, чувствуя неловкость. Все стояли над ним, а он лежал, и хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть перед собой близко бабушкиных валенок – галоши были еще мокрыми, и на них мелькнул, отражаясь от окна, тусклый свет. И хотя бабушка наклонилась к нему и спросила: «Кто тебя испужал, скажи мне», – он молчал, чувствуя, что говорить сейчас совсем нельзя. Даже сказать: «Не знаю» – он не мог. Он прижался ухом к густой шерсти кожуха, слушал, как глухо в полу отдаются шаги бабушки, которая ходила вокруг него, и казалось, что издалека, из темноты он слышит и перекрученный, резкий голос сверкающей птицы – и весь дом звучал шагами, шорохами, он впервые слышал эти звуки, которые, оказывается, совсем по-другому жили в полу и гудели, словно хотели вырваться в то пространство, где все ясно и прозрачно.
Он открыл глаза – бабушка беззвучно шептала, отрезая ножницами кусочки шерсти от кожуха, собирая их в свой сухой кулачок. Потом его тронули за плечо, словно хотели разбудить, и он даже неохотно встал. Прямо перед лицом он увидел комочек шерсти, к которому поднесли спичку, но комочек только задымился, не вспыхнув, и сразу резкий запах дыма прилип к нему, начал обволакивать. Он слышал: «Нюхай, нюхай хорошенько, не отворачивайся». Голова закружилась, но он знал, что все уже кончилось, – и действительно, кожух подняли и повесили за печку, ножницы лежали на столе, и вот уже бабушка вышла, и он сам, соскользнув со стула, тихонько прошел в другую комнату, закрыв за собой дверь.
Сел на диван, раскачиваясь и ни о чем не думая, стал ждать, что же будет дальше. За дверью говорили вполголоса, но он уже и не прислушивался. Он смотрел на дверь – вот она открылась, мать принесла ему одежду, и он понял, что сейчас надо будет выходить во двор.
Бабушка стояла в сенях и ждала. Мать даже подтолкнула его, сказала: «Ну, с Богом», – рука его оказалась в бабушкиной шершавой ладони, и они сошли с крыльца. Он оглянулся, заметил, что палку бабушка с собой не взяла, и подумал, что вместо палки – он, в той же руке держит она его, и он постарался идти прочнее, твердо ступая по нескользкому льду с вмерзшим в него навозом, мелкими щепками – все это словно всплывало наверх из-подо льда и становилось сразу сырым – так и тает лед, подумал он.
Они долго что-то искали, и он не спрашивал, боясь, что бабушка опять будет просить: «Скажи, кто тебя испужал?» Он сам вспоминал все из той жизни, связанной с людьми, которых он встречал, выходя на улицу, и никак не мог вспомнить, чтобы кто-то замахнулся на него, громко при этом крикнув, – так однажды он видел, как сосед, огромный старик с заросшими щетиной щеками, замахнулся на собаку и та стремительно отскочила, взвизгнув так жалобно, будто удар уже был нанесен. И он сейчас не мог понять, кто же его испугал, и не мог никого вспомнить, а старик – тот всегда проходил молча, даже не глядя в его сторону, и он только ждал, когда старик проплывет рядом, обдав его запахом чужого дома.
Бабушка мелко переступала, поглядывая на стены сараев, всяких пристроек, и уже тащила его к дому, где и жил тот старик. Сарай, стоящий в стороне от дома, чуть покосился, и к его стене были приставлены толстые палки, такие толстые, что можно было их назвать бревнами. Они подошли совсем близко к этому сараю, и бабушка остановилась, чтобы отдышаться. «Ну вот, в самый раз, надо было сразу сюда идти, – сказала она. – Не бойся, подлезь под эту подпорочку, а я пошепчу», – и она подтолкнула легонько, управляя им так, чтобы он понимал, куда ступать. Подпорка была высокой, выше головы, и совсем легко было под нею пройти. Он косился на бабушку, видел, как она шепчет, почти закрыв глаза, руки ее стали вдруг сильными, и она почти волочила его под подпоркой – он только перебирал ногами. У самой стены сарая пучками выбивалась сухая прошлогодняя трава, он смотрел на нее, от ветра трава покачивалась и еле слышно шелестела – похоже было, что и трава шепчет, привыкнув и к ветру, и к холоду, – и ему показалось, что как раз эту траву он и видел уже когда-то, и хотя ветер налетал порывами, трава качалась плавно – так, как хотела того сама. Он ходил вокруг подпорки, глядя только на траву, мучаясь своим неумением вспомнить, на что же похоже это плавное и спокойное шевеление. Шепот над головой сливался с шершавой поверхностью подпорки, с ветром, который словно успокаивался в траве, а он все не мог вспомнить и только тревожился слитностью всего видимого с тем, что затаилось в нем и не могло так просто себя открыть, обнаружить.
Потом бабушка сказала: «Ну, все, слава Богу», – оттащила его от вытоптанного кольца шагов вокруг подпорки, поправила платок, и они пошли обратно. Он хотел идти один, но бабушка крепко держала руку, и он молча глядел себе под ноги, узнавая по всем мелким кусочкам льда дорогу, по которой они шли сюда совсем недавно.
У крыльца он выдернул руку, сказал: «Я погуляю», – и побежал быстрее за угол, чтобы бабушка не успела его остановить. Выскочил за калитку, посмотрел по сторонам и заметил, что скамейка возле забора уже освободилась от снега, стала сухой и голой, и он поспешил залезть на нее, чтобы хоть немного посидеть, закрыть глаза и послушать – с открытыми глазами всегда труднее расслышать все звуки, которые носятся в воздухе, и если не прислушиваться, они могут и не слететься, не смешаться ветром в беспрерывный шепот.
На лугу снега уже осталось мало, он собрался, уплотнился по канавкам и впадинам. Через мутноватый и густой воздух лес казался поднятой вверх, вздыбленной пашней, только верхушка высокого дуба выделялась одиноко на чистом небе. Дуб стоял почти на самом краю, и будка на нем отсюда, от улицы, походила на гнездо птицы. Даже хотелось, чтобы над этим гнездом, на самой вершине, сидела сейчас птица, отдыхая после долгого перелета, не двигаясь, только ожидая, что пройдет томительное время, и деревья станут покрываться зеленью, и лес станет привычным, и не так одиноко будет торчать эта высокая верхушка.
Он услышал сзади постукивание палки по крыльцу – это бабушка собиралась уходить и стояла с матерью на крыльце, переступая с ноги на ногу, опираясь на палку. Мать позвала его и, когда он подошел, сказала: «Сынок, ну что ты сидишь на лавочке, еще холодно, и сквозит там через забор – иди в дом». Он почувствовал, что действительно замерз, и, быстро сказав бабушке «до свидания», прошмыгнул в дверь.
На полу лежали ослепительные пятна света, занавески были раздвинуты до отказа – казалось, ярким светом проветривается неподвижный воздух комнат. Он не знал, что сейчас делать, чтобы это совпало с желанием родителей. Взял книгу, смотрел в нее, не читая, косясь на дверь, ожидая, что войдет мать или отец и надо будет совсем по-новому взглянуть навстречу.
А вечером, когда уже засыпал, он боялся, что опять увидит сон, который начинается взбудораженной и бугристой поверхностью – наверное, он боялся, что сейчас она уже никогда не сможет распрямиться. На мгновение показалось, что сон наплывает на него, и он открыл глаза в темноту комнаты. Еле различимы были предметы, он взглянул в сторону окна, и ему показалось, что там, за черной рамой, шевелится что-то. Но сон навалился на него, несмотря на открытые глаза, и, совсем засыпая, он успел увидеть ту сухую траву у сарая, и сразу же все исчезло. Он мгновенно перескочил неизвестную черноту, не помня времени, за которое вечер превратился в утро, и, уже поднявшись с кровати, понял, что ему ничего не снилось. Раньше он никогда не думал о прошедшей ночи, связанной с увиденным или неувиденным сном, – раньше все случалось само собой, сны прилетали откуда-то, и он потом вспоминал их, но в это утро прошедшая чернота ночи оказалась неожиданной. И вот там, в другой комнате, родители ждут, когда он выйдет, чтобы взглянуть на него и подумать о том, чего он никогда не узнает. И вчера, когда он лежал на кожухе, и потом, когда кружился вокруг подпорки, глядя на траву, что-то уже вздрогнуло и начало расползаться, оставляя родителям одну свою часть, а ему – другую. Он вспомнил книжную страницу, на которой картинка своей свежестью и яркостью обозначала одно, а в словах, пестревших однотонной россыпью, таилось другое, мерцающее и не только не совпадающее с картинкой, но и не терпящее повторения при новом, случайном раскрытии книги на той же странице.
Как только он распахнул дверь и увидел глаза отца, то удивился самому себе – ему вдруг стало весело, он улыбнулся, сказал громко: «Доброе утро», – и огляделся вокруг, замечая и накрытый для завтрака стол, и отражение в зеркале стены с закрытой дверью, за которой, казалось, остался тот, на кого он был так похож совсем недавно.
Но все равно он чувствовал, что и это – не то, что надо делать, что и эта утренняя веселость пугает и отца, и его самого. Когда умывался и смотрел, как падают капли и разбегаются по воде быстрые дрожащие круги, он все мыл и мыл лицо, пока не защипало в глазах. Он и за стол сел, улыбаясь и щурясь – то ли от яркого света, то ли от страха поднять глаза.
– Ну, что снилось? – спросил отец, и он даже вздрогнул от этого вопроса. Почему раньше почти никогда отец не спрашивал его об этом?
– Ничего не снилось, совсем ничего, – он быстро ответил, не успев ничего придумать. Надо было рассказать давнишний сон или что-нибудь ответить другое, а он почему-то боялся, что и отец встревожится вместе с ним, но тот усмехнулся и просто сказал:
– Это хорошо, значит, крепко спал. Я, когда молодой был, снов никогда не видел. Засыпал – как в яму проваливался. Ты вчера уморился, вот и спал крепко.
«Да, конечно, я просто спал крепко», – подумал он.
Но больше он ничего не сказал и хотел только быстрее доесть, а потом выйти на улицу и ничего не думать, а побежать куда-нибудь, найти место, где снег уже полностью растаял и совсем по-весеннему тепло.
Но выскочил он не на улицу, а за дом, побежал по той же дорожке, по которой шли вчера с бабушкой, и, забыв о том, что может выйти старик сосед и увидеть его возле своего сарая, уже стоял возле той самой подпорки и смотрел на траву. Снег возле нее совсем оттаял, и вылезла черная и мокрая земля.
Он взялся за подпорку, вспомнил, как скользила рука по этой старой, с трещинами, поверхности, и оглянулся. Никого не было видно, только несколько кур копошились в сухом прошлогоднем навозе. И он, не зная, что надо шептать на самом деле, начал вертеться вокруг подпорки, пригибаясь и проговаривая тихонько слова, которые приходили ему в голову. За стеной сарая вдруг шумно выдохнула корова и, наверное, потерлась боком о бревна – он услышал громкий шорох. Он остановился и словно увидел себя со стороны – стало стыдно и страшно: а вдруг выйдет сейчас старик. Он побежал к своему дому, и куры, закудахтав, побежали перед ним по тропинке, в самом конце только догадавшись свернуть в сторону, на остатки грязного снега. Миновав крыльцо, выскочил на улицу. И не знал, куда ему бежать дальше, а останавливаться не хотелось. Пошел уже спокойней, скамейка проплыла мимо. Вчера он сидел на ней, но не хотелось повторения ни в чем – он боялся увидеть все таким же, как вчера, боялся что-нибудь вспомнить и даже не поворачивал голову ни в сторону леса, ни на скамейку, а уткнулся взглядом себе под ноги и шел куда-нибудь подальше от дома, туда, где продолжалась не видимая из окна улица.
И когда дом его остался далеко сзади, скрылся за другими домами, за выступающими на улицу палисадниками, он увидел, как впереди, прямо на сухом бугорке, стоят кучкой дети. Зимой он с ними катался на санках на этом же месте, а сейчас они стояли и рассматривали что-то на земле. Он подошел ближе и увидел, что они собираются разметить площадку для игры в черту, но сухой земли не хватает – по краям площадки много грязи. Рядом лежала ненужная пока баночка из-под ваксы. Один из них приминал грязь, месил ее и говорил, что так она быстрее высохнет.
Он остановился немного сбоку. Он и играть не хотел, но все же стало грустно, что еще не началось то время, когда можно стоять и смотреть, как кто-нибудь ловко прыгает на одной ноге, двигая баночку по гладким квадратам. Все молча следили за игрой, не отрываясь, и, наверное, каждый, засыпая вечером дома, все еще видел перед собой эти квадратики с остановленной перед следующим движением баночкой. Ему захотелось спросить Сашку или Толю, как их лечили от испуга, но он побоялся, что они этого не знают и будут над ним смеяться. «Их, наверное, совсем по-другому лечили», – подумал он. Потом он прошел по улице еще дальше, в самый ее конец, несколько раз оступился в лужу, промочил ноги и вернулся домой.
Разделся и подумал, что и читать ему совсем не хочется – заранее он представлял почти все книги, которые мог бы взять в руки. Он прошел мимо стола, на котором они лежали, и стал смотреть на мокрое стекло. Капли застыли на нем, и совсем редко одна неожиданно вздрагивала, сталкивалась с другой, и уже крупная капля находила себе дорожку и медленно стекала вниз. Сзади хлопнула дверь, и, чтобы не оборачиваться, он перешел к другому окну, в спальне, и долго еще так стоял, думая, когда же пройдет этот длинный день.
Прошел не только этот день, но пронеслись быстро еще много других, похожих друг на друга, и каждое утро, когда он выходил во двор, голова сама поворачивалась в сторону соседского сарая, он видел знакомую подпорку и, хотя больше никогда к ней не подходил, видел, словно перед собой, ее неровную поверхность с глубокими трещинами и траву внизу, только трава эта, наверное, уже давно скрылась под новой и зеленой, утонула под ней и исчезла.
Хотя наступило лето, они с братом и с Толей никогда не ходили к своему дубу. Несколько раз, проходя мимо, он даже поспешил пробежать это место и только от улицы оглянулся. Будки не было видно в густой зелени, и он думал всегда, что если брат позовет, то, конечно, они пойдут туда – достраивать, подправлять свое гнездо, но брат не звал никогда, а одному идти к дубу не хотелось. Каждый день он ждал, что его опять станут лечить, хотя не представлял, как можно будет по картофельной ботве дойти до той самой подпорки. Когда приходила бабушка, он готовился к тому, что вот-вот его позовут и будут говорить: «Не бойся, не бойся», – эти слова засели у него в ушах, будто кто-то шептал их внутри.
Он стал замечать, что не только ему тяжело смотреть в глаза отцу – что-то наплывало, как слеза, и хотелось моргнуть, избавиться от невидимой пелены, и глаза уже начинали мерцать, и легче всего было просто отвести взгляд в сторону, – но и отец тоже, когда заговаривал с ним, словно говорил всегда не о том, слова выходили чересчур ласковыми и шутливыми. Казалось, что отец знает что-то тайное и даже стесняется этого и не хочет сказать.
Что бы он ни делал сам, один, он думал, что может сказать при этом отец, и казалось, он слышит его слова.
Однажды, когда отец ремонтировал крыльцо, прибивая новые дощечки, только что оструганные рубанком, он сидел рядом, смотрел, как стремительно входят под ударами молотка гвозди в гладкую поверхность, – и вдруг промахнулась рука, молоток ударил прямо по пальцам, отец подскочил, замычал от боли. А он, не успев даже удивиться себе, вдруг громко сказал: «Дурак!» – и широко раскрытыми глазами уставился в лицо отцу, застыл так на мгновение.
Потом, отскочив в сторону, побежал изо всех сил за дом, не зная, куда он бежит и зачем, только стараясь не упасть, не споткнуться, и уже на углу оглянулся быстро – отец гнался за ним, протянув вперед руки. Он испугался, закричал во весь голос и услышал, что отец тоже кричит: «Не бойся, подожди, не бойся, сынок», – но нельзя было остановиться. Отец обогнал его, поймал на руки, подхватил вверх, а он все брыкался, стараясь вырваться. Отец прижал его к себе и понес обратно к дому, приговаривая: «Ну что ты, глупенький, ну что ты плачешь».
Потом, когда прошло время и он успокоился, то стянул тихонько молоток и, спрятавшись в углу двора, ударил себя по пальцам. Было так больно, что слезы сами полились, и он отбросил молоток в сторону, зажал руку и долго так сидел, не разгибаясь, затаив внутри боль и еще что-то страшное, что никак не могло смешаться со слезами.
6
Когда спрашивали его в то время, как спрашивают у всех детей, кем он хочет быть, он отвечал: «Космонавтом». Сразу согласившись на эту игру, которая всегда начиналась одним и тем же вопросом взрослых, он и отвечал по правилам, требующим простоты и однозначности. Но сам чувствовал, что игра эта – временная и первыми, конечно, прекратят ее взрослые, а на самом деле никакими словами нельзя ни спросить об этом, ни ответить. Сами слова «кем ты хочешь быть» были похожи на пожимание плечами. Иногда так и хотелось сделать, соединить этим вместе вопрос-ответ, но он, хотя и пожимал плечами, все-таки успевал сказать: «Космонавтом». А одновременно с этой игрой внутри него откуда-то возникала другая – наверное, без всякого начала и конца, без условий и правил, скорее, это было состоянием, которое можно и не замечать, но оно все равно не прерывается ни на минуту. И только когда он слышал: «Кем ты хочешь быть?» – то начинал чувствовать внутри себя сладкое замирание и ясность. Казалось, что все вокруг состоит из слов, и если выбрать одно, то оно оставалось тревожным и непонятным, но появлялись другие слова, они слетались откуда-то, он умел ими не то чтобы управлять, а следить за ними неотрывно – и непонятное, тревожное слово, окруженное несколькими прилетевшими, вдруг теряло свое напряжение. Это спасение от страшной тревоги, объяснение одного слова другими превращалось в цепочку слов.
Ему казалось, что он может так объяснить все слова, все предметы, и странная уверенность успокаивала его. «Ночь – это…» – и цепочка уже мерцала, требовалось только небольшое усилие, чтобы она не оборвалась и не прекратилось это мерцание. Конечно, он не думал, что этому занятию есть название, но, когда его спрашивали, кем он хочет быть, сама собой начиналась эта внутренняя игра, и он чувствовал, что она не прекратится, когда он вырастет. Он мог бы сказать: «Вот так я и хочу делать всегда, таким я и хочу быть», – но знал, что объяснить это не сможет никому.
По тому, как дни стали похожими друг на друга ожиданием того нового, чего в них пока еще не было, – чувствовалось, что лето прошло, осталось только дождаться его конца. Последние дни были заполнены одинаковым теплым светом, и особенно похожи друг на друга были закаты вечерами, когда солнце долго-долго готовилось повиснуть неподвижным красным шаром над самым горизонтом, и потом, вдруг соединившись с ним, уже медленно опускалось – и нельзя было оторвать взгляда, пока оно совсем не исчезало, оставив после себя на краю неба тускнеющий огонь.
И вот он просыпается раньше обычного – стремительно проносится испуг, не проспал ли, прислушивается к голосам в соседней комнате, смотрит на стул рядом с кроватью – там лежит новая одежда, которая уже называется школьной, и кажется, что стул за ночь передвинули: в утреннем свете он выглядит совсем по-другому, чем вчера.
Он подхватывается с кровати, и уже безостановочно понеслись минуты, в каждую из которых вмещается целое событие: выскочил во двор, потом на огород – оттуда хорошо видна дорога, еще не тронутая после ночи; словно удостоверившись, что дорога на месте, он бежит обратно, одевается быстро, успевая все же порадоваться непривычности новой одежды, завтракает, косясь на ранец. Родители заняты своими делами, но вот мать проходит мимо, он смотрит на нее и не выдерживает, улыбается так, что кажется, улыбка так и останется у него на лице навсегда. Наконец можно выходить, он натягивает ранец и вспоминает картинку из книги. На картинке много цветов, детей, и взрослые стоят, наклонившись к детям, словно стараются заглянуть им в глаза.
Поле за огородами огромное и выпуклое, дорога поднимается вверх, и на ее середине вдруг оказываешься в самой высокой точке – если оглянуться вокруг, то видно далеко во все стороны и хочется кружиться, скользя взглядом по горизонту.
Все мелькало, сорвавшись с привычного постоянного места, и потом, вспоминая тот далекий день, он всегда думал, что на этой дороге посреди поля впервые почувствовал возможность соединить и себя, и все видимое перед собой с теми словами, которые могли бы все назвать; казалось, от каждого предмета, вздрогнув, отлетало слово, устремляясь в новую, всегда будущую жизнь, не настигая ускользающего своего смысла и уже не умея вернуться назад.
7
Осенью эта дорога притягивала к себе все пространство поля, и хотелось смотреть поверх нее далеко – туда, где дымка над горизонтом соединялась с грустью и покоем. Любое воспоминание всегда залетало на эту осеннюю дорогу и оживало, наполняясь густым и синеватым воздухом поля.
По утрам он спешил отойти от дома до того места, где дорога уже полностью была сама собой, и там шел медленней, растягивая для себя необъяснимую радость. Но вот уже вырастали впереди дома, за ними была школа, и он попадал в странное состояние, когда каждая следующая минута вытягивалась, вырастала из только что прошедшей.
Школа его удивила с самого начала необычностью поведения всех, кто переступал порог класса. Казалось, у каждого, кто сидел рядом с ним, вот-вот отнимут что-то, и напряжение делало всех похожими. Он сразу понял, что говорить можно немного меньше, чем знаешь, и это его беспокоило: он никак не мог определить границу и, сидя за партой, не отвечая, чувствовал, что играет с собой, словно учит себя тому, что и так уже знает. И даже завидовал учительнице, которая привычно притворялась не умеющей ни читать, ни считать и спрашивала иногда смешные вещи – казалось, она шутит. Что нарисовано на этой картинке? Какой квадратик больше? И он думал сразу, что, может, надо бы сказать наоборот, иначе какой смысл во всем этом?
Наверное, он даже уставал от этого и, когда звенел последний звонок, торопился и бежал, чтобы скрыться поскорее за крайними к полю домами. Шел, потихоньку успокаиваясь, по той же дороге. Если кто-то шел впереди, он отставал, стараясь вспомнить, как утром было легко и радостно. В школе он видел песочные часы и сейчас сравнивал свое возвращение домой с переворачиванием этих часов – вот струйка полилась, полилась, и начал расти невысокий бугорок, и трудно уже оторвать взгляд от аккуратной желтой горки.
В этой будущей жизни, которая станет с годами все менее объяснимой, количество обыкновенных предметов, связанных с воспоминаниями и чувствами, окажется бесконечным, и он будет только удивляться, переживая свою беспомощность найти начало этих прочных связей, объяснить их, и в конце концов согласится со своей способностью думать, вспоминать и чувствовать, наблюдая внезапные возникновения перед ним этих разнесенных во времени и сменяющих друг друга предметов. Песочные часы, катящийся по наклонной парте карандаш, пятно чернил на ладони, облако, существовавшее только однажды в такой причудливой форме, последнее яблоко на уже безлиственной антоновке на Покров, мучительные и мычащие глаза коровы, когда ее грузили на тележку трактора, следы отца в снегу, заметаемые наполовину, и он, идущий сзади, оступается, не умея так широко ставить ноги, успевая заметить, что поземка у отцовских ног проносится так быстро, что кажется, отец заваливается набок…
Роение таких картинок перед глазами будет требовать чужого для него усилия, чтобы заставить их соединиться, быть вместе, не перечеркивая друг друга; но непонятная сила сметает все и влечет его дальше – туда, где он может увидеть что-то, еще ни разу не повторенное.
Но на этой дороге, когда возвращался из школы, ему было спокойно, он не спешил, смотрел даже не по сторонам, а просто вокруг, и все видимое было единым, переливающимся и радостным. С верхней точки поля видны были дальние деревни, блестели под солнцем крыши, он переводил взгляд на свой дом, почти полностью открывшийся, и чувствовал, что дорога покидает его и остается сзади, дожидаясь вместе с ним завтрашнего дня.
И на пороге, пока вытаскивал руки из лямок ранца, выбирал место на полу для ботинок, уже возникало волнение, он пробегал в дальнюю комнату, косясь на зеркало, словно хотел проверить, совпадает ли отражение со странным ожиданием, которое растворилось во всем доме, в крестовинах окон, во всех предметах, в словах родителей. Они спрашивали о школе, он отвечал, не умея ни сказать, ни почувствовать до конца неуловимое перемещение слов, неудержимых на своих местах. Смысл сказанного сразу менялся, и он никак не мог примирить свои молчаливые слова с ними же, произнесенными.
Но потом начиналась обыкновенная череда занятий – переодевание, еда, работа; он делал все быстро, подгоняя себя, чтобы не приостановиться в пустом времени.