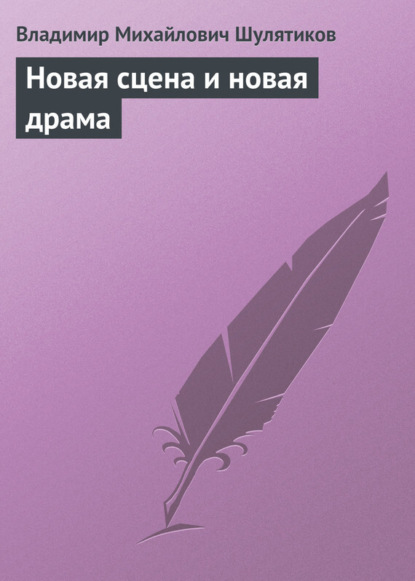По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Новая сцена и новая драма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Menschliches-allzu menschliches! На сцену возвращается «человек», к которому с превеликим пренебрежением отнесся «натурализм». Он возвращается победителем: чтобы утвердиться на сцене, он должен выдержать борьбу с могущественным врагом – «обстановкой», некогда вытеснившим его. Обстановка дарила зрителям лишь «чувственные возбуждения»: теперь царству чувственного в театре приходит конец, наступает царство «духа». Драма «обращается не к чувству, а к духу. Das Schauspiel wendet sich nicht an die Sinne, sondern an Gem?t und Geist»… Под поэтической, абстрактной формой всех модернистских рассуждений в подобном жанре скрывается, как мы выясняли, далеко не поэтическое и далеко не абстрактное содержание. Великолепный культ «человеческой личности» оказывается, на проверку, поклонением «золотому тельцу». Романтические построения предполагают самый плоский, торгашеский «реализм».
II
Не «бытие» определяется «сознанием», а сознание – бытием. Не драматическое произведение создает сцену, а сцена – драматическое произведение. Не драматург, свободно гуляющий по садам фантазии, предписывает театру технические законы, распоряжается «обстановкой», а машины и декорации обусловливают характер его поэтических «прогулок», диктуют правила искусству Мельпомены и Талии. Сколь это ни заставляет страдать самолюбие поэта, «равного богам» и сколь ни стараются модернистские теоретики и пророки избавить его от великого унижения, – факт остается фактом: заведующий технической частью декоратор, машинист в организации театрального предприятия занимают слишком важные посты и стушеваться перед ним, доблестным сыном муз, никак не могут.
Такой-то драматург пишет пьесу для такого-то театра, – такова обычная формула газетных заметок. В продолжение ряда последних лет, как всем известно, лучшие русские драматурги писали пьесы для Художественного театра. И пример их наглядно показывает, в чем заключается зависимость между драматургией и сценой. В репертуар Художественного театра могли попасть лишь произведения, удовлетворявшие определенным сценическим требованиям. Драматурги должны были, прежде всего, соображаться с его обстановкой. Эта обстановка, т. е. техника театрального производства данного типа, и являлась для драматургов настоящей музой вдохновительницей. Приступая к работе, «равной богам» знал, что ему предстоит создать пьесу, в которой бы «среде», окружающей действующих лиц, отводилась исключительная, доминирующая роль, при чем следовало соблюдать два условия: изображение среды должно было отвечать требованиям самого строгого реализма, и, в то же время, все реалистические детали должны были иметь значение постольку, поскольку они служили средством вызвать в зрителе известное настроение. Драматург обязывался использовать арсенал заранее узаконенных технических приемов, начиная со световых эффектов и кончая паузами. – Здесь нам необходимо оговориться.
Утверждая, что сцена создает драматическое произведение, мы отнюдь не думаем характеризовать ее, как нечто такое, что навязывает драматургу решительно все образы и идеи, составляющие содержание его пьес. Конечно, нельзя из технических условий сцены объяснить, почему автором выбраны такие-то dramatis pesonae, почему перед зрителями действуют помещики или профессора, художники или студенты, босяки или рабочие, почему одни из героев высказываются в либеральном, другие в консервативном, третьи в радикальном духе. Драматург не только дитя сцены, но и дитя общества. И социально-экономические отношения, точнее, социально-экономические конфликты, имеющие место в последнем, определяют миросозерцание драматурга, дарят ему запас образов, которыми он и заселяет театральные подмостки. Но, в свою очередь, наличность миросозерцания и образов еще не делает драмы. Чтобы проникнуть на сцену, образы и идеи должны подвергнуться особенному «творческому» процессу. Драматические произведения имеют свою технику. А техника их есть продукт техники сценической, продукт усвоенной в данный момент театральным предприятием системы производства.
Мало того. Как мы выше отмечали, связь сцены с жизнью – самая близкая и непосредственная. Театр – экономическая организация очень определенного типа. Те самые вопросы, которые |волнуют мир промышленников-предпринимателей, являются очередными и для вершителей судеб театра. Сама сцена оказывается, таким образом, уголком жизни, и отражение жизни сливается с самой жизнью. Для проникновения образов и идей, принесенных драматургом извне, создается особенно благоприятная почва.
В рамках настоящей статьи мы задаемся специальной задачей: стараемся выяснить значение перелома, совершающегося в драматическом искусстве, но выяснить его, не ограничиваясь указаниями на общий фон социально-экономических отношений, которые предопределили рост «новых веяний», а сосредоточивши внимание, главным образом на одном, крайне важном, на наш взгляд, промежуточном звене, связующем «высоты» идеологии с «низами» материальных интересов. Это звено – хозяйственная организация самого идеологического «творчества», роль, какая, в данном случае, принадлежит специфическим орудиям и средствам производства. При анализе идеологических построений обыкновенно названное звено остается вне поля зрения критики. Между тем, установление и надлежащая оценка его должна вести к решительным результатам: у всевозможных сторонников идеалистического мышления отнимается их наиболее надежное – по их мнению – оружие.
Все прекрасно, любят они возражать марксистам: значения социально-экономических факторов отрицать нельзя; художник и мыслитель не могут избегнуть их влияния, но… как научное и философское, так и художественное творчество подчинено своим особым, внутренним, имманентным законам, которые безусловно никакому социальному учету не подлежат. Сделанная выше характеристика положения современной сцены, надеемся, вскрывает неосновательность подобной веры в «имманентное» существование одной из наиболее красивых идеологических надстроек – театра. Дальнейшее изложение нашей статьи, может быть, убедит читателя в отсутствии таинственных «внутренних» законов для «высших» творений «человеческого гения» – плодов драматического искусства.
Вместо стотысячной армии зритель должен видеть перед собою только каких-нибудь десять человек: – категорически требует современная сцена от антрепренера. С аналогичным требованием она обращается и к драматургу.
Ему вменяется в обязанность использовать все средства, с помощью которых он мог бы подчеркнуть факт «освобождения» театра от «широких масс», сокращения численности пролетарского и полупролетарского персонала за сценой и на сцене, замены «необученной» толпы немногими «избранными». Вместо пестрой, воспроизведенной в деталях, рельефной картины жизни, жизни подчас очень шумной, которую знало реалистическое искусство, представитель «новых веяний» должен ограничиться конспективным пересказом о ней. Намечается два основных принципа модернистской эстетики: реализм художественных образов уступает место «туманам» и «символам».
В первой картине «Царя Голода» изображена рабочая «толпа». Но как она изображена? Той толпы, к которой привыкло зрение реалистически настроенного посетителя театров, в наличности не имеется. На сцене нет живых людей: мелькают какие-то призраки. «При раскрытии занавеса глазам представляется, в черном и красном, внутренность завода. Красное, огненное – это багровые светы из горна, раскаленные полосы железа, по которым, извлекая искры, бьют молотами черные тени людей. Черное, бесформенное, похожее на спустившийся мрак – это силуэты чудовищных машин, странных сооружений, имеющих грозную видимость ночного кошмара. Угрюмо бесстрастные, они налегли грудью на людей… И как маленькие черные тени копошатся внизу люди». Когда является Царь Голод и рабочие, по его зову, бросив работу, обступают его, опять-таки зрителю приходится удовлетворяться созерцанием призраков. Царь Голод стоит «озаренный красным светом раскаленной печи. И медленно собираются вокруг него работающие». Драматургу представляется удобный случай познакомить зрителей ближе с таинственными «черными тенями», рассеять окутывающий их мрак, введя, в свою очередь, и их в полосу света. Но Леонид Андреев этого не делает. «Только трое из них вступают в полосу света и становятся видимы отчетливо, остальные же стоят грудою темных теней; и только кое-где случайный луч выхватывает из мрака голов могучее плечо, поднятый молот, или суровый профиль». Драматург-модернист упорно прячет «толпу» от зрителей.
Но, обращая толпу в «груду теней», он все-таки дает характеристику ее. В полосу света, озаряющего Царя Голода, становятся трое рабочих, и зрители получают возможность составить себе некоторое конкретное представление о людях, сделавшихся волею художника призраками. Однако, и это представление не будет представлением о действительно существующих, живых людях. Перед зрителями появляются три символические фигуры, три типа, по которым, как думает драматург, можно с исчерпывающей полнотой судить о пролетариате. Первый рабочий – описывает его фигуру наш художник – напоминает Геркулеса Фарнезского. «Ширина обнаженных плеч, груды мускулов, собравшихся на руках и на груди, говорят о необыкновенной, чрезмерной силе, которая уже давит и отягощает обладателя ее. И на огромном туловище – небольшая, слабо развитая голова с низким лбом и тускло-покорными глазами; и в том, как наклонена она вперед, чувствуется какая-то тяжелая и мучительная бычачья тупость». «Второй рабочий – молодой, но уже истощенный, уже больной, уже кашляющий. Он смел – и робок; горд – и скромен до красноты, до заиканья. Начнет говорить, увлекаясь, фантазируя, грезя – и вдруг смутится… На земле он держится легко, как будто где то за спиною у него есть крылья; и кашляя кровью улыбается и смотрит в небо». «Третий рабочий – сухой, бесцветный старик, будто долго, всю жизнь, его мочили в кислотах, съедающих краски. Когда он говорит, кажется, будто говорят миллионы бесцветных существ, почти теней».
Каждый из тех «десяти», которые, согласно требованиям новейшей сценической техники, заменяют десятки тысяч, естественно должен являться воплощением лишь самых общих качеств и черт характеризующих представляемую им группу. Ничего индивидуального и случайного, одни родовые отличия: таков должен быть его облик. А так как представляемая им группа очень велика, то родовые ее отличия должны быть особенно рельефно и наглядно выражены. Физическая сила, рабья тупость, бесцветность, и иногда склонность к фантазерству – вот все, что автор «Царя Голода», этот яркий идеолог буржуазии, которого, с удивительным легкомыслием, стоустая молва приобщает к лагерю носителей пролетарского мировоззрения, открыл «родового» в рабочем классе. И открытые им черты он поспешил увековечить в трех образах, не лишенных, как видите, своеобразной наглядности.
Описывая, в сцене суда, группу лиц, сидящую на скамьях для публики, Л. Андреев делает следующую заключительную ремарку: «Все указанные свойства, как толщина, так и худоба, как красота, так и безобразие достигают крайнего развития». Ремарка дает формулу модернистской artis poeticae. Конкретный пример того, как сторонники нового искусства добросовестно следуют ей, мы сейчас имели. Мы сейчас имели и характерный пример пользования другим излюбленным приемом модернистского творчества. Теперь мы должны приступить к более детальной оценке требований «новой» эстетики, точнее, первого из них. Что же касается «символического способа изображения, этот способ особых пояснительных замечаний не требует. Важно отметить лишь следующее. Модернистские писатели любят щеголять до крайности наивным тоном, примитивностью рисунка, делающими плоды их творчества порой очень похожими на лубочные произведения. Возьмите, напр., описание Друзей и Врагов андреевского Человека. «Первыми за Человеком идут его Друзья. Все они очень похожи друг на друга: благородные лица, открытые, высокие лбы, честные глаза. Выступают они гордо, выпячивая грудь, ставя ноги уверенно и твердо, и по сторонам смотрят снисходительно… У всех у них в петлицах белые розы». Затем «идут Враги Человека, очень похожие друг на друга. У всех у них коварные, подлые лица, низкие, придавленные лбы, длинные обезьяньи руки. Идут они беспокойно, толкаясь, горбясь, прячась друг за друга, и исподлобья бросают по сторонам острые, коварные, завистливые взгляды. В петлицах – желтые розы». Поистине «суздальская» манера письма. И она характеризует все «представление» о Человеке (другие яркие примеры: разговоры старух, гостей, соседей и проч.). Столь удивительное «опрощение» стиля мы должны отнести именно на счет модернистской «символики». Это – одна из наиболее развитых форм последней. Стремясь при создании своих образов, отбрасывать все «лишнее», сохранять, только «типическое», «родовое», модернистские драматурги неминуемо приходят к банально схематическим построениям. Корифеи «утонченной» литературы подают руку суздальским мастерам и «литераторам никольского книжного рынка[6 - Даже более того: модернистами воскрешаются приемы и образы старого «художества» в роде «бесовских действ».].
Обратимся к «теням» и «туманам».
Здесь нам необходимо, прежде всего, ответить на одно возражение, по-видимому очень убедительное и основательное.
«Я в постоянном сне: предметы окутаны облаком, люди двигаются, как тени, слова приходят из далекого мира».
«Туман окутал все, и люди говорят через какую-то стену».
«Я вижу все сквозь облако, все предметы и я не таковы, как прежде».
«Я вижу, я осязаю, но… густое облако, вуаль меняет цвет и вид предметов».
«Мне кажется, я живу в сновидении… Я словно в театре: люди – актеры, все окружающее – декорации».
Мы привели выдержки из записей, сделанных врачами-психиатрами со слов пациентов их амбулаторий и лечебниц[7 - См.: Пьер Жане, «Неврозы и фиксированные идеи», стр. 181; Georges Dumas, «La tristesse et la joie», стр. 58–81, passim.]. При депрессивных формах психических заболеваний, при наличности так называемой абулии, больные, характеризуя состояние своего самочувствия, неизменно прибегают к вышеозначенным образам. «Любопытно видеть, замечает П. Жане, до какой степени сходны между собою все такого рода больные: «туман, стена», все это вполне характерные выражения, которые можно признать симптомами, так как во всех наблюдениях эти выражения оказываются совершенно одни и те же»[8 - Пьер Жане, op. cit., ibid.].
Больные говорят несколько фигуральным языком: галлюцинациями они, в данном случае, не страдают, никаких туманов, облаков, вуалей, стен не видят. Утверждая, что между ними и явлениями внешнего мира выросла какая-то преграда, они в действительности лишь констатируют факт коренного изменения в их восприятии названных явлений, в их отношении к последним. Мы имеем дело с жертвами психического автоматизма, с людьми, психическая деятельность которых ограничивается областью заученных в прошлом движений и актов. Но жизнь на каждом шагу требует новых актов и новых движений. Этому требованию они удовлетворить не в состоянии. Они не способны на волевые усилия, ибо эти усилия содержат в себе элементы «нового», знаменуют собой приспособление к новым условиям. Они не способны на правильную умственную работу, ибо не могут – употребляем выражение французского психиатра Жоржа Дюма – «группировать и ассоциировать идеи согласно новым формам». И вот эта несогласованность имеющихся в их распоряжении психических средств с требованиями текущей жизни и составляет отличительную черту их душевной драмы. Об этой именно несогласованности они и говорят, когда жалуются на «туман», «облако», «стену».
Потеряв способность непосредственно, обычным путем реагировать на явления окружающей среды, они учитывают данное обстоятельство, как изменение, происшедшее во «внешнем» мире. Им кажется, что внешний мир отошел, удалился от них на некоторое расстояние, что все предметы отрезаны от них какою-то пеленой, стали неузнаваемыми, приняли совершенно новый вид.
«Туман», «облака», «стены» играют роль «симптомов» и в модернистских произведениях. Герои и авторы «новых драм» с большой последовательностью выражаются языком пациентов Жане, Дюма, Эскироля, Маньяна. Это создает почву для успехов литературно-критической школы, сводящей анализ литературных явлений к экскурсиям в область психиатрии и невропатологии и объявляющей модернизм простой болезнью, которою заболевают некоторые, наиболее неуравновешенные и слабые в психическом отношении члены общества. И, на самом деле, соблазн велик: слишком много можно найти фактов, подсказывающих критикам мысль о плодотворности метода названной школы.
Русская модернистская драматургия до сих пор не дала ярких, талантливых образцов. Единственное исключение, на которое в данном случае можно, пожалуй, указать – это две последние драмы Леонида Андреева. Они, действительно, содержат весьма поучительный материал для изучения «новой» эстетики. И, вместе с тем, мы имеем перед собой автора, произведения которого по видимому неопровержимо устанавливают патологическую подоплеку модернистской литературы.
Не будем голословны. Пойдем по пути, избранному модной критической школой. Разовьем аргументацию ее сторонников. А для этого нам придется расширить несколько рамки нашего исследования. Чтобы лучше и вернее оценить склонность к «туманам», проявленную корифеем русского модернизма в «Жизни Человека» и «Царе Голоде», необходимо обратиться и к другим, недраматическим произведениям Л. Андреева. Последние дадут нам дополнительный комментарий, оттенят органическое значение «туманных» элементов его творчества.
В одном из своих первых рассказов, рисуя фигуру человека, потерпевшего решительное фиаско в борьбе за жизнь и молчаливо ожидающего смерти, Л. Андреев сообщает следующую любопытную психологическую подробность. Каждый день на рассвете, лежа на постели и всматриваясь в убегающую мглу ночи, его герой «видел то, чего не видят другие: колыхание серого огромного тела, бесформенного и страшного. Оно было прозрачно,[9 - Курсив наш, как и во всех последующих цитатах.] охватывало все, и предметы в нем были, как за стеклянной стеной» («В подвале»). С тем же самым явлением мы встречаемся в «Красном смехе». Вспомним заключительную сцену праздника, устроенного офицерами. Офицеры столпились вокруг потухшего самовара и, парализованные ужасом, наблюдают нечто необычайное. «Молча стояли мы, – рассказывает андреевский герой, от имени которого ведется повествование, – а с неба на нас пристально и молча глядела огромная бесформенная тень, поднявшаяся над миром. Внезапно, совсем близко от нас… заиграла музыка…, и видно было, что те, кто играют, и те, кто слушают, видят так же, как и мы, эту огромную, бесформенную тень, поднявшуюся над миром».
Наиболее обстоятельно и наиболее рельефно видения «бесформенного, прозрачного тела», «бесформенной тени» обрисованы в «Елеазаре». Автор передает чувства тех, кто приходил взглянуть на «чудесно воскресшего» и в ком страшный взгляд Елеазара убивал всякую жажду жизни.
«Все предметы, видимые глазом и осязаемые руками, становились пусты, легки и прозрачны – подобны светлым теням во мраке ночи становились они, ибо та великая тьма, что объемлет все мироздание, не рассеивалась ни солнцем, ни луною, ни звездами, а безграничным черным покровом одевала землю, как мать обнимала ее;
во все тела проникала она, в железо в камень, и одиноки становились частицы тела, потерявшие связь, и в глубину частиц проникала она, и одиноки становились частицы частиц;…
в пустоте расстилали свои корни деревья и сами были пусты; в пустоте, грозя призрачным падением, высились храмы, дворцы и дома и сами были пусты, и в пустоте двигался беспокойно человек и сам был пуст и легок, как тень…»
Конечно, отождествлять художника с нарисованными им образами, приписывать художнику взгляды и настроения его героев следует с величайшей осторожностью. На этой почве сплошь и рядом происходят недоразумения и ошибки. Но в данном случае мы имеем полное право утверждать, что отмеченный выше способ восприятия внешнего мира характерен не только для отдельных персонажей андреевских произведений. Уже то обстоятельство, что Л. Андреев особенно подробно говорит о восприятии внешнего мира сквозь призму «тумана» и «стеклянной стены» именно в «Елеазаре», весьма знаменательно: «Елеазар» – произведение, в котором Л. Андреев дал наиболее законченную, наиболее решительную формулировку своих пессимистических взглядов, в котором он выступает с известными обобщениями. Но имеется ряд и других доказательств.
Обратите внимание на обстановку, среди которой разыгрываются наиболее типичные для андреевского жанра события и сцены: туман, сумерки, мгла, тьма, как известно, пользуются, в качестве аксессуаров, чрезмерными симпатиями нашего беллетриста. И эти симпатии не внушены простым желанием следовать рецептам шаблонной поэтики. Туман и тьма означают здесь нечто иное. Они указывают на ту позицию, от которой Л. Андреев отправляется, как художник. Рисовать явления действительности с известного, весьма и весьма далекого расстояния, рисовать их завуалированными – таково основное правило (точнее, одно из двух основных правил) его художественного творчества.
В начале «Рассказа о Сергее Петровиче», устами своего героя, Л. Андреев бросает попутное замечание, имеющее для нас особый интерес. Сергей Петрович читает «Так говорит Заратустра» Ницше. Он предпочитает подлинник переводу. Предпочтение вполне правильное и естественное и, казалось бы, не требующее никаких комментариев, но Л. Андреев, тем не менее, комментарии делает, ибо заставляет своего героя исходить из несколько необычных соображений. В переводе афоризмы Ницше проигрывают, по мнению Сергея Петровича, потому что становятся «слишком понятны» и «в их таинственной глубине просвечивает дно». Наоборот, когда «Сергей Петрович смотрел на готические очертания немецких букв, то в каждой фразе, помимо прямого ее смысла, он видел что-то непередаваемое словами, и прозрачная глубина темнела и становилась бездонною. Иногда ему приходила мысль, что если на свете явится новый пророк, он должен говорить на чуждом языке, чтобы все поняли его» Мысль парадоксальная, если не сказать большаго. Л. Андреев высказывает ее как бы несколько нерешительно, мимоходом. Но, на самом деле, она является столь естественной для его художественного миросозерцания. Речь идет, как видите, все о том же «тумане» и «стеклянной стене». Восприятие сквозь призму «тумана», изображение предметов и людей, удаленных на известное расстояние, выдвигается, как требование, как догмат, которому должен следовать беллетрист.
Этому требованию отвечают картины тумана, сумерек, мглы, щедро рассыпанные в произведениях Л. Андреева. Этому требованию отвечает целый арсенал несколько менее примитивных средств. Отметим некоторые из них.
О. Игнатий в рассказе «Молчание» смотрит на портрет своей умершей дочери. Главное, что в этом портрете приковывает его внимание, это – глаза. Благодаря известному положению теней, они казались окруженными черной рамкой. Странное выражение придал им неизвестный, но талантливый художник: как будто между глазами и тем, на что они смотрели, лежала тонкая, прозрачная пленка. Немного похоже было на черную крышку рояля, на которую тонким, незаметным пластом налегла летняя пыль, смягчая блеск полированного дерева». И это делает образ Веры чрезвычайно таинственным и далеким для о Игнатия. Или возьмем фигуру Василия Фивейского. Вот какого рода «стеклянной стеной» окружает его Л. Андреев: «Среди людей, их дел и разговоров о. Василий был так видимо обособлен, так непостижимо чужд всему, как если бы он не был человеком, а только движущейся оболочкой его… Кто бы ни видел его, всякий спрашивал себя: о чем думает этот человек? Так явственно была начертана глубокая дума во всех его движениях. Была она в тяжелой поступи, медлительной запинающейся речи, когда между двумя сказанными словами зияли черные провалы притаившейся далекой мысли; тяжелой пеленой висела она над его глазами, и туманен был далекий взор, тускло мерцавший из-под нависших бровей». Туман здесь заменяется «печатью тайны на челе».
Если мы будем составлять словарь художественных терминов Л. Андреева, то увидим, что к числу наиболее часто употребляемых принадлежат как раз такие: чуждый, далекий, странный непонятный, таинственный, загадочный, неведомый: это все материал, при помощи которого наш беллетрист старается вызывать впечатления дали, впечатления тумана. Именно этим и объясняется самый факт широкого применения означенных терминов, объясняется, почему Л. Андреев говорит о странно и чуждо звучащих голосах, странно мелодических звуках, странно прекрасных руках, чуждых и загадочных лицах спящих людей, о загадочном взгляде клочка незамерзшей воды, об одиноких таинственных крышах, о непонятной и странной человеческой жизни, о жизни Человека, проходящей перед зрителями далеким и призрачным эхо, о загадочном роке, тяготеющем над человеческой жизнью, о таинственных и загадочных владыках и даже о таинственном освободительном движении.
Ту же самую цель преследует Л. Андреев, когда создает атмосферу молчания. Молчание, определяет он, «бывает тогда, когда молчат те, кто мог бы говорить, но не хочет» («Молчание»). Оно предполагает, таким образом, нечто скрытое в нем, известную энергию, проявления которой мы лишены возможности наблюдать. Молчание – это перенесенные в область звуковых феноменов туман, тьма и стена. В качестве так назыв. epitheton ornans, «украшающего эпитета» молчаливый постоянно сочетается именно с выражениями, передающими понятие «тайны» и «тумана»: об этом свидетельствуют молчаливые, закутанные, бесформенные люди, бесформенная молчаливая тень, поднявшаяся над миром, молчаливая фантастическая пляска зарева, загадочно молчащие деревья. Таинственный и молчаливый, на языке Л. Андреева, – почти синонимы.
Приведенные нами примеры, надеемся, достаточно освещают органическое пристрастие автора «Жизни Человека» и «Царя Голода» к «туманным» элементам и, вместе с тем, устанавливают аналогию между некоторыми отличительными чертами модернистской «эстетики» и явлениями, характеризующими известные психопатологические состояния. Чтобы сделать эту связь в глазах читателей еще более несомненной, укажем еще несколько пунктов сходства андреевских героев с пациентами психиатрических лечебниц.
При состоянии абулии – сильное расстройство функций памяти. Больные доходят до того, что теряют всякую способность координировать свои воспоминания. Все образы и представления рассматриваются ими, так сказать, в одной плоскости. Граница между прошлым и настоящим для них стушевывается: «для меня нет прошлого»[10 - G. Dumas, op. cit., стр. 80.], заявляют они. Тождественные заявления делают и андреевские герои. «У нас не было времени, и не было ни вчера, ни сегодня, ни завтра» – восклицает прокаженный в рассказе «Стена» «Исчезла грань между будущим и настоящим, между настоящим и прошлым. Исчезла грань между тем временем, когда я еще не жил, и тем, когда я стал жить и я думал, что я жил всегда – или не жил никогда», жалуется герой рассказа «Ложь». «Не стало времени, и сблизилось начало каждой вещи с концом ее; еще только строилось здание, и строители еще стучали молотками, а уже виделись развалины его и пустота на месте развалин; еще только рождался человек, а над головою его зажигались погребальные свечи, и уже тухли они, и уже пустота становилась на месте человека и погребальных свечей» – повествуют о своих впечатлениях жертвы Елеазара.
При состоянии абулии, далее, больные усиленно подчеркивают чувство угнетающего их одиночества. Потерявшие живую связь с окружающей их средой, загнанные, так сказать, в глубь «внутреннего мира» (употребляем традиционный термин), они воображают себя одинокими «я», одинокими атомами, противопоставленными всему миру. Пафос одиночества, который столь часто овладевает андреевскими героями, – явление того же порядка. «Пламенная тоска беспредельного одиночества», «безысходное одиночество», «великое и грозное одиночество», «бездонная пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким», «он был одинок в пустоте вселенной», «он был смертельно одинок», «вечно одинокая человеческая жизнь» – все это выражения, передающие гладким литературным языком характерные для абуликов признания.
Когда абулия осложняется тем, что французские психиатры называют douleur morale, «душевным страданием», больные, как известно, испытывают настроение тревоги, страха ко всему, нередко глубокого ужаса. Что Л. Андреев специалист по части изображения подобных чувств, – факт, не требующий, кажется, доказательств, и мы приводить их не будем. Наконец, поразительная инертность, отличающая андреевских героев, медлительность их движений, зачастую отсутствие последних, способность сохранять одни и те же позы, целыми часами и днями пребывать в состоянии какого-то оцепенения, погружаться в тягучие, бесконечные, однообразные думы – все это наблюдается и у наших больных. Это – яркие внешние симптомы их недуга.
Итак, патологическая подоплека андреевского художества, по-видимому, налицо. По-видимому, мы должны то, чем особенно восторгаются поклонники «новой» литературы, представленной произведениями Л. Андреева, признать не имеющим никакого отношения к области настоящего художественного творчества. По-видимому, модернистская драма, как ее характеризуют «Жизнь Человека» и «Царь Голод», литературно-критическому рассмотрению отнюдь не подлежит.
«Жизнь Человека» и «Царь Голод», действительно, являются, прежде всего, нагромождением «туманов» в различных видах.
Зрители, присутствующие на представлении «Жизнь Человека», должны, по замыслу драматурга, наблюдать действие, совершающееся где-то «вдали» (об этом предупреждают их слова пролога: «как отдаленное и призрачное эхо пройдет перед вами Жизнь Человека»). Таков основной фон драмы. А из ее отдельных подробностей укажем на сенсационную фигуру Некто в сером. Дается образ «рока», судьбы и, чтобы нарисовать его, Л. Андреев пользуется серой краской. Выбор краски знаменателен: она – из числа средств, позволяющих воспроизводить иллюзию «тумана». То огромное, бесформенное, страшное тело, которое видит герой рассказа «В подвале» – именно серого цвета. «Ему тридцать четыре года, – повествует Л. Андреев о другом своем герое – а в памяти от этих лет нет ничего, так серенький туман какой-то, да та особенная жуть, которая охватывает человека в тумане, когда перед самыми глазами стоит сырая, непроницаемая стена». Описание помещения, где впервые драматург-модернист знакомит зрителей с олицетворенной судьбой, ясно показывает, какое значение имеет для Л. Андреева серый тон. Серый ровный свет, наполняющий означенное помещение – это именно «серенький туман», «серая стена», за которыми предметы стушевываются, исчезают, становятся невидимыми.
Или «туманные» образы и аксессуары «Царя Голода». Их такое обилие. Помимо отмеченного уже примера рабочей толпы, укажем хотя бы на следующие. Действие пролога разыгрывается под пологом ночи; «черная, нависающая тяжелая тьма» неба, «немного непонятные силуэты церковных кровель, каких-то труб, похожих на неподвижные человеческие фигуры, которые к чему-то прислушиваются». Один из троих собеседников – Смерть – окутана черным, полупрозрачным покрывалом», сквозь которое «чувствуется и даже как будто видится скелет». Ночными тенями завуалирована сцена также во второй и четвертой картинах; в эпилоге ночные тени заменяются сумерками вечера. Явление Смерти в первой картине описывается так: «среди молчания, в жуткой тишине, трижды раздается хриплый звук рога… Тухнут, точно залитые мраком, дальние горны, и позади рабочих, в углу, встает что-то огромное, черное, бесформенное… Рабочие робко жмутся друг к другу, освобождая угол, в котором черным и бесформенным пятном возвышается смерть». Или такой пример изображения «дали»; декорация квартиры, где происходит бал, – перед зрителями «подобие черной, плоской уходящей в высь стены». наверху ее «видимые только на две трети несколько очень больших окон с зеркальными стеклами». Окна ярко освещены… и, тем не менее, зрители лишены возможности наблюдать реалистически представленную картину бала: драматург опять-таки прибегает к помощи «туманного» средства: «сквозь полупрозрачные гардины и сетку тропических растений видно неопределенное движение»; и лишь изредка, на фоне этого «неопределенного движения», показывается нечто более определенное: «мелькает на мгновение черный костюм мужчины, белое платье и белые голые плечи женщины».
Взятые в отдельности подобные образы и картины наводить на размышления о патологических мотивах творчества модернистского драматурга, пожалуй, еще не могут. Но, если рассматривать их в совокупности и пользуясь комментарием, который дают андреевские рассказы, мы не можем не поставить вопроса об этих мотивах. Представители модного направления в литературной критике должны вопрос решить быстро и безапелляционно. Но для нас их решение, хотя бы обоснованное более обильным и детальным материалом, явится слишком простым и сущности дела не разъясняющим. Допустим даже такой случай: пусть им удастся доказать, что произведения Л. Андреева произведения человека, страдающего той или другой формой психического расстройства. Даже и тогда их диагноз не был бы нами признан таким авторитетным словом науки, которым до конца исчерпываются задачи литературного критика.
Констатирование наличности патологической подоплеки в творчестве того или иного писателя может, во всяком случае, считаться лишь частью, притом предварительной, работы, которая лежит на критике. Современные психиатры начинают писать исследования на тему: «causes socials de la folie»: факт, указывающий на то, что психиатрия теряет престиж «самодовлеющей» области знания, что необходимейшую предпосылку психиатрического анализа начинают видеть в данных, не составляющих специфического, «имманентного» содержания науки о психических заболеваниях. Последняя приобщается к разряду наук, опирающихся на социологический фундамент. Правда, социологические объяснения современных психиатров особенной глубиной не отличаются: даются лишь указания самого общего характера, причем в качестве верховного понятия выдвигается понятие об абстрактном «обществе».[11 - Типичный образчик подобного рода исследований – книга Dupat «Les causes sociales de la folie».] Но таковы вообще «социологические» выступления буржуазных представителей различных научных дисциплин. И, в данном случае, нас не интересуют самые результаты экскурсий психиатров в область общественных знаний: нам важно отметить лишь обнаружившуюся в психиатрии новую тенденцию, важно потому, что она как раз лишает модную критическую школу возможности импонировать своим мнимым ореолом высшего научного откровения. Ее представители, подбирая патологический материал, делают из него first principle, первооснову оценки тех или иных литературных феноменов, т. е. придают психо– и нервопатологическим данным то значение, в котором последним отказывает новейшее развитие соответствующих наук.
Пусть, повторяем, критики-психиатры с большою убедительностью выяснят психопатологический источник андреевского художества: их доказательства, даже и в этом случае, отнюдь не могут явиться опровержением проводимых нами взглядов. Психиатрическое исследование не может противопоставляться исследованию социологическому, напротив, приводит к нему, требует его в качестве необходимого, дальнейшего продолжения. Те образы и обозначения, которыми больные пользуются, описывая переживаемые ими психические состояния, нельзя считать простым продуктом болезни, внешними симптомами, исключительно созданными действием патологических процессов. Это – материал, заимствованный больными из вне, из опыта их жизни, предшествовавшей их «внутренней» катастрофе. Больной страдает галлюцинациями, видит, напр., образ смерти или какого-нибудь чудовища: но разве он, находясь в бредовом состоянии, выдумал этот образ? разве этот образ не был ему дан раньше? Аналогичную ценность имеют и образы, о которых нам пришлось так долго говорить, – образы «тумана», «тьмы», «стены». П. Жане, в приведенной выше цитате, характеризует их именно лишь как символы, позволяющие обозначать известные психические факты. Это даже – как подчеркивалось нами – не явления галлюцинации. «Туман» и «стена», стало быть, меньше содержат в себе патологических элементов, чем, напр., образ смерти или чудовища. Заимствование «извне» здесь более непосредственное.