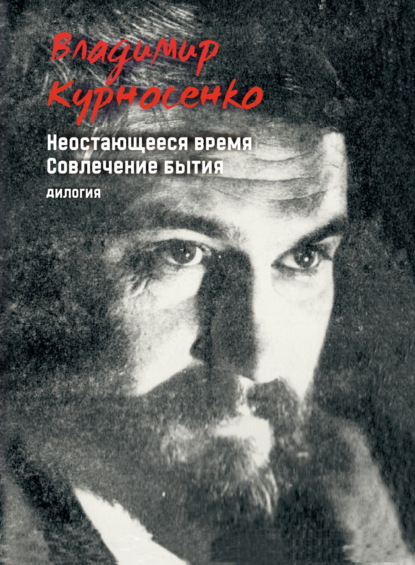По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Неостающееся время. Совлечение бытия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Узнала Оля меня, нет ли, неведомо и поныне, но она прошла, не взглянув, «не поднимая глаз», как в рубцовской песне, с тою, мне показалось, едва различимой в уголках губ усмешечкой, которой женщины скорей защищаются от моря своих бед, нежели ищут причинить их кому-то.
Она и сама была на сей раз под стать дню – потускневшая и не великолепно-победительная, как раньше, не гордая, а будто поуменыпившаяся телом за минувшие годы, с едва намеченными под кофточкой не кормившими молоком грудными железами.
Отмахав с разгону шагов пятнадцать – «Господи! Да это же Оля, она!..» – я мало-помалу опамятовался и, победив свою сковавшую по рукам и ногам застенчивость, оборотился, вернулся назад и пустился заглядывать за все близлежащие углы в переулки.
Увы! Все было напрасно.
«Отошел и где он?» – писано про подобное в одной хорошей книге.
«Если она не замужем, – лихорадочно думал я, – если не ходила, то ведь…»
Я был так сбит с панталыку, так ошарашен тою могущей быть, но не сбывшейся встречей, что долго после, десятилетиями, возвращаясь памятью, примерял к Олиной мелькнувшей тайне разнообразные ключи и отмычки…
И шли, мелькали, отстукивали за окном экспресса, мчавшегося невесть куда, дни, недели, полустанки, станции, города и годы.
Так сложилось, что после ординатуры я очутился за тыщу верст восточней Уральского хребта, в достославном и еще более крупном, чем Яминск, научно-промышленном центре, а школьный мой дружок, не читавший почти за недосугом никакой такой изящной словесности, но зато чуть не в уме щелкавший неведомые мне интегралы, прибыл туда в командировку от заводского КБ.
«Что это, – издевался он, беседуя, над тогдашними песнями и заодно беллетристикой, – «пойду и б е з а д р е с а брошу письмо?» – и куцепалые в мелких ноготках долони[8 - Долони – то же, что ладони (устар.).] его разводились в подчеркивающем чужую глупость недоумении.
Жилось мне в ту пору особенно как-то худо, в тайном для себя унынии, в суетных, обреченных распаду координатах, однако я, как все попавшие в чужую, косную и несущую волну, бодрился и хорохорился, изображая полное осмысление жизненной задачи.
В литературу, в прозу, я по-прежнему еще не пришел (меня не пускали), а из хирургии, боясь задумов своих и заводов, навострял помаленьку лыжи…
Приезд кореша был некстати и по иным, семейным неспоспешествующим гостеприимству обстоятельствам, но, тем не менее, мы все же выпили, посидели и поговорили…
Вспомнили, как записывались в парашютную секцию, «чтобы испытать», и как он, кореш, все-таки прыгнул, совершил свой прыжок, а мне, плохому танцору, опять что-то помешало – не хватило терпенья на все необходимые приготовленья и фильтры.
Как выбросил я в окно автобуса забытый им нечаянно вещмешок с ластами и подводным ружьем, как выкликал чрез силу и стыд его имя, не услышанное за шумом улицы…
В паническом испуге выкликал, а он шел, уходил и ушел, не оглянувшись ни на съежившийся посередь пустой дороги рюкзачок, похожий на сиротеющее животное, ни на меня, орущего в полуотворенное заднее стекло удалявшегося автотранспорта…
Вспомнили и поговорили про В. А., народного академика, директорствовавшего в подобной нашей школе в Москве… О запропавшем куда-то Жене Рыбакове…
Об отбывавших неподалеку срока декабристах, и как Иван Пущин сказал, что, будь он во время дуэли в Петербурге, Пушкин остался бы жив.
– Это почему это? – удивился кореш, поднимая на меня полудетские голубые еще глаза.
– «Пуля Дантеса встретила бы мою грудь!» – процитировал я чужое высказыванье из буквы в букву.
И гость мой нахмурился. Затуманился и в грустном восхищении выдохнул в простоте сердца:
– Ах ты, Пущин…
А под утро, в дурном предчувствии, я заглянул в «гостиную», где он спал, и обнаружил, что так оно и есть, что раскладушка пуста, а голубоглазый визитер покинул дом мой, не простившись.
«Обиделся!» – мигом проник я в подоплеку, поскольку рыльце мое было в пуху.
Раззадоренный авторской иллюзией и алкоголем, я попенял вчера, что вот никто-то из друзей-товарищей не читает, никто не соблаговолит посочувствовать в трудную минуту…
Но что это-де ничего, и ладно, сказал я, но вот Александр Блок полагал (во где пуля-то…), что не поэта избирают для развлеченья себе возлежащие по обывательским лужам «читатели», а наоборот, он, поэт, «если тока поэт», своими тоскующими по раю песнями осуществляет селекцию в человецех.
Для пущайшего проятия, по-видимому, я так и выговорил – «в человецех».
«Гым-м…» – сказал теперь я наутро, в час расплаты.
Орифлему «Разметался пожар голубой…» мы отчего-то оба не стали петь на сей раз, да и про плоды-урожаи собственной селекции я как-то тоже упустил ненароком оповестить.
Одну, только одну, зато едва не чрезмерной тяжести новость довел в приезд свой мой кореш до моего сведенья… Сказал, что ненаглядная наша певунья, Оля Грановская, что она умерла…
Что слыхал вроде бы от кого-то из своих «гэшников», от девочек, что-то такое…
– Брехня, Васьк! Грубые враки! – отмел начисто и не колеблясь чужое «сведенье» Сашок-Трубачок, прилетевший ко мне спустя год из столицы нашей еще советской родины. – Издержки глухого телефона, плохих контактов и недоразумений! Жива Гранька, – успокаивал он, – ничего с ней, красавицей, не подеялось… – И, заметив, как бледнею и краснею я на его речь, улыбнулся располагающей белозубой улыбкой. – Правда, не совсем чтобы здорова… Хы! – Он, коснувшись, пошевелил перстами у виска и беззлобно хохотнул. – Чокнулась девка трошечки, ага! В монашк… Постригл… Диве…
Из автобусного репродуктора струился поднимающий дух «прибывших авиапассажиров» «Марш энтузиастов», нас с Трубецким грубо встряхивало на некомфортных задних сиденьях, и посему не все из сообщаемого я слышал отчетливо.
– В Дивеево? В монастыре? – Сердце мое сжималось и запустевало в священном ужасе от радости. Я не хотел верить ушам своим. – А разве он открылся? Он действующий?
Громадный полуторагодовалый хладно-осклизлый камень сваливался с моей души, озадаченной Олиной «смертью», и теперь, растроганный, готовый расплакаться, я уточнял нарочно мелочи и подробности.
Густо и мужественно обросший изжелта-белой, чрезвычайно как-то ему шедшей щетиной, Трубачок был доволен, что потрафил знакомому человеку.
– В Дивеевский, точно… Да! – не вполне уверенный в непривычных терминах, он утверждающе кивал, пожимал плечом и снова и снова многократно тряс головою. Он был, кажется, и не совсем протрезвевши от каких-то неведомых мне причин. – Как это… ага… пустынь… Кто-то из наших ездил прошлый год… Мать Мария… Нет, сестра Мария… Не помню… Послушанье у нее какое-то там…
Говорил он неспешно, громко и как-то по-новому солидно, придавая сообщаемому закругленный и полноправно органический вид.
Не верить было невозможно.
Несмотря на запах недоперебродившего коньяка, недопустимую дипломату небритость и только что «взятый» четырехчасовой авиаперелет, он оставался активен, бодр и, как могло показаться на первый взгляд, готов к любым самым энергичным действиям и поступкам.
Но ближе к дому различимой сделались непримечаемые в нем раньше растерянность и словно б грустящие о чем-то остановки в речи и мимике.
«Да-а, – громко говорил он то ли наблюдаемому им чему-то внутри себя, то ли теченью внешнего снаружи. – Да-а-а!..»
И вздыхал.
Абсолютно неожиданный (фантастический) визит его ощущался еще более некстати, нежели давешний корешев, был – снег на голову, кусок стекловаты, сунутый за шиворот со злым умыслом…
Мы ведь не числились тогда даже в приятелях…
На втором курсе Трубецкой женился на нашей однокласснице, девочке из одной со мной группком-пании, и это, наверное, она, Геля, предположил я с раздражением, теперь вот, когда у Трубачка что-то случилось, отправила мужа сюда без спросу и предупреж денья.
Было нам в ту пору лет по тридцать семь-тридцать восемь, Пушкина в этом возрасте убили, а я, как определил в прошлом году кореш из «г», «понаслушавшись» речей и мнений преподавателей и сокурсников в литинституте, только что соблаговолил окреститься в одной местной дышащей на ладан церквушке.
Окрестился, но в реалиях был неведающим, что творить, «праведником» с застившим горизонт бревном гордыни в глазу.
Я сам нуждался.
Полухмельной небритый Трубачок, претерпевший какое-то свое крушение ближний, был стоявший пред выбором брат, и он вправду терпел нужду в ведающем свет истины совете, а я, озлобленный, блуждавший впотьмах духовный недоносок… чем мог помочь я в его тоске и кручине?