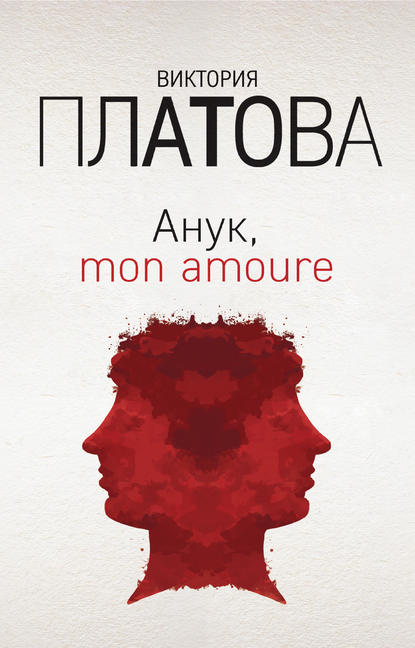По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Анук, mon amour…
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ни за чем…
Она делает это ровно за секунду до того, как я решаюсь об этом подумать: срывает цветок гибискуса и мнет его в пальцах. А потом бросает сморщенные лепестки в книгу и с шумом захлопывает ее.
– Ты и читать-то не умеешь! – наконец-то выпаливаю я давно заготовленную фразу. – И вообще – ты сумасшедшая. Все так говорят.
– А ты? Ты тоже так говоришь? – Анук совершенно спокойна.
– Нет… – почему-то страшно пугаюсь я. – Нет! Ты что…
Фиалковые глаза смотрят на меня. Нет, не так: фиалковые глаза смотрят сквозь меня. И это самый рассеянный взгляд из всех рассеянных взглядов Анук.
– А ты скажи то же самое. Правда, скажи…
– Нет… Ты что?!.
Анук легко огибает меня, легко касается шрама на затылке и уходит – унося с собой запах гибискуса. И все остальные запахи заодно. Нет, не так: запахи устремляются за ней подобно отаре глупых овец, устремляющихся за вожаком. Потом, не догнав Анук, они все же возвращаются – нехотя, хромая на обе ноги, ворча и ругаясь. И мне на долю секунды кажется, что они грызутся между собой за право обладать Анук, за право присвоить ее себе. И мне на долю секунды кажется, что за право присвоить ее себе я и сам отдал бы все на свете.
Но обладать Анук невозможно, как невозможно больше терпеть издевательства одноклассников и запах собственной крови, удручающе однообразный. Все меняется в тот день, когда я, сжав зубы, следую совету Анук.
– У нее и правда не все дома, и кончит она в психушке.
Капитуляция происходит все там же, у навязшей в зубах стены – в дальнем углу школьного двора. Она вовсе не выглядит унизительной, к тому же условия, на которых отныне существует побежденная сторона, можно назвать идеальными: я перестаю быть изгоем. Я становлюсь таким, как все. Таким, как все.
Что уж тут поделать – либо ты выбираешь Анук, либо ты выбираешь все остальное.
Выбрав остальное, я сразу же получаю свору приятелей; футбол на пустыре – у западной оконечности поселка; казаков-разбойников в роще из пиний – у южной оконечности поселка. Я получаю право подкладывать кнопки на стулья, натирать доску воском, курить в туалете, измерять линейкой член, мочиться на географические карты (это получается у меня лучше всего, по дальности струи и точности попадания мне нет равных).
Я больше не думаю о запахах, я больше не вспоминаю об «Arsmoriendi», вернее – я стараюсь не думать и не вспоминать. И у меня почти получается. Почти – но только до тех пор, пока я не натыкаюсь на Анук. Именно так: на Анук я могу только наткнуться. Мы не видимся днями, иногда – неделями, хотя по-прежнему спим в одной комнате. Я не знаю (теперь уже не знаю), что снится Анук. Мои же сны больше похожи на кошмары, они всегда начинаются и заканчиваются одинаково: с чайной жестянки, украшенной лирохвостами. Иногда я сижу в ней – в позе зародыша, скрючившись, сгорбившись, свернувшись в тугую петлю. Иногда я разбиваю лоб о тонкие стенки: в кошмарах они вовсе не кажутся тонкими и сложены из тех же красноватых камней, что и бойня. Иногда я пытаюсь попасть в жестянку, но крышка не поддается, а роза ветров в левом верхнем углу причудливо меняет очертания: ее лучи становятся похожи на лезвие дедова ножа. И я знаю, знаю, куда нацелено лезвие!.. По лабиринтам кошмаров я брожу в полном одиночестве – в полном одиночестве, среди вещей, значение которых мне непонятно. Но все они как-то связаны с Анук. Или со снами самой Анук… Ну да, это вещи из снов Анук, они просачиваются в мои кошмары сквозь узкую щель шрама на затылке. Жаль, что я понимаю это слишком поздно. Я понимаю это лишь тогда, когда Анук исчезает.
Она умеет исчезать как никто – Анук, моя девочка.
Я смутно помню день, из которого исчезает Анук. Он теряется в засаленной колоде таких же дней: трефовая десятка – мы с моим дружком Нодаром с упоением дрочим в пиниевой роще на невесть как попавший в наши края журнал «Плейбой» (Нодар погибнет чуть позже, на войне, в которой потонул и наш поселок, – но это совсем другая карта). Семерка пик – я на спор целую толстуху Мириам, дочку директрисы (и по совместительству – химички), я целую ее и даже не получаю за это по морде. Бубновый валет – нашего историка (и по совместительству преподавателя физкультуры), светлоглазого красавца Тельмана, находят повесившимся в собственном сарае; веревка перекинута через толстую балку, на которой сидят нахохлившиеся куры…
И, наконец, дама червей.
Дама червей – день, из которого исчезает Анук. Хотя для этого события больше подошел бы джокер. Тот самый, его вытянул напоследок Диллинджер – за несколько десятилетий до рождения Анук…
Я понимаю, что ее больше нет, когда возвращаюсь домой: в сумерках, насквозь пропитанных инжиром, туманом и козьим молоком. Дом выглядит как обычно, сад выглядит как обычно, – необычной кажется лишь навалившаяся на меня странная пустота. Она приходит ниоткуда и сосет, сосет мне сердце. Я бессильно опускаюсь на ступеньки веранды и прижимаю ладонь к шраму на затылке. От него-то – горящего, растерянного, – я и узнаю: Анук больше нет.
Анук больше нет, она ушла, она бросила меня – оставила, покинула.
Она не взяла из Дома, в котором прожила неполных шестнадцать лет, ровным счетом ничего. Или – почти ничего: старый свитер, шерстяная юбка и «Ключ к герметической философии» не в счет. Спустя пару дней я обнаруживаю пропажу дедова ножа, сверчки и раковины так и не смогли расстаться с Анук. Но, в конце концов, она имеет право на этот нож, что уж тут поделаешь…
Исчезновение сумасшедшей Анук занимает умы жителей поселка гораздо меньшее время, чем самоубийство Тельмана, – всего-то пару месяцев на стыке поздней весны и раннего лета. Ранним летом появляется новая пища для разговоров: а ну как между двумя этими событиями существует связь? Находятся даже свидетели, которые видели Тельмана и Анук вместе: у заброшенной плотины, у пиниевой рощи, у ручья при бойне. Свидетелям – слепому на один глаз Автандилу и толстухе Мириам (безответная любовь к Тельману так и не заставила ее похудеть) – верят безоговорочно. Настолько безоговорочно, что мне приходится отдуваться за Анук: поселковый милиционер Ваха снимает показания с меня и с деда, единственных родственников пропавшей. Все заканчивается кувшином вина, – дед и Ваха распивают его на веранде. Тем самым кувшином, который дед закопал в саду в день, когда сверчки с раковинами отделили нас с Анук друг от друга. Тем самым кувшином, который должен был стоять на столе в день нашего шестнадцатилетия.
Это означает лишь одно: дед больше не верит в возвращение Анук.
Никто не верит в возвращение Анук.
Я тоже не верю в возвращение Анук, но я, во всяком случае, знаю, что она – жива. Я знаю это точно. Если бы было по-другому – шрам сиамского братца шепнул бы мне об этом.
Как бы то ни было, лето проходит в тоске по Анук.
Эта неясная, саднящая тоска ссорит меня с Нодаром: чертов сукин сын как-то проговаривается, что жалеет лишь об одном – он не трахнул Анук. Переспать с ненормальной – не самая хреновая сексуальная фантазия… Ты ведь не был бы против, Гай? Дурацкий вопрос стоит моему приятелю зуба, а мне – ребра. И нам обоим – многолетней дружбы, Анук бы этого никогда не оценила.
Не оценила бы она и того факта, что (благодаря усилиям Автандила, Мириам и завсегдатаев поселкового магазинчика, в котором оптом и в розницу отпускаются слухи) имя ее становится почти легендарным. Ей приписывают двухлетней давности падеж скота, прошлогодний сход селевого потока в тридцати километрах от поселка, лунное затмение, случившееся в январе. Ей приписывают смерть не только Тельмана, но и смерть братьев Костакисов, Яниса и Тео, хотя давно известно, что оба бесшабашных грека свалились в пропасть на своей раздолбанной старой «Татре». И даже в смерти любимой коровы слепого на один глаз Автандила виноватой оказывается Анук.
Но исчезновение Анук имеет и свои положительные стороны: мне перестают сниться кошмары. Мне вообще перестает что-либо сниться: пустые коридоры снов оказываются восхитительно стерильными, в них больше нет вещей Анук, а своими я так и не успел обзавестись. Или – не смог. В любом случае смириться с этим гораздо легче, чем с потерей самой Анук.
И я смирился, я перестал надеяться, что они вернутся – мои сны, – хотя все время ждал их возвращения. И они вернулись. Спустя несколько лет, когда я и думать забыл о поселке, в котором провел большую часть своей жизни. И который – вместе с дедом и всеми его обитателями – оказался погребенным под руинами маленькой южной войны в маленькой южной республике.
Я не задумываясь сменил юг на север; на пару лет позже, чем это сделала Анук, – но сменил. За эти пару лет я успел прибавить в росте тринадцать сантиметров и остановился на классических ста восьмидесяти пяти. Я успел нагулять мышечную массу и кубики на животе; я успел обзавестись тошнотворно-неотразимым подбородком с ямкой, классической легкой небритостью, выгодно подчеркивающей скулы, и – своей собственной тайной. Тайна выглядит несколько легкомысленно и вполне умещается в толстой тетради – в клетку, с добротным коленкоровым переплетом, таких больше не выпускают. В этой тетради я классифицирую запахи и их описания. Эта тетрадь – моя единственная, пусть и иллюзорная, связь с Анук. Справедливости ради, запаха гибискуса я больше не встречал: север беднее юга, во всяком случае, так мне кажется поначалу. Не встречал я и запаха «Arsmoriendi» (в моей тетради он занимает последнюю страницу и снабжен жирным вопросом – на эту страницу я почти не заглядываю). Не встречал, потому что не мог встретить: по прошествии стольких лет «Arsmoriendi» кажется мне страшной сказкой, рассказанной на ночь, – не более. В нее нельзя поверить до конца, но и отвязаться от нее невозможно. Первые записи в тетради – наивные, больше похожие на плохие стихи – датированы югом. Север привносит в них жесткость и снабжает формулами: я учусь в химико-технологическом, Анук умерла бы со смеху.
В свободное от института время (его оказывается гораздо больше, чем можно было предположить) я подрабатываю моделью в агентстве со лживым названием «All Stars». Никаких особых звезд на его небосклоне не сияет, так – молодое мясо для показов модных коллекций, массовка для клипов и безликие физиономии для рекламы продукции местных производителей.
Я специализируюсь на компьютерной технике, энергетических напитках и амплуа неверных любовников: безмозглые поп-дивы в своих безмозглых поп-клипах любят пострадать. И эти целлулоидные, наспех зарифмованные страдания выглядят так же нелепо, как страдания какого-нибудь гамбургера или хот-дога. Впрочем, я так их и называю – хот-доги с сиськами. Время от времени хот-доги проявляют ко мне нешуточный интерес и даже предлагают «сделать это по-быстрому», но подобные кавалерийские наскоки заканчиваются ничем. Уж я-то знаю, что за спиной каждого хот-дога маячит монументальная фигура бойфренда, которому ничего не стоит состряпать из меня сырковую массу и размазать ее по стене.
Девушки у меня нет.
Я и сам отдаю себе отчет, что выглядит это не вполне нормально: здоровый двадцатилетний парень не может не иметь таких же здоровых потребностей, но… Никто до сих пор не тронул меня по-настоящему. Стоит мне только завести знакомство с девушкой – дальше чашки кофе в кофейне или бокала вина в клубе дело не идет. Ничьи глаза не могут сравниться с давно забытыми фиалковыми глазами Анук, в них не хватает чего-то самого главного. Чего – я так и не могу объяснить. А она…
Она умеет напоминать о себе в самый неподходящий момент, Анук, моя девочка.
И тогда – за чашкой кофе или за бокалом вина – я начинаю думать о ней. Какая она сейчас? Вернее, какой она могла бы стать… Странно, но я не могу представить рядом с ней никого, ни один мужчина не попадает в поле моего внутреннего зрения. Только запахи. Запахи, которые она притягивает, – целая свора запахов. Девушки, частенько сидящие напротив меня, тоже обладают запахом: прямолинейным и безыскусным запахом парфюма – дорогого и не очень. И это тоже мешает мне увлечься хоть кем-нибудь по-настоящему. Все то время, на протяжении которого очередная претендентка о чем-то весело щебечет, меня не покидает ощущение фальши происходящего: капли духов, стягивающие запястья или повисшие на ключицах, как будто призваны скрыть пустоту, обвести вокруг пальца, надуть меня. Но надуть меня, сиамского братца с глазастым шрамом на затылке, невозможно.
Все меняется, когда я встречаю Мари-Кристин.
Marie-Kristine Sauvat, совладелицу модного дома «Sauvat & Moustaki». Далеко не самого раскрученного, но достаточно амбициозного. Наша первая встреча проходит совершенно незаметно для меня – на неделе pr?t-a-porter, такие радости у нас тоже случаются. Мари-Кристин (имя ее дома по замыслу организаторов должно украсить происходящее и придать ему необходимый масштаб) представляет коллекцию «Vareuses», до которой мне нет никакого дела. Я занят в показе совсем другого модельера, совсем в другой день и одержим единственной здравой мыслью: на что бы потратить причитающиеся мне сто пятьдесят баксов.
Но ста пятьюдесятью баксами дело не заканчивается: на пати, венчающем неделю, нас представляют друг другу. Как раз в тот самый момент, когда я пожираю тарталетку с икрой и запиваю его полувыдохшимся шампанским. Появлению Мари-Кристин в моей жизни предшествует именно это: бокал шампанского и тарталетка, которой я едва не подавился. Еще не видя Мари-Кристин, а только предчувствуя ее приближение, я понимаю: в ней гораздо больше настоящего, чем в ком бы то ни было.
Никакого компрометирующего запаха духов я не улавливаю.
Но токи, исходящие от нее, неожиданно кружат мне голову. Несколько секунд уходит на то, чтобы справиться с головокружением и пропихнуть остатки икры в желудок.
Первый же вопрос, заданный на вполне сносном русском, повергает меня в недоумение.
– Вы не гей?
– Нет. А надо? – я даже не нахожусь, что ответить.
Она вовсе не торопится продолжить беседу, она просто рассматривает меня, как рассматривают экзотическое животное прежде, чем снять с него шкуру. Ну что ж, сыграем в вашу игру, madame. Наши взгляды сталкиваются на полпути и имеют разнонаправленные заряды: я банально раздеваю ее, а она… Она одевает. Шерстяная матроска мне бы, безусловно, пошла, равно как и двубортная куртка: денди-минималист, почему нет? А может, что-нибудь в стиле киногероев раннего Марлона Брандо – кожаная кепка, вылинявшие джинсы и пояс, сдвинутый набок?..
Определить, сколько ей лет – невозможно. Ясно только, что она намного старше меня: я вполне допускаю, что именно на те самые двадцать лет, которые я уже прожил.
– Хотите работать у меня? – спрашивает Мари-Кристин.
– Хочу, – не раздумывая ни секунды, отвечаю я.
Она делает это ровно за секунду до того, как я решаюсь об этом подумать: срывает цветок гибискуса и мнет его в пальцах. А потом бросает сморщенные лепестки в книгу и с шумом захлопывает ее.
– Ты и читать-то не умеешь! – наконец-то выпаливаю я давно заготовленную фразу. – И вообще – ты сумасшедшая. Все так говорят.
– А ты? Ты тоже так говоришь? – Анук совершенно спокойна.
– Нет… – почему-то страшно пугаюсь я. – Нет! Ты что…
Фиалковые глаза смотрят на меня. Нет, не так: фиалковые глаза смотрят сквозь меня. И это самый рассеянный взгляд из всех рассеянных взглядов Анук.
– А ты скажи то же самое. Правда, скажи…
– Нет… Ты что?!.
Анук легко огибает меня, легко касается шрама на затылке и уходит – унося с собой запах гибискуса. И все остальные запахи заодно. Нет, не так: запахи устремляются за ней подобно отаре глупых овец, устремляющихся за вожаком. Потом, не догнав Анук, они все же возвращаются – нехотя, хромая на обе ноги, ворча и ругаясь. И мне на долю секунды кажется, что они грызутся между собой за право обладать Анук, за право присвоить ее себе. И мне на долю секунды кажется, что за право присвоить ее себе я и сам отдал бы все на свете.
Но обладать Анук невозможно, как невозможно больше терпеть издевательства одноклассников и запах собственной крови, удручающе однообразный. Все меняется в тот день, когда я, сжав зубы, следую совету Анук.
– У нее и правда не все дома, и кончит она в психушке.
Капитуляция происходит все там же, у навязшей в зубах стены – в дальнем углу школьного двора. Она вовсе не выглядит унизительной, к тому же условия, на которых отныне существует побежденная сторона, можно назвать идеальными: я перестаю быть изгоем. Я становлюсь таким, как все. Таким, как все.
Что уж тут поделать – либо ты выбираешь Анук, либо ты выбираешь все остальное.
Выбрав остальное, я сразу же получаю свору приятелей; футбол на пустыре – у западной оконечности поселка; казаков-разбойников в роще из пиний – у южной оконечности поселка. Я получаю право подкладывать кнопки на стулья, натирать доску воском, курить в туалете, измерять линейкой член, мочиться на географические карты (это получается у меня лучше всего, по дальности струи и точности попадания мне нет равных).
Я больше не думаю о запахах, я больше не вспоминаю об «Arsmoriendi», вернее – я стараюсь не думать и не вспоминать. И у меня почти получается. Почти – но только до тех пор, пока я не натыкаюсь на Анук. Именно так: на Анук я могу только наткнуться. Мы не видимся днями, иногда – неделями, хотя по-прежнему спим в одной комнате. Я не знаю (теперь уже не знаю), что снится Анук. Мои же сны больше похожи на кошмары, они всегда начинаются и заканчиваются одинаково: с чайной жестянки, украшенной лирохвостами. Иногда я сижу в ней – в позе зародыша, скрючившись, сгорбившись, свернувшись в тугую петлю. Иногда я разбиваю лоб о тонкие стенки: в кошмарах они вовсе не кажутся тонкими и сложены из тех же красноватых камней, что и бойня. Иногда я пытаюсь попасть в жестянку, но крышка не поддается, а роза ветров в левом верхнем углу причудливо меняет очертания: ее лучи становятся похожи на лезвие дедова ножа. И я знаю, знаю, куда нацелено лезвие!.. По лабиринтам кошмаров я брожу в полном одиночестве – в полном одиночестве, среди вещей, значение которых мне непонятно. Но все они как-то связаны с Анук. Или со снами самой Анук… Ну да, это вещи из снов Анук, они просачиваются в мои кошмары сквозь узкую щель шрама на затылке. Жаль, что я понимаю это слишком поздно. Я понимаю это лишь тогда, когда Анук исчезает.
Она умеет исчезать как никто – Анук, моя девочка.
Я смутно помню день, из которого исчезает Анук. Он теряется в засаленной колоде таких же дней: трефовая десятка – мы с моим дружком Нодаром с упоением дрочим в пиниевой роще на невесть как попавший в наши края журнал «Плейбой» (Нодар погибнет чуть позже, на войне, в которой потонул и наш поселок, – но это совсем другая карта). Семерка пик – я на спор целую толстуху Мириам, дочку директрисы (и по совместительству – химички), я целую ее и даже не получаю за это по морде. Бубновый валет – нашего историка (и по совместительству преподавателя физкультуры), светлоглазого красавца Тельмана, находят повесившимся в собственном сарае; веревка перекинута через толстую балку, на которой сидят нахохлившиеся куры…
И, наконец, дама червей.
Дама червей – день, из которого исчезает Анук. Хотя для этого события больше подошел бы джокер. Тот самый, его вытянул напоследок Диллинджер – за несколько десятилетий до рождения Анук…
Я понимаю, что ее больше нет, когда возвращаюсь домой: в сумерках, насквозь пропитанных инжиром, туманом и козьим молоком. Дом выглядит как обычно, сад выглядит как обычно, – необычной кажется лишь навалившаяся на меня странная пустота. Она приходит ниоткуда и сосет, сосет мне сердце. Я бессильно опускаюсь на ступеньки веранды и прижимаю ладонь к шраму на затылке. От него-то – горящего, растерянного, – я и узнаю: Анук больше нет.
Анук больше нет, она ушла, она бросила меня – оставила, покинула.
Она не взяла из Дома, в котором прожила неполных шестнадцать лет, ровным счетом ничего. Или – почти ничего: старый свитер, шерстяная юбка и «Ключ к герметической философии» не в счет. Спустя пару дней я обнаруживаю пропажу дедова ножа, сверчки и раковины так и не смогли расстаться с Анук. Но, в конце концов, она имеет право на этот нож, что уж тут поделаешь…
Исчезновение сумасшедшей Анук занимает умы жителей поселка гораздо меньшее время, чем самоубийство Тельмана, – всего-то пару месяцев на стыке поздней весны и раннего лета. Ранним летом появляется новая пища для разговоров: а ну как между двумя этими событиями существует связь? Находятся даже свидетели, которые видели Тельмана и Анук вместе: у заброшенной плотины, у пиниевой рощи, у ручья при бойне. Свидетелям – слепому на один глаз Автандилу и толстухе Мириам (безответная любовь к Тельману так и не заставила ее похудеть) – верят безоговорочно. Настолько безоговорочно, что мне приходится отдуваться за Анук: поселковый милиционер Ваха снимает показания с меня и с деда, единственных родственников пропавшей. Все заканчивается кувшином вина, – дед и Ваха распивают его на веранде. Тем самым кувшином, который дед закопал в саду в день, когда сверчки с раковинами отделили нас с Анук друг от друга. Тем самым кувшином, который должен был стоять на столе в день нашего шестнадцатилетия.
Это означает лишь одно: дед больше не верит в возвращение Анук.
Никто не верит в возвращение Анук.
Я тоже не верю в возвращение Анук, но я, во всяком случае, знаю, что она – жива. Я знаю это точно. Если бы было по-другому – шрам сиамского братца шепнул бы мне об этом.
Как бы то ни было, лето проходит в тоске по Анук.
Эта неясная, саднящая тоска ссорит меня с Нодаром: чертов сукин сын как-то проговаривается, что жалеет лишь об одном – он не трахнул Анук. Переспать с ненормальной – не самая хреновая сексуальная фантазия… Ты ведь не был бы против, Гай? Дурацкий вопрос стоит моему приятелю зуба, а мне – ребра. И нам обоим – многолетней дружбы, Анук бы этого никогда не оценила.
Не оценила бы она и того факта, что (благодаря усилиям Автандила, Мириам и завсегдатаев поселкового магазинчика, в котором оптом и в розницу отпускаются слухи) имя ее становится почти легендарным. Ей приписывают двухлетней давности падеж скота, прошлогодний сход селевого потока в тридцати километрах от поселка, лунное затмение, случившееся в январе. Ей приписывают смерть не только Тельмана, но и смерть братьев Костакисов, Яниса и Тео, хотя давно известно, что оба бесшабашных грека свалились в пропасть на своей раздолбанной старой «Татре». И даже в смерти любимой коровы слепого на один глаз Автандила виноватой оказывается Анук.
Но исчезновение Анук имеет и свои положительные стороны: мне перестают сниться кошмары. Мне вообще перестает что-либо сниться: пустые коридоры снов оказываются восхитительно стерильными, в них больше нет вещей Анук, а своими я так и не успел обзавестись. Или – не смог. В любом случае смириться с этим гораздо легче, чем с потерей самой Анук.
И я смирился, я перестал надеяться, что они вернутся – мои сны, – хотя все время ждал их возвращения. И они вернулись. Спустя несколько лет, когда я и думать забыл о поселке, в котором провел большую часть своей жизни. И который – вместе с дедом и всеми его обитателями – оказался погребенным под руинами маленькой южной войны в маленькой южной республике.
Я не задумываясь сменил юг на север; на пару лет позже, чем это сделала Анук, – но сменил. За эти пару лет я успел прибавить в росте тринадцать сантиметров и остановился на классических ста восьмидесяти пяти. Я успел нагулять мышечную массу и кубики на животе; я успел обзавестись тошнотворно-неотразимым подбородком с ямкой, классической легкой небритостью, выгодно подчеркивающей скулы, и – своей собственной тайной. Тайна выглядит несколько легкомысленно и вполне умещается в толстой тетради – в клетку, с добротным коленкоровым переплетом, таких больше не выпускают. В этой тетради я классифицирую запахи и их описания. Эта тетрадь – моя единственная, пусть и иллюзорная, связь с Анук. Справедливости ради, запаха гибискуса я больше не встречал: север беднее юга, во всяком случае, так мне кажется поначалу. Не встречал я и запаха «Arsmoriendi» (в моей тетради он занимает последнюю страницу и снабжен жирным вопросом – на эту страницу я почти не заглядываю). Не встречал, потому что не мог встретить: по прошествии стольких лет «Arsmoriendi» кажется мне страшной сказкой, рассказанной на ночь, – не более. В нее нельзя поверить до конца, но и отвязаться от нее невозможно. Первые записи в тетради – наивные, больше похожие на плохие стихи – датированы югом. Север привносит в них жесткость и снабжает формулами: я учусь в химико-технологическом, Анук умерла бы со смеху.
В свободное от института время (его оказывается гораздо больше, чем можно было предположить) я подрабатываю моделью в агентстве со лживым названием «All Stars». Никаких особых звезд на его небосклоне не сияет, так – молодое мясо для показов модных коллекций, массовка для клипов и безликие физиономии для рекламы продукции местных производителей.
Я специализируюсь на компьютерной технике, энергетических напитках и амплуа неверных любовников: безмозглые поп-дивы в своих безмозглых поп-клипах любят пострадать. И эти целлулоидные, наспех зарифмованные страдания выглядят так же нелепо, как страдания какого-нибудь гамбургера или хот-дога. Впрочем, я так их и называю – хот-доги с сиськами. Время от времени хот-доги проявляют ко мне нешуточный интерес и даже предлагают «сделать это по-быстрому», но подобные кавалерийские наскоки заканчиваются ничем. Уж я-то знаю, что за спиной каждого хот-дога маячит монументальная фигура бойфренда, которому ничего не стоит состряпать из меня сырковую массу и размазать ее по стене.
Девушки у меня нет.
Я и сам отдаю себе отчет, что выглядит это не вполне нормально: здоровый двадцатилетний парень не может не иметь таких же здоровых потребностей, но… Никто до сих пор не тронул меня по-настоящему. Стоит мне только завести знакомство с девушкой – дальше чашки кофе в кофейне или бокала вина в клубе дело не идет. Ничьи глаза не могут сравниться с давно забытыми фиалковыми глазами Анук, в них не хватает чего-то самого главного. Чего – я так и не могу объяснить. А она…
Она умеет напоминать о себе в самый неподходящий момент, Анук, моя девочка.
И тогда – за чашкой кофе или за бокалом вина – я начинаю думать о ней. Какая она сейчас? Вернее, какой она могла бы стать… Странно, но я не могу представить рядом с ней никого, ни один мужчина не попадает в поле моего внутреннего зрения. Только запахи. Запахи, которые она притягивает, – целая свора запахов. Девушки, частенько сидящие напротив меня, тоже обладают запахом: прямолинейным и безыскусным запахом парфюма – дорогого и не очень. И это тоже мешает мне увлечься хоть кем-нибудь по-настоящему. Все то время, на протяжении которого очередная претендентка о чем-то весело щебечет, меня не покидает ощущение фальши происходящего: капли духов, стягивающие запястья или повисшие на ключицах, как будто призваны скрыть пустоту, обвести вокруг пальца, надуть меня. Но надуть меня, сиамского братца с глазастым шрамом на затылке, невозможно.
Все меняется, когда я встречаю Мари-Кристин.
Marie-Kristine Sauvat, совладелицу модного дома «Sauvat & Moustaki». Далеко не самого раскрученного, но достаточно амбициозного. Наша первая встреча проходит совершенно незаметно для меня – на неделе pr?t-a-porter, такие радости у нас тоже случаются. Мари-Кристин (имя ее дома по замыслу организаторов должно украсить происходящее и придать ему необходимый масштаб) представляет коллекцию «Vareuses», до которой мне нет никакого дела. Я занят в показе совсем другого модельера, совсем в другой день и одержим единственной здравой мыслью: на что бы потратить причитающиеся мне сто пятьдесят баксов.
Но ста пятьюдесятью баксами дело не заканчивается: на пати, венчающем неделю, нас представляют друг другу. Как раз в тот самый момент, когда я пожираю тарталетку с икрой и запиваю его полувыдохшимся шампанским. Появлению Мари-Кристин в моей жизни предшествует именно это: бокал шампанского и тарталетка, которой я едва не подавился. Еще не видя Мари-Кристин, а только предчувствуя ее приближение, я понимаю: в ней гораздо больше настоящего, чем в ком бы то ни было.
Никакого компрометирующего запаха духов я не улавливаю.
Но токи, исходящие от нее, неожиданно кружат мне голову. Несколько секунд уходит на то, чтобы справиться с головокружением и пропихнуть остатки икры в желудок.
Первый же вопрос, заданный на вполне сносном русском, повергает меня в недоумение.
– Вы не гей?
– Нет. А надо? – я даже не нахожусь, что ответить.
Она вовсе не торопится продолжить беседу, она просто рассматривает меня, как рассматривают экзотическое животное прежде, чем снять с него шкуру. Ну что ж, сыграем в вашу игру, madame. Наши взгляды сталкиваются на полпути и имеют разнонаправленные заряды: я банально раздеваю ее, а она… Она одевает. Шерстяная матроска мне бы, безусловно, пошла, равно как и двубортная куртка: денди-минималист, почему нет? А может, что-нибудь в стиле киногероев раннего Марлона Брандо – кожаная кепка, вылинявшие джинсы и пояс, сдвинутый набок?..
Определить, сколько ей лет – невозможно. Ясно только, что она намного старше меня: я вполне допускаю, что именно на те самые двадцать лет, которые я уже прожил.
– Хотите работать у меня? – спрашивает Мари-Кристин.
– Хочу, – не раздумывая ни секунды, отвечаю я.