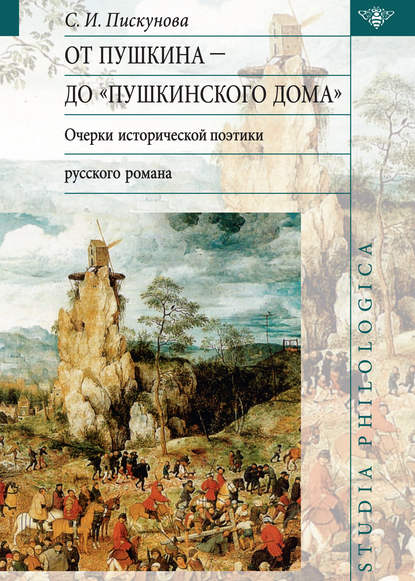По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
От Пушкина до Пушкинского дома: очерки исторической поэтики русского романа
Жанр
Серия
Год написания книги
2013
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Термин Л. Е. Пинского. См.: Пинский Л. Е. Сюжет-фабула и сюжет-ситуация // Пинский Л. Е. Реализм эпохи Возрождения. М.: Художественная литература, 1961.
Прилагательное «донкихотовский» (-ая, – ое) мы, как правило, образуем от названия романа, «донкихотский» – от имени героя, хотя тот же Л. Е. Пинский, да и другие критики, их используют как синонимы. Впрочем, на строгом различении двух обозначений и мы не настаиваем.
Это понятие обосновано Г. С. Морсоном. См.: Morson G. S. The Boundaries of Genre. Dostoevsky's Diary of a Writer and the Tradition of Literary Utopia. Austin: University of Texas Press, 1981.
См. главу «"Дон Кихот" – I: динамическая поэтика» в кн.: Пискунова С. И. Испанская и португальская литература XII–XIX веков. М.: Высшая школа, 2009.
Durаn М. La ambig?edad en el «Quijote». Xаlapa: La Universidad Veracruzana, 1960.
Следующие за ним (как создателем «Творимой легенды») Евг. Замятин и М. Булгаков, как нам представляется, приблизятся к этой черте, но ее не перейдут. Более того: Булгаков – ближе к концу жизни и к концу своего «закатного» романа – от нее явно отступит!
Поднявшись (в «Восьмой главе») к высшей точке своего самосознания, Онегин, тем не менее, «не сошел с ума» (как и «не сделался поэтом»).
См.: Reed W. L. An Exemplary History of the Novel. The Quixotic versus the Picaresque. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1981.
См. о нем в главе «Русский роман как сюжет исторической поэтики».
См.: Cascardi A. The Bounds of Reason: Cervantes. Dostoevsky. Flaubert. New York: Columbia University Press, 1986.
Эта работа во многом осуществлена В. Е. Багно (см.: Багно В. Е. Указ. соч.).
См.: Grachiуva A. El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y los experimentos novelescos de A. Rйmizov en los aсos 30 del siglo XX // Lecturas cervantinas. 2005. San Petersburgo, 2007.
Структурное сходство «Лолиты» и «Дон Кихота» замечено Г. Дэвенпортом, автором «Предисловия» к американскому изданию «Лекций о "Дон Кихоте"» (1983), далее цитируемых по русскому переводу (М.: Независимая газета, 2002).
См.: Липовецкий М. Паралогии. Трансформации (пост)модернистского дискурса в культуре 1920–2000 годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
«Прочитав эти лекции, мне так захотелось перечитать "Дон Кихота"!» – восклицает писатель в небольшом эссе «Музыка чтения», которое предваряет русское издание набоковских «Лекций по зарубежной литературе» (М.: Независимая газета, 1998), включающее – в качестве приложения – сокращенную версию «Лекций о "Дон Кихоте"» (есть и указанный выше полный русский пере вод).
Русский роман как сюжет исторической поэтики
В ситуации кризиса как истории, так и теории литературы
, историческая поэтика является, на наш взгляд, одним из немногих путей развития литературоведения на почве собственно филологической традиции. На почве искусства слова, не растворенного в «гуманитарном знании» или «дискурсивных практиках». Однако, как отмечает С. Г. Бочаров, в России «история античной и западных европейских, а также восточных литератур оказалась более активным полем… выращивания» «нового теоретического знания» в лице исторической поэтики, «чем история русской литературы»
. Феномен, легко объяснимый тем, что в советском литературоведении с конца 1940-х годов доминировала тенденция представлять русскую литературу и русский классический роман в том числе (не говоря о романе современном, что было оправданнее) как нечто, не имеющее почти ничего общего с западноевропейской романистикой. Когда же сравнения с западными романами и проводились, то в первую очередь с целью доказать, что русский роман – и тут рассуждения Льва Толстого о современном ему западном романе в статье «Несколько слов по поводу книги "Война и мир"» (1868) оказались как нельзя кстати! – едва сложившись (на этом этапе отрицать западные влияния было невозможно), тут же пошел по своему особому пути. Поэтому художественная система русского романа выстраивалась по преимуществу изнутри нее самой
с признанием лишь косвенного влияния на отдельных русских авторов ближайших во времени западноевропейских предшественников и современников
.
Тенденцией противопоставления русской и западноевропейском романной традиции отмечена даже статья Ю. М. Лотмана «Сюжетное пространство русского романа» (1987), в которой ученой задается целью набросать эскиз сюжетной системы русской наррации, ориентируясь на типологию образов героев как основных «сюжетных единиц» романа. Сюжетное пространство русского романа структурируется
Лотманом, апеллирующим на сей раз к авторитету Салтыкова-Щедрина, опять-таки в противопоставлении западного и русского романов как «семейного» и «общественного» (у других исследователей русский роман синтетичен, универсален, эпичен, всемирен, философичен и прочая, и прочая, в отличие от западного – аналитического, камерного, субъективного, натуралистичного и т. д.)
.
Одновременно Лотман выделяет два лежащих у истоков искусства повествования типа сюжетной организации текста: сказочный и мифологический
. «Пространство» русского романа, по мысли Лотмана, организуется по логике мифа, а «сказочный» сюжет западноевропейского романа «состоит в том, что герой занимает некоторое неподобающее (не удовлетворяющее его, плохое, низкое) место и стремится занять лучшее» (97). Однако, якобы, «сказочная» сюжетная схема западноевропейского романа имеет полное соответствие в классическом сюжете романа плутовского, сложившегося как раз в отталкивании от «сказочного» по многим параметрам романа рыцарского. Вместе с тем, история выскочки-пикаро (с разными вариантами развязки) нацелена отнюдь не на сказку, а на пародирование исповедального жанра
, равно как на амбивалентное цитирование христианских образов и таинств: таинства евхаристии, воскрешения Лазаря (исп. Ласаро, уменьшит. Ласарильо – так именуют героя первого образца плутовского повествования – анонимной «Жизни Ласарильо с Тормеса», сохр. изд. 1554), грехопадения (Ласарильо, проникающий, подобно змею, в «хлебный рай» – сундук священника). Вместе с тем, сюжетная схема пикарески и восходящего к ней западноевропейского романа XVII–XIX веков в равной степени сказочна и антисказочна, мифична и антимифична, циклична и линейна, о чем мы скажем немного позже.
Однако западноевропейская романная традиция, помимо пикарески, изначально включала в себя и другую «составляющую» – роман «сервантесовского типа», в котором весьма существенны и тема преображения героя (необходимо включающая в себя момент самопознания), и утопия переделки мира – его возвращения к изначальному блаженному состоянию – к Золотому веку, каковые Лотман выделяет как специфически-русские романные темы.
В том же Дон Кихоте отчетливо просматриваются черты спародированного героя-спасителя
: именно на эту роль претендует герой Сервантеса, подражая героям ренессансных рыцарских романов, постоянно спасающих разного рода дам и принцесс. В свою очередь, в средневековом рыцарском романе архетипический спаситель-богатырь (Тезей, Беовульф, Зигфрид) ассоциируется со Спасителем
Христом: таков, к примеру, Ланселот, которому герой Сервантеса во многом подражает.
К сожалению, Ю. М. Лотман – и он в этом не одинок – практически не учитывал опыт западноевропейской наррации раннего Нового времени, не говоря уже о средневековой.
Кажется, именно этот пробел попытался восполнить Н. Д. Тамарченко, поставивший перед собой задачу построения типологии русского романа с учетом – ни много ни мало – «опыта всего европейского романа от античности до современности»
.
Мысль Тамарченко о «двойственной природе сюжета» романа Нового времени, о двусоставности его структуры, в которой «новые принципы сюжетосложения» соединяются с традиционными сюжетными схемами, заслуживает всяческой поддержки. В зарубежном литературоведении она широко распространена
и подтверждена, в частности, анализом «Дон Кихота», произведенным М. Дураном
. Однако и «Дон Кихота», и плутовской роман, который для Тамарченко «на "дореалистической" стадии развития важнее всего» (15), теоретик русского романа почему-то причисляет к традиционалистскому, каноническому этапу в развитии жанра. Хотя именно в «Дон Кихоте» – процитируем вслед за Тамарченко М. Бахтина – воистину «во весь рост» встают «проблемы действительности и возможности человека, свободы и необходимости и проблемы творческой инициативы». Все это, согласно Тамарченко – родовые приметы реалистического романа, но – не романа Сервантеса. К сожалению, почему «Дон Кихот» причислен к жанровой (имея в виду романную традицию) архаике, в книге Н. Д. Тамарченко никак не объясняется. Почему же «добуржуазным» романом назван «Ласарильо», явствует из предлагаемого исследователем самобытного разбора анонимной повести
, не учитывающего тот факт, что вымышленная псевдоисповедь толедского городского глашатая Ласаро, нацеленная не на покаяние, а на самоправдание и даже на самовозвеличивание, стала прообразом одной из двух ведущих романных традиций Нового времени. Но Тамарченко нужно отнести «Ласарильо» к «дореалистической» стадии развития романа, поскольку «реалистическая»
начинается, судя по всему, с Пушкина. Почему с него, а, если и не с «Дон Кихота» и «Ласарильо», то хотя бы не с Дефо? Не с Филдинга? Не со Стерна? Не с Гёте, наконец, что было бы естественнее для ученого, во многом следующего за М. Бахтиным: по следний, как известно, отводил Гёте особую роль в истории романа – роль создателя «реалистического типа романа становления»
?
Проспект не сохранившейся книги Бахтина о Гёте – «Роман воспитания и его значение в истории реализма» (опубликован издателями под заглавием «К исторической типологии романа») – мог бы дать известные основания для выделения в истории романа двух этапов (добуржуазного и буржуазного, по Н. Д. Тамарченко) – до середины XVIII столетия и после (догётевского и послегётевского). Но при всей убедительности многих положений проспекта, в нем немало сомнительного, вскользь сказанного. Так, Бахтин по какой-то причине здесь даже не упоминает «Дон Кихота», регулярно аттестуемого им самим в других трудах как классический образец жанра романа
. Характеризуя плутовской роман, ученый, судя по всему, ориентируется почти исключительно на Лесажа. Поэтому-то «Ласарильо» и «Гусман», сведения о которых, очевидно, почерпнуты из вторых рук
, представлены как образцы «романа странствований», герой которого – «движущаяся в пространстве точка, лишенная существенных характеристик и не находящаяся сама по себе в центре художественного внимания романиста» (это при том, что и Ласаро, и Гусман де Альфараче в их обеих испостасях (повествователей и действующих лиц) интересны и авторам, и читателю прежде всего).
В действительности, испанская пикареска имеет много больше сходства с биографической разновидностью «романа испытания» (по Бахтину), а еще конкретнее, с исповедальной и житийной формами последнего (как они обозначены Бахтиным в этом же «проспекте»). Именно к пикареске (как роману антивоспитания героя), в конечном счете, через «Симплиция Симплициссимуса», восходит и немецкий «роман воспитания».
Но и выделяя роман Гёте как особый этап в истории романа, Бахтин, все же, не противопоставляет романы «реалистический» и «дореалистический», о чем свидетельствует само название его погибшей книги (в «историю реализма» он включал и «готического» реалиста Рабле). А бахтинская идея «большого времени» плохо согласуется с глобальным членением истории европейской культуры на три эпохи – традиционного творчества, риторическую и постриториче скую, – столь популярным в современных трудах по исторической поэтике
.
Принято думать, что «роковая» граница между XVIII и XIX веками, впрямь очень важная для немецкой литературы и немецких литературоведения и философии, граница в пятьдесят лет, совпадающая по времени с творчеством Гёте и Канта («век Гёте»), прочерчена Э.-Р. Курциусом в труде «Европейская литература и латинское
Средневековье» (1948)
. Но ни в этом труде, ни в публикуемом (начиная с англоязычного издания 1953 года) в качестве приложения к нему докладе «Средневековые основы западного мировоззрения», прочитанном в июле 1949 года. в Аспене (Колорадо, США), ни о каких трех историко-культурных эпохах ничего не говорится. Ссылаясь на английского историка Дж. М. Тревельяна, Курциус лишь походя говорит о том, что начало Нового времени, возможно, следует относить к середине XVIII века: тогда, утверждает ученый, «если… принять во внимание, что средневековое мировоззрение и средневековый стиль сформировались лишь к 1050 году, перед нами открывается период длиной в 700 лет, представляющий собой структурное целое» (1. P. 813). Генеральный смысл главного труда Курциуса – не в новой периодизации европейской истории и истории европейской культуры, а, напротив, в демонстрации изначально (с момента встречи античности и христианства) заложенной в фундамент европейской цивилизации цельности, в доказательстве духовного единства европейского мира (что было столь важно для гуманистически ориентированного немца 1940-х годов!), в прочерчивании линии многовековой преемственности между отдельными эпохами, нациями, европейскими культурами, в выделении константных мотивов, образов, сюжетов, аккумулируемых в латиноязычной традиции (но не в ней одной!). По сути дела, Э.-Р. Курциус движется по пути А. Н. Веселовского с его «великим упростителем» – временем, когда в предисловии ко второму изданию «Европейской литературы…» сравнивает свое стремление «охватить два с половиной тысячелетия истории западной литературы» (но эти два с половиной тысячелетия в истории западной риторики, опять-таки, не объявлены им некой «эпохой») с высоты одной-единственной «универсальной точки зрения», с методом аэрофотосъемки, выявляющем главные линии и стирающем детали. Курциус выстраивает свое исследование поверх эпох, в пространстве своего «большого времени», хотя сегодня подобного рода методологический монизм (столь характерный для западного мышления Нового времени, для того же марксизма) не может не быть поставлен под сомнение.
На самом деле идея большой «риторической» эпохи – изобретение Х.-Г. Гадамера, который, сделав свою «выжимку» из Курциуса, писал в «Истине и методе»: «Когда бросаешь взгляд за пределы искусства переживания, где вступают в действие иные масштабы, в западном искусстве открываются новые широкие горизонты, которые от античности до эпохи барокко подчинялись принципиально иным ценностным масштабам, нежели критерий переживаемости…»
Прилагательное «донкихотовский» (-ая, – ое) мы, как правило, образуем от названия романа, «донкихотский» – от имени героя, хотя тот же Л. Е. Пинский, да и другие критики, их используют как синонимы. Впрочем, на строгом различении двух обозначений и мы не настаиваем.
Это понятие обосновано Г. С. Морсоном. См.: Morson G. S. The Boundaries of Genre. Dostoevsky's Diary of a Writer and the Tradition of Literary Utopia. Austin: University of Texas Press, 1981.
См. главу «"Дон Кихот" – I: динамическая поэтика» в кн.: Пискунова С. И. Испанская и португальская литература XII–XIX веков. М.: Высшая школа, 2009.
Durаn М. La ambig?edad en el «Quijote». Xаlapa: La Universidad Veracruzana, 1960.
Следующие за ним (как создателем «Творимой легенды») Евг. Замятин и М. Булгаков, как нам представляется, приблизятся к этой черте, но ее не перейдут. Более того: Булгаков – ближе к концу жизни и к концу своего «закатного» романа – от нее явно отступит!
Поднявшись (в «Восьмой главе») к высшей точке своего самосознания, Онегин, тем не менее, «не сошел с ума» (как и «не сделался поэтом»).
См.: Reed W. L. An Exemplary History of the Novel. The Quixotic versus the Picaresque. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1981.
См. о нем в главе «Русский роман как сюжет исторической поэтики».
См.: Cascardi A. The Bounds of Reason: Cervantes. Dostoevsky. Flaubert. New York: Columbia University Press, 1986.
Эта работа во многом осуществлена В. Е. Багно (см.: Багно В. Е. Указ. соч.).
См.: Grachiуva A. El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y los experimentos novelescos de A. Rйmizov en los aсos 30 del siglo XX // Lecturas cervantinas. 2005. San Petersburgo, 2007.
Структурное сходство «Лолиты» и «Дон Кихота» замечено Г. Дэвенпортом, автором «Предисловия» к американскому изданию «Лекций о "Дон Кихоте"» (1983), далее цитируемых по русскому переводу (М.: Независимая газета, 2002).
См.: Липовецкий М. Паралогии. Трансформации (пост)модернистского дискурса в культуре 1920–2000 годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
«Прочитав эти лекции, мне так захотелось перечитать "Дон Кихота"!» – восклицает писатель в небольшом эссе «Музыка чтения», которое предваряет русское издание набоковских «Лекций по зарубежной литературе» (М.: Независимая газета, 1998), включающее – в качестве приложения – сокращенную версию «Лекций о "Дон Кихоте"» (есть и указанный выше полный русский пере вод).
Русский роман как сюжет исторической поэтики
В ситуации кризиса как истории, так и теории литературы
, историческая поэтика является, на наш взгляд, одним из немногих путей развития литературоведения на почве собственно филологической традиции. На почве искусства слова, не растворенного в «гуманитарном знании» или «дискурсивных практиках». Однако, как отмечает С. Г. Бочаров, в России «история античной и западных европейских, а также восточных литератур оказалась более активным полем… выращивания» «нового теоретического знания» в лице исторической поэтики, «чем история русской литературы»
. Феномен, легко объяснимый тем, что в советском литературоведении с конца 1940-х годов доминировала тенденция представлять русскую литературу и русский классический роман в том числе (не говоря о романе современном, что было оправданнее) как нечто, не имеющее почти ничего общего с западноевропейской романистикой. Когда же сравнения с западными романами и проводились, то в первую очередь с целью доказать, что русский роман – и тут рассуждения Льва Толстого о современном ему западном романе в статье «Несколько слов по поводу книги "Война и мир"» (1868) оказались как нельзя кстати! – едва сложившись (на этом этапе отрицать западные влияния было невозможно), тут же пошел по своему особому пути. Поэтому художественная система русского романа выстраивалась по преимуществу изнутри нее самой
с признанием лишь косвенного влияния на отдельных русских авторов ближайших во времени западноевропейских предшественников и современников
.
Тенденцией противопоставления русской и западноевропейском романной традиции отмечена даже статья Ю. М. Лотмана «Сюжетное пространство русского романа» (1987), в которой ученой задается целью набросать эскиз сюжетной системы русской наррации, ориентируясь на типологию образов героев как основных «сюжетных единиц» романа. Сюжетное пространство русского романа структурируется
Лотманом, апеллирующим на сей раз к авторитету Салтыкова-Щедрина, опять-таки в противопоставлении западного и русского романов как «семейного» и «общественного» (у других исследователей русский роман синтетичен, универсален, эпичен, всемирен, философичен и прочая, и прочая, в отличие от западного – аналитического, камерного, субъективного, натуралистичного и т. д.)
.
Одновременно Лотман выделяет два лежащих у истоков искусства повествования типа сюжетной организации текста: сказочный и мифологический
. «Пространство» русского романа, по мысли Лотмана, организуется по логике мифа, а «сказочный» сюжет западноевропейского романа «состоит в том, что герой занимает некоторое неподобающее (не удовлетворяющее его, плохое, низкое) место и стремится занять лучшее» (97). Однако, якобы, «сказочная» сюжетная схема западноевропейского романа имеет полное соответствие в классическом сюжете романа плутовского, сложившегося как раз в отталкивании от «сказочного» по многим параметрам романа рыцарского. Вместе с тем, история выскочки-пикаро (с разными вариантами развязки) нацелена отнюдь не на сказку, а на пародирование исповедального жанра
, равно как на амбивалентное цитирование христианских образов и таинств: таинства евхаристии, воскрешения Лазаря (исп. Ласаро, уменьшит. Ласарильо – так именуют героя первого образца плутовского повествования – анонимной «Жизни Ласарильо с Тормеса», сохр. изд. 1554), грехопадения (Ласарильо, проникающий, подобно змею, в «хлебный рай» – сундук священника). Вместе с тем, сюжетная схема пикарески и восходящего к ней западноевропейского романа XVII–XIX веков в равной степени сказочна и антисказочна, мифична и антимифична, циклична и линейна, о чем мы скажем немного позже.
Однако западноевропейская романная традиция, помимо пикарески, изначально включала в себя и другую «составляющую» – роман «сервантесовского типа», в котором весьма существенны и тема преображения героя (необходимо включающая в себя момент самопознания), и утопия переделки мира – его возвращения к изначальному блаженному состоянию – к Золотому веку, каковые Лотман выделяет как специфически-русские романные темы.
В том же Дон Кихоте отчетливо просматриваются черты спародированного героя-спасителя
: именно на эту роль претендует герой Сервантеса, подражая героям ренессансных рыцарских романов, постоянно спасающих разного рода дам и принцесс. В свою очередь, в средневековом рыцарском романе архетипический спаситель-богатырь (Тезей, Беовульф, Зигфрид) ассоциируется со Спасителем
Христом: таков, к примеру, Ланселот, которому герой Сервантеса во многом подражает.
К сожалению, Ю. М. Лотман – и он в этом не одинок – практически не учитывал опыт западноевропейской наррации раннего Нового времени, не говоря уже о средневековой.
Кажется, именно этот пробел попытался восполнить Н. Д. Тамарченко, поставивший перед собой задачу построения типологии русского романа с учетом – ни много ни мало – «опыта всего европейского романа от античности до современности»
.
Мысль Тамарченко о «двойственной природе сюжета» романа Нового времени, о двусоставности его структуры, в которой «новые принципы сюжетосложения» соединяются с традиционными сюжетными схемами, заслуживает всяческой поддержки. В зарубежном литературоведении она широко распространена
и подтверждена, в частности, анализом «Дон Кихота», произведенным М. Дураном
. Однако и «Дон Кихота», и плутовской роман, который для Тамарченко «на "дореалистической" стадии развития важнее всего» (15), теоретик русского романа почему-то причисляет к традиционалистскому, каноническому этапу в развитии жанра. Хотя именно в «Дон Кихоте» – процитируем вслед за Тамарченко М. Бахтина – воистину «во весь рост» встают «проблемы действительности и возможности человека, свободы и необходимости и проблемы творческой инициативы». Все это, согласно Тамарченко – родовые приметы реалистического романа, но – не романа Сервантеса. К сожалению, почему «Дон Кихот» причислен к жанровой (имея в виду романную традицию) архаике, в книге Н. Д. Тамарченко никак не объясняется. Почему же «добуржуазным» романом назван «Ласарильо», явствует из предлагаемого исследователем самобытного разбора анонимной повести
, не учитывающего тот факт, что вымышленная псевдоисповедь толедского городского глашатая Ласаро, нацеленная не на покаяние, а на самоправдание и даже на самовозвеличивание, стала прообразом одной из двух ведущих романных традиций Нового времени. Но Тамарченко нужно отнести «Ласарильо» к «дореалистической» стадии развития романа, поскольку «реалистическая»
начинается, судя по всему, с Пушкина. Почему с него, а, если и не с «Дон Кихота» и «Ласарильо», то хотя бы не с Дефо? Не с Филдинга? Не со Стерна? Не с Гёте, наконец, что было бы естественнее для ученого, во многом следующего за М. Бахтиным: по следний, как известно, отводил Гёте особую роль в истории романа – роль создателя «реалистического типа романа становления»
?
Проспект не сохранившейся книги Бахтина о Гёте – «Роман воспитания и его значение в истории реализма» (опубликован издателями под заглавием «К исторической типологии романа») – мог бы дать известные основания для выделения в истории романа двух этапов (добуржуазного и буржуазного, по Н. Д. Тамарченко) – до середины XVIII столетия и после (догётевского и послегётевского). Но при всей убедительности многих положений проспекта, в нем немало сомнительного, вскользь сказанного. Так, Бахтин по какой-то причине здесь даже не упоминает «Дон Кихота», регулярно аттестуемого им самим в других трудах как классический образец жанра романа
. Характеризуя плутовской роман, ученый, судя по всему, ориентируется почти исключительно на Лесажа. Поэтому-то «Ласарильо» и «Гусман», сведения о которых, очевидно, почерпнуты из вторых рук
, представлены как образцы «романа странствований», герой которого – «движущаяся в пространстве точка, лишенная существенных характеристик и не находящаяся сама по себе в центре художественного внимания романиста» (это при том, что и Ласаро, и Гусман де Альфараче в их обеих испостасях (повествователей и действующих лиц) интересны и авторам, и читателю прежде всего).
В действительности, испанская пикареска имеет много больше сходства с биографической разновидностью «романа испытания» (по Бахтину), а еще конкретнее, с исповедальной и житийной формами последнего (как они обозначены Бахтиным в этом же «проспекте»). Именно к пикареске (как роману антивоспитания героя), в конечном счете, через «Симплиция Симплициссимуса», восходит и немецкий «роман воспитания».
Но и выделяя роман Гёте как особый этап в истории романа, Бахтин, все же, не противопоставляет романы «реалистический» и «дореалистический», о чем свидетельствует само название его погибшей книги (в «историю реализма» он включал и «готического» реалиста Рабле). А бахтинская идея «большого времени» плохо согласуется с глобальным членением истории европейской культуры на три эпохи – традиционного творчества, риторическую и постриториче скую, – столь популярным в современных трудах по исторической поэтике
.
Принято думать, что «роковая» граница между XVIII и XIX веками, впрямь очень важная для немецкой литературы и немецких литературоведения и философии, граница в пятьдесят лет, совпадающая по времени с творчеством Гёте и Канта («век Гёте»), прочерчена Э.-Р. Курциусом в труде «Европейская литература и латинское
Средневековье» (1948)
. Но ни в этом труде, ни в публикуемом (начиная с англоязычного издания 1953 года) в качестве приложения к нему докладе «Средневековые основы западного мировоззрения», прочитанном в июле 1949 года. в Аспене (Колорадо, США), ни о каких трех историко-культурных эпохах ничего не говорится. Ссылаясь на английского историка Дж. М. Тревельяна, Курциус лишь походя говорит о том, что начало Нового времени, возможно, следует относить к середине XVIII века: тогда, утверждает ученый, «если… принять во внимание, что средневековое мировоззрение и средневековый стиль сформировались лишь к 1050 году, перед нами открывается период длиной в 700 лет, представляющий собой структурное целое» (1. P. 813). Генеральный смысл главного труда Курциуса – не в новой периодизации европейской истории и истории европейской культуры, а, напротив, в демонстрации изначально (с момента встречи античности и христианства) заложенной в фундамент европейской цивилизации цельности, в доказательстве духовного единства европейского мира (что было столь важно для гуманистически ориентированного немца 1940-х годов!), в прочерчивании линии многовековой преемственности между отдельными эпохами, нациями, европейскими культурами, в выделении константных мотивов, образов, сюжетов, аккумулируемых в латиноязычной традиции (но не в ней одной!). По сути дела, Э.-Р. Курциус движется по пути А. Н. Веселовского с его «великим упростителем» – временем, когда в предисловии ко второму изданию «Европейской литературы…» сравнивает свое стремление «охватить два с половиной тысячелетия истории западной литературы» (но эти два с половиной тысячелетия в истории западной риторики, опять-таки, не объявлены им некой «эпохой») с высоты одной-единственной «универсальной точки зрения», с методом аэрофотосъемки, выявляющем главные линии и стирающем детали. Курциус выстраивает свое исследование поверх эпох, в пространстве своего «большого времени», хотя сегодня подобного рода методологический монизм (столь характерный для западного мышления Нового времени, для того же марксизма) не может не быть поставлен под сомнение.
На самом деле идея большой «риторической» эпохи – изобретение Х.-Г. Гадамера, который, сделав свою «выжимку» из Курциуса, писал в «Истине и методе»: «Когда бросаешь взгляд за пределы искусства переживания, где вступают в действие иные масштабы, в западном искусстве открываются новые широкие горизонты, которые от античности до эпохи барокко подчинялись принципиально иным ценностным масштабам, нежели критерий переживаемости…»