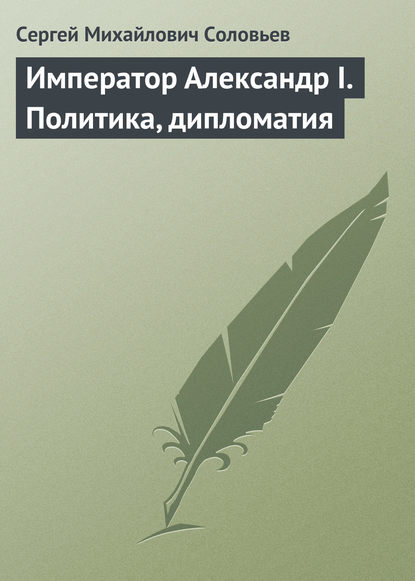По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Император Александр I. Политика, дипломатия
Год написания книги
1877
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Относительно посольства герцога Брауншвейгского Лафорест писал Талейрану: «Герцог имеет двойную задачу – объяснить императору Александру основания системы, принимаемой Пруссией, и склонить его сделать первый шаг к сближению с Францией. Я нахожу его отлично расположенным в этом смысле и отлично инструированным. Если он будет говорить в Петербурге так, как говорил мне здесь, то он может освободить императора Александра и самых здравомыслящих людей его двора от безумных мечт и честолюбивых планов». Лафорест боялся одного – что герцог по чрезвычайной учтивости своей не станет противоречить мнениям других. О нем говорили, что он кажется всегда разделяющим мнение того, кто с ним говорит. Но Лафорест надеялся, что герцог услышит не много возражений, вследствие того что финансы России находятся в печальном положении. Император Александр взял на свою долю очень мало из английских субсидий, данных на коалицию, что страшно обременило русское государственное казначейство. Неаполитанский король пристал к коалиции; для его защиты отправлено было русское войско, которое стоило чрезвычайно дорого, а возвратилось ничего не сделавши вследствие Аустерлица.
Герцог Брауншвейгский отправился в Петербург в полной надежде, что Пруссия, союзница Франции, может остаться и в дружественных отношениях к России, которую помирит с Францией, и все будут довольны и счастливы, кроме Австрии, разумеется, что было необходимо для довольства и счастия Пруссии, 29-го января (н. ст.) 1806 года отправился герцог в Петербург, а от 8 февраля пришла из Парижа громовая депеша Гаугвица: «Наполеон, раздраженный дополнительной запиской к союзному договору, не хочет его знать». Гаугвиц упал с седьмого неба. Мы видели, с какими розовыми мечтами поехал он в Париж: убаюканный ласками Наполеона в Вене, он надеялся встретить те же ласки и в Париже и привезти оттуда своему королю титул императора Северной Германии – и вдруг слышит угрозу, что если не подпишет союзного договора, какой угодно Наполеону, то Франция заключит союз с Австрией. Но этого мало: Гаугвиц видел, что во Франции все готово к войне с Пруссией, тогда как в последней войска были уже на мирном положении, союзные армии отпущены; Гаугвиц видел, что с Пруссией церемониться не будут по ее одиночеству; России не боятся. а в Англии умер Питт, и преемник его Фоке – за мир с Францией. Ввиду этих обстоятельств Гаугвиц поступил точно так же, как после Аустерлица: чтобы не навлечь на Пруссию немедленной, внезапной войны, дать ей время приготовиться, он заключил новый союзный договор, по которому Пруссия обязалась в одно и то же время уступить известные свои владения Наполеону и взять безусловно в свою полную собственность Ганновер именно в пятый день после обмена ратификацией договора. Король созвал конференцию: все, кроме Гарденберга, были согласны, что при настоящих обстоятельствах, при неготовности к войне необходимо ратифицировать договор; король ратифицировал и написал императору Александру (28 февраля н. ст.): «Герцог Брауншвейгский расскажет вам, как меня обманули и какие были следствия обмана. Все было бы поставлено на карту, если бы я не прибег к крайней мере. Пусть зложелательство или заблуждение клевещут на меня – я признаю только двоих судей: совесть и вас. Первый судья мне говорит, что я должен рассчитывать на второго, и этого убеждения для меня достаточно».
Горькие плоды союза оказались немедленно: по настоянию Наполеона Фридрих-Вильгельм должен был удалить министра Гарденберга, которого император французов считал враждебным себе. Завладение Ганновером повело к войне Пруссии с Англией около ста прусских кораблей было захвачено в английских гаванях, прусские гавани объявлены были в блокаде. Фоке сказал прусскому посланнику в Лондоне ужасные слова: «Пруссия становится соучастницей бонапартовских притеснений. Нельзя смотреть на такие обмены иначе как на воровство. Другое дело завоевать, и другое дело овладеть без сопротивления».
С нетерпением ждали, что скажет один из судей. Герцог Брауншвейгский приехал в Петербург 7(19) февраля и был принят императором чрезвычайно ласково. Еще не было известно, как был принят Гаугвиц в Париже; еще герцог Брауншвейгский передавал убеждение прусского правительства, что Наполеон ратифицирует договор с прусскими ограничениями, а император Александр уже указывал герцогу, что на эту ратификацию нельзя полагаться; указывал, что французские войска еще не очистили Германии и не видно, чтобы скоро это сделали. «России, – говорил Александр, – не нужно искать мира; если мириться, так надобно, чтоб мир был честный и приличный, а я ни из чего не вижу, чтоб он мог быть таким; у меня нет даже и данных, по которым я мог бы заключить, что Франция хочет со мной сблизиться». При разборе статей франко-прусского договора Александр одобрил статью о гарантии целости турецких владений, но сказал: «Я сам ее гарантирую; система Екатерины II относительно Востока совершенно оставлена; я друг Порты и хочу ее поддерживать, но я предвижу, что этой статьей Франция хочет поссорить меня с Пруссией». Относительно овладения Ганновером император спросил герцога: «Если Пруссия и Франция увеличивают свои владения, то не находите ли вы, что и России следует также увеличиться?» Когда пришло известие о новом франко-прусском союзном договоре, когда пришло письмо короля с обращением к двоим судьям, один из этих судей не оказался строгим; герцог Брауншвейгский привез королю письмо от императора.
«Самый тесный союз между Россией и Пруссией, – писал Александр, – кажется мне более чем когда-либо необходимым, и это в то же время – самое дорогое желание моего сердца. В минуту опасности ваше величество должны помнить, что имеете во мне друга, готового лететь к вам на помощь». Но в Берлине хотели помощи особого рода: прежде всего хотели, чтобы Россия вела себя как можно тише, как можно бескорыстнее, не делала бы ничего такого, чтобы снова воспламенило войну. Так, русское войско во время последней войны заняло с согласия австрийцев важное место на Адриатическом море, Бокка-ди-Каттаро; Наполеон требовал, чтобы Австрия заставила Россию очистить эту гавань как принадлежавшую к Далмации, уступленной ему по Пресбургскому миру, грозя в противном случае войной; и Пруссия подкрепляет требования Австрии в Петербурге об очищении Бокка-ди-Каттаро. Потом Пруссия требовала, чтобы Россия помирила ее с Англией; из Петербурга отвечают, что это дело возможно, если Пруссия объявит, что взяла Ганновер на время; но Пруссия никак не хочет этого объявить, представляя, что Ганновер для нее необходим, что она не хочет уступить его английскому королю. Как легко было России предлагать английскому правительству уступку Ганновера Пруссии навеки, можно было видеть из донесения Воронцова императору Александру о своем разговоре с королем Георгом III-м, который приписывал неудачу австро-русской коалиции лживому, двоедушному и неполитичному поведению Пруссии и произнес пророческие слова о последствиях такой политики: «Это двоедушие Пруссии будет наказано, ибо, потерявши всякое уважение, она потеряла и независимость свою и кончит тем, что будет опозорена этим самым Бонапартом: он будет обходиться с ней, как с Баварией, Вюртембергом, Баденом и Голландией».
Во время этих сношений с Пруссией в России произошла важная перемена: Чарторыйский просил уволить его от заведования иностранными делами и получил увольнение. В письмах к императору он жаловался, что Александр хочет все делать сам: жаловался, что император переменил политику, которая должна быть энергическая, решительная. При внимательном изучении русской полигики описываемого времени мы не можем понять этого обвинения, если не предположим, что Чарторыйский не переставал иметь в виду решительности действий России для восстановления Польши; и действительно, он не переставал утверждать, что вся неудача австро-русской коалиции произошла оттого, что Россия не разгромила Пруссии точно так же, как Бонапарт разгромил Австрию. Но мы видели свидетельство Штуттергейма, как сам Чарторыйский помог ему убедить императора не делать этого. Скажут: зачем же верить Штуттергейму, а не верить Чарторыйскому? Но трудно предпочесть свидетельство Чарторыйского, который после своего увольнения писал Гарденбергу: «Со дня моего вступления в министерство я был постоянно одушевлен желанием соединения Пруссии с Россией; в этом союзе, по моему мнению, самое верное средство спасения Европы». Чарторыйский был заменен бароном Будбергом, о котором говорили, что он катеринствует, и этот отзыв показывал, что император, избирая такого человека, намерен вести внешние дела, как требовало достоинство России, как велись они при знаменитой бабке. Прусский посланник в Петербурге Гольц боялся поэтому, что русский двор станет принимать теперь слишком быстрые и смелые решения, но он скоро успокоился и писал, что та же осторожность и умеренность, которые характеризовали министерство князя Чарторыйского, отличают и поведение барона Будберга, взгляды которого в некоторых отношениях еще более выгодны для Пруссии, чем взгляды его предшественника.
Наконец между Россией и Пруссией заключен был договор при посредничестве Алопеуса и Гарденберга. Последний тайком вел сношения с Россией, потому что здесь не хотели иметь дело с Гаугвицем. Прусский король обязался: 1) что союз Пруссии с Францией не будет вредить союзному прусско-русскому трактату 1800 года; 2) Пруссия не соединится с Францией против России ни в том случае, когда между ними начнется война вследствие столкновения в Турции (если Франция нападет на Турцию или если Россия вооружится против Турции за несоблюдение договоров), ни в том случае, когда Россия вступится за Австрию вследствие нарушения Францией Пресбургского мира; 3) Пруссия гарантирует вместе с Россией независимость и целость Оттоманской Порты, владения австрийского дома, как они определены Пресбургским договором. Северной Германии и Дании; 4) гарантирует и владения короля Шведского, если русский император склонит его к умеренности; 5) Пруссия употребит все старания, чтобы французские войска вышли из Германии как можно скорее; 6) употребит все влияние для поддержания коммерческих сношений на Севере Германии, как они были до занятия Ганновера; 7) когда споры со Швецией кончатся к удовольствию Пруссии, то последняя займется необходимыми средствами, чтобы выставить свою армию в страшном виде. Эти обязательства или – по крайней мере форма их – не понравилась Будбергу; он сделал замечание Алопеусу, зачем он допустил такие неопределенные выражения, ибо на Пруссию полагаться нельзя. Русские обязательства заключались в следующем: 1) употреблять постоянно большую часть своих сил на защиту Европы и все свои силы на поддержание независимости и целости государства Прусского; 2) продолжать систему бескорыстия относительно всех государств Европы; 3) сохранять в глубокой тайне обязательства, принятые прусским королем. Император Александр подписал свои обязательства 12-го июля, и Гольц писал Гарденбергу: «Поздравляю короля с принятием решения, которое среди всех противоречий и опасностей настоящего положения дел, скрепляя его отношения с лучшим из союзников и друзей, доставляет ему наперед роль, способную поддержать достоинство, славу и безопасность его короны. Шаткость, с какой граф Гаугвиц держит прусские интересы, не может долго продержаться; мы уже потеряли доверие наших союзников, пора его восстановить; мы не можем рассчитывать на Францию, она не может быть другом никому, но Россия не требует, чтоб мы разрывали с нею, и в случае неизбежной войны мы будем иметь по крайней мере друга, который нам поможет от всего сердца и души».
Война, которой так не хотели, которой так боялись в Пруссии, произошла из мирных переговоров, которых так желали там. Мы упоминали о смерти Питта; преемник его Фоке уже из одной последовательности своей системе должен был начать мирные переговоры с Францией, будучи изначала поборником мира. Наполеон как на войне, так и в мирных переговорах следовал одному правилу – делить противников, бить их поодиночке на войне и заключать с ними отдельные миры. Понятно, что благоразумие должно было внушить противникам завоевателя правило не разлучаться ни на войне, ни в мирных переговорах, и Фоке объявил, что не станет вести переговоров отдельно от России. Но прежде чем начались серьезные переговоры, Наполеон спешил распорядиться в Германии, Италии, Голландии, чтобы закрепить эти распоряжения в мирном договоре. Бавария и Вюртемберг сделаны королевствами; Баден – великим герцогством; баварский король Макс-Иосиф был пожалован Тиролем, Аншпахом и Аугсбургом и, как уже было упомянуто, выдал дочь свою за пасынка Наполеона Евгения Богарне. Из взятого у Пруссии Клеве и у Баварии Берга сделано великое герцогство для Мюрата, мужа сестры Наполеона Каролины. Батавская республика была приневолена просить себе государя из фамилии императора французов, и этим государем сделан брат Наполеона Людовик с титулом короля Голландского.
Мы видели, что Неаполь пристал к коалиции; вследствие этого на другой день по заключении Пресбургского мира издан был императором французов декрет: «Династия Бурбонов в Неаполе перестала царствовать». Отставленная таким образом династия переселилась в Сицилию, и королем Неаполитанским был назначен брат Наполеона Иосиф. Южная Германия была уже давно в действительной зависимости от Франции, но после Пресбургского мира и прусского союза Наполеон увидел возможность устроить и формальную зависимость ее. Бавария, Вюртемберг, Баден, Дармштадт, Клеве-Берг, Нассау образовали Рейнский союз, протектором которого был провозглашен император французов; по требованию протектора союз был обязан выставлять 63.000 войска. Священная Римско-Германская империя рушилась; по требованию Наполеона император Франц сложил с себя титул императора Германского и из Франца II-го стал Францем I-м, императором Австрийским. Что права протектора не ограничивались правом брать 63.000 войска, что протекторство тяжело чувствовалось внутри Рейнского союза, видно из следующего происшествия: появилась книжка под заглавием «Германия в своем глубочайшем унижении», – книжка, направленная против французского ига. Нюренбергский книгопродавец Пальм был обвинен в распространении этой книжки и приговорен к смертной казни.
Австрия молчала: ей было не до того. Мы упоминали, что Наполеон, основываясь на Пресбургском договоре, требовал Бокка-ди-Каттаро себе и настаивал, чтобы Австрия каким бы то ни было средством взяла его у России и передала Франции. Грозила война или с Францией, или с Россией. «Конечно, было бы несчастием для государства, – писал эрцгерцог Карл, – если бы пришлось воевать с тем или другим из обоих колоссов. Многочисленные войска обоих стоят на наших границах; первые неприятельские действия внесут войну в сердце австрийских владений, вследствие чего часть наследственных земель будет опустошена и завоевана, прежде чем мы будем в состоянии собрать в Венгрии армию, да и та будет во всем нуждаться. Впрочем, если уже выбирать из двух зол, то война с Францией представляет бесконечно опаснейшие результаты, чем война с Россией. Новая война с Францией будет смертным приговором для Австрийской монархии, тогда как в случае войны с Россией Галиция была бы немедленно опустошена и помощь Наполеона была бы куплена обременением уже истощенных провинций, да и мир был бы заключен не иначе как под диктатурой Франции. Но русских можно побить, и Австрийская империя не погибнет безвозвратно: потому Россия менее опасна, чем Франция».
В министерстве произошла перемена: вместо Кобенцля заступил Стадион. Новый министр внушал более уважения, доверяя своей серьезностью, но относительно политических взглядов не разнился от своего предместника: то же убеждение в необходимости русского союза, то же убеждение, что союз с Францией будет союзом только по имени, а на самом деле будет подданством. Весть о мирных переговорах между Россией и Англией с Францией произвела в Вене большую радость, ибо посредством них могло уладиться грозившее такой опасностью дело о Каттаро; мир, хотя был бы перемирием, мог дать передышку, возможность собраться с силами для будущего; наконец, Россия при сближении с Францией могла выговорить некоторые выгодные условия для Австрии.
Для мирных переговоров со стороны России назначен был статский советник Убри, знавший людей и отношения их во Франции. Более значительного человека назначить не могли, ибо это унизило бы достоинство России: переговоры должны были вестись в Париже без всякого предложения со стороны Франции; да и Убри ехал в Париж вовсе не как уполномоченный для ведения мирных переговоров: он должен был сначала отправиться в Вену с поручением к русскому послу там, графу Разумовскому, и уже из Вены ехать в Париж под предлогом переговоров с французским правительством о русских пленных и доставлении им денежной помощи. Из инструкции, данной Убри, мы видим, что в Петербурге в описываемое время главное внимание было обращено на отношения Франции к Турции вследствие приближения французских владений к владениям Порты по Пресбургскому миру и после занятия неаполитанских владений французами. Для России важно было, с одной стороны, как-нибудь воспрепятствовать этому приближению или чрез восстановление неаполитанского короля, или чрез очищение французами Далмации, или чрез образование независимых владений между Италией и Турцией; с другой стороны, важно было удержать за собой какой-нибудь пункт между Италией и Турцией. Поэтому Убри не должен был принимать никаких условий, которые препятствовали бы России содержать гарнизон в Корфу либо давали Франции право ослаблять обязательства, принятые Портой в отношении к России. Убри мог согласиться на признание императорского титула для Наполеона, если бы Франция купила это признание уступкой Сицилии королю Неаполитанскому, очищением всей или части Далмации и согласием на образование отдельных владений между Турцией и Италией. Все прочие распоряжения Бонапарта Убри мог признать только в том случае, если бы Наполеон согласился на восстановление короля Неаполитанского и образование самостоятельного владения для короля Сардинского.
Мы видели, что Россия не соглашалась хлопотать в Англии за Пруссию, чтобы последней был уступлен Ганновер, и в обязательствах между Россией и Пруссией об этом не было упомянуто. Тем более теперь, чтобы не порозниться с Англией при ведении мирных переговоров, Убри запрещено было подписывать условия, утверждавшие какой-нибудь земельный обмен между Францией и Пруссией во вред курфюрсту Ганноверскому и стеснения торговли Северной Германии, особенно же Дании и Швеции. Убри должен был вести переговоры вместе с английским уполномоченным; отдельный мир он мог заключить только в случае, если бы договор заключал в себе чрезвычайно крупные выгоды для России и вместе мог служить к непосредственному соглашению между Россией, Англией и Францией. Убри отправлялся еще при Чарторыйском; мы не знаем, какие внушения были ему сделаны министром, по крайней мере Убри уверял в Вене, что ему велено обращать постоянное внимание на интересы Австрии.
Сильный протест против мира послышался со стороны человека, который давно уже укрепил в себе основное убеждение, что не может быть мира с корсиканцем. «Великий Боже! – писал граф Семен Воронцов Новосильцеву, – возможно ли, чтоб пример монархий Французской, Испанской, Австрийской и Прусской не производил никакого впечатления на императора (Александра)! Первая разрушена, а другие явно разрушаются: достоверность их падения уже предсказана потерей их независимости, и все это случилось вследствие слабости их государей, их нерешительности, робости, детского страха пред опасностями предполагаемыми, которые успели им внушить интриги дураков и изменников, взявших верх над министрами прозорливыми, честными и твердыми. Разумеется, с армией расстроенной, как теперь наша, с этой армией, уничтоженною Павлом, потерявшею дух и опозоренною при Аустерлице, не должно вести войны, но можно, оставаясь у себя, не позорить себя гнусным миром, который обесславит имя русское и погубит империю. Фоке хочет мира во что бы то ни стало, без всякого нравственного принципа. Поклонник счастья корсиканца и Талейрана, он обрадовался желанию мира, выраженному императором Александром, как предлогу заключить мир и со своей стороны, пожертвовавши королем Неаполитанским; он не считает своей обязанностью сдержать обещание Питта. Но что может сделать какая-нибудь дрянь, не боящаяся позора, прожившая 57 лет в презрении у честных людей, тому не должен подражать император Русский! Русский император вошел в обязательство с королем Неаполитанским не заключать мира без того, чтобы Неаполь не был ему возвращен. Вследствие этого обязательства король нарушил свой нейтралитет, следовательно, он падет жертвой своей веры в силу и добросовестность императора. Так пусть император вспомнит возвышенное письмо Петра Великого Шафирову о Кантемире; пусть вспомнит, что этот великий государь скорее соглашался уступить Южную Россию до Курска, чем изменить данному слову; Петр был убежден, что у государей нет другой собственности, кроме чести; что отказаться от этой собственности – значит перестать быть монархом. Надобно объявить корсиканцу, что без возвращения Неаполитанского королевства его законному государю не будет никогда не только мира, но и никакого сношения между Россией и Францией; надобно выгнать всех французов из России и запретить все французские товары. Надобно только быть твердыми и хорошо вооруженными у себя дома, не верить Пруссии, быть в хороших отношениях к Швеции и взять твердый и внушительный тон относительно турок, после чего можно спокойно выжидать благоприятного времени». Можно думать, что мнение Воронцова не могло не произвести впечатления в Петербурге, ибо слова, написанные Новосильцеву, не могли быть тайной для императора, который был очень чувствителен к указаниям на единственную собственность государей.
Впрочем, Воронцов напрасно беспокоился и насчет английского министра: мир был невозможен, ибо у Наполеона и у Англии трудно было посредством переговоров вырвать из рук что-нибудь, раз захваченное. Талейран предложил английскому уполномоченному лорду Ярмуту три уступки: Ганновер, Мальту и мыс Доброй Надежды. Как француз, Талейран не мог обойтись без риторики и выражал свои предложения так, что Ганновер уступается для чести английской короны, Мальта – для чести морской державы, а мыс – для чести торговой. Но англичанин остался холоден к такой красивой фразе; из всех завоеванных колоний удержать только один мыс Доброй Надежды было невыгодно. В Европе отдавали Мальту; но эта самая готовность со стороны Франции уступить Мальту, тогда как прежде никак не хотели этого сделать, показывала, что остров потерял свою цену: Франция так устроилась теперь на берегах Адриатического моря, так Приблизилась к владениям Порты для выгодного себе решения Восточного вопроса, что могла позволить Англии владеть мальтийской скалой. Теперь для Англии предметом первой важности было не перепустить Сицилию в руки французов, и Фоке поставил необходимым условием мира удержание этого острова за королем Фердинандом. Франция со своей стороны требовала Сицилию себе как вознаграждение за уступку Ганновера, а для короля Фердинанда предлагала ганзейские города. В Англии на это никак не соглашались; тогда Талейран сделал новое предложение, которое должно было всего более встревожить Англию, не спускавшую глаз с драгоценного Востока: Талейран предложил в вознаграждение короля Фердинанда за Сицилию – Далмацию, Албанию и Рагузу, тогда как Албания принадлежала Турции; с английской стороны предлагали вместо чужой Албании вознаградить короля Фердинанда французскими владениями на берегах Адриатического моря, приобретенными по Пресбургскому миру, но понятно, что это была только дипломатическая игра.
Лорд Ярмут получал из Англии сильнейшие внушения, чтобы действовал заодно с русским уполномоченным, но Убри трудно было сыскать. Если в Англии понимали, что надобно было и дипломатически действовать сообща, и настояли на совместном ведении переговоров, то во Франции, и уступивши этому требованию, хотели все же поставить на своем, разбить союзников, заключить с одним из них отдельный мир и этим принудить и другого быть уступчивее. План кампании удался: напали на слабейшего, на Убри, объявили ему, что не хотят видеть в нем простого русского агента, хотят видеть уполномоченного, озадачивали, утомляли его спорами, продолжавшимися по 14-ти часов сряду, и бороться должен был Убри против дипломатического Наполеона, против Талейрана, которого сменял генерал Кларке; вдвоем утомляли, застращивали одного; но чем же могли застращивать? Когда лорд Ярмут стал упрекать Убри за его удаление от общих переговоров, укрывательство, тот отвечал: «Я считаю своей обязанностью так поступать, даже заключить отдельный мир, если этим я могу спасти Австрию от грозящей ей опасности».
Зная, какие обещания надавал Убри в Вене, мы должны придавать этому ответу особенное значение, равно как и другим оправдательным словам его из письма в Петербург: «Если бы я разорвал переговоры, то возобновилась бы война, которую Франция повела бы с большей энергией против государств, вовсе не приготовленных; наоборот, подписывая мирный договор, я давал этим государствам время приготовиться к войне».
Убри 8 (20) июля подписал отдельный договор, статьи которого также прямо указывают, что русский уполномоченный имел в виду исполнить обещания, данные в Вене: Россия уступила Франции Бокка-ди-Каттаро, следовательно, Австрия успокаивалась; в три месяца французские войска должны очистить Германию – успокоение окончательное. Что же касается успокоения России, то обе державы взаимно ручались за независимость и целость Оттоманской Порты; французские войска очищали Рагузу; должны были очистить и Черногорию, если ее заняли; русское войско на Ионических островах не могло превышать 4.000 человек. Относительно неаполитанского короля странное условие: если он лишится Сицилии, то Россия и Франция обязывались выпросить для его сына Балеарские острова у короля Испанского, вместо отца получал вознаграждение сын из чужого владения, которое нужно было еще выпросить. О короле Сардинском и Ганновере не упоминалось. Кроме внушений, какие мог получить Убри перед отъездом из Петербурга, в Париже он находился под сильным влиянием других внушений: воспитатель императора Александра Лагарп одобрял условия и для успокоения Убри дал ему оправдательное письмо к императору. Основная мысль письма состояла в том, что заключаемый мир есть перемирие, которым надобно воспользоваться для приготовления к новой борьбе, потому что Наполеон остановиться не может, но Лагарп забывал, что перемирие носило название мира и мирный договор утверждал право на то, что было захвачено вопреки прежним договорам; каждый мир освящал новые захваты, новые порабощения, чему нисколько не мешало то, что кому-нибудь угодно было называть мир перемирием.
Что договор Убри был не в пользу России, доказывалось тем, что Наполеон и его приближенные ставили его выше победы, одержанной на войне, но победа для одной стороны необходимо условливает поражение другой. Наполеон, по обычаю, спешил пользоваться победой, ратифицировал договор через шесть часов после его заключения и немедленно дал знать о нем всюду, куда следовало: пусть русский государь не ратифицирует договор, об этом узнают не скоро, а первое впечатление уже произведено, и прежде всего оно произведено на лорда Ярмута. Генерал Кларке, ведший с ним переговоры, провозглашая отдельный мир с Россией как великую победу, объявил Ярмуту, что после такой победы Наполеон имел бы право увеличить свои требования, но он остался при старых. Фоке на помощь Ярмуту, которого находил слишком уступчивым, отправил еще другого уполномоченного. Шли удивительные, небывалые переговоры: Наполеон торговал областями, вовсе ему не принадлежавшими, уступал, менял, давал в вознаграждение чужие владения – Ганновер, Албанию, Рагузу, ганзейские города, Балеарские острова. Главный спор шел о Сицилии, которой владел бывший неаполитанский король Фердинанд, которую Наполеон не завоевал и никогда после не мог завоевать, но теперь требовал непременно, чтобы укомплектовать владение брата своего Иосифа, то есть чтобы самому владеть всей Италией. Один французский писатель, очень нерасположенный к Наполеону, говорит, что в такой странной торговле по крайней мере было начало умопомешательства. Мы не согласны с почтенным автором уже и потому, что современники начала умопомешательства тут не видали; явление было обыкновенное – сила, не встречая препятствия, развивалась все более и более. История благословляет тех деятелей, которые ставят преграду силе, не допуская ее до насилия.
Странные переговоры, торговля чужим добром не повели ни к чему. Когда Убри привез свой договор в Петербург, то император отдал его на рассмотрение Совета, который единогласно признал невозможность ратифицировать его, и Александр согласился с мнением Совета; а в самом начале сентября умер Фоке, что прекращало попытку к заключению мира Англии с Францией. После Аустерлица непосредственная борьба между Россией и Францией продолжалась на берегах Адриатического моря, в Далмации; вице-адмирал Сенявин, начальствуя флотом и сухопутным отрядом, действовал против французов с помощью славянских жителей страны, особенно черногорцев, Бокка-ди-Каттаро не был сдан ни французам, ни австрийцам; но скоро Сенявин получил приказание отправиться в Архипелаг.
Мы знаем, что с самого начала вступления России в общую жизнь Европы при необходимых столкновениях в интересах двух сильнейших континентальных держав, России и Франции, и при затруднительности непосредственной борьбы между ними по географическому положению Франция действовала против России, против ее интересов дипломатическими средствами в трех ближайших пунктах, била в три самые чувствительные места для России: в Швеции, Польше и Турции. Во время борьбы с Наполеоном Швеция, по убеждениям ее короля, могла быть только в союзе с Россией против Франции; возобновление Польского вопроса могло еще только ожидаться; оставалась Турция, в которой можно было действовать против России; и Наполеон, разумеется, не упустил этого из виду. Он отправил посланником в Константинополь уже известного нам Себастиани, хорошо знакомого с Востоком; и следствия внушений его скоро оказались. Сановники, стоявшие за дружеские отношения между Россией и Портой, были удалены, и места их заняли люди, доступные внушениям французского посланника. Внушения состояли в том, что Порта не должна терпеть, чтобы ее христианские подданные получали какие-нибудь выгоды от России, привыкали к ее покровительству, почему запрещено было грекам, которые плавали под русским флагом, пользоваться привилегиями русских подданных; уничтожен был, таким образом, обычай, ведшийся издавна. Договорами было утверждено, что господари Молдавский и Валахский не могут быть сменены Диваном ранее семи лет, если только не совершат преступления, доказанного по следствию, произведенному сообща Россией и Портой. Вследствие внушений Себастиани султан сменил обоих господарей до срока без всякой причины, без предварительного исследования. По договору 1805 года русским военным кораблям дозволен был свободный проход и перевоз войска через Босфор и Дарданеллы; теперь Порта объявила, что не намерена больше исполнять этого условия.
Такое нарушение договора объяснялось тем, что Себастиани подал Дивану ноту, в которой требовал, чтобы Босфор был заперт для русских военных судов и транспортов; отказ в этом требовании Франция сочтет для себя враждебным действием со стороны Турции и получит право двигать свои войска через турецкие владения для борьбы с русским войском на берегах Днестра. В ноте Себастиани говорилось: «Возобновление или продолжение союза Турции с врагами Франции, именно с англичанами и русскими, будет не только явным нарушением нейтралитета, но участием в войне, которую эти народы ведут с Францией». Оказывалось, что турки вовсе не такие спокойные соседи России, как думали недавно некоторые дипломаты. Нарушением договоров они прямо объявляли войну; оставлять долее Порту под диктатурой французского посланника и дожидаться новых враждебных поступков и дерзостей было бы странно; и русские войска получили приказание занять Дунайские княжества. Но русское войско встретилось с французским не на берегах Днестра, а на берегах Немана.
Наполеон во время переговоров с Англией, торгуя чужими владениями, прежде всего бесцеремонно распорядился Ганновером, который по последнему союзному договору с Пруссией принадлежал этой державе, был занят ее войском. Наполеон возвращал Ганновер прежнему курфюрсту, королю Английскому. Пруссия об этом ничего не знала. Наполеон, не любивший церемониться ни с кем, всего менее считал нужным церемониться с Пруссией, которая своим поведением потеряла у человека силы всякое уважение: можно что-нибудь ей дать за Ганновер или обещать, а если будет иметь неблагоразумие обижаться, спорить, то заставить замолчать оружием; это не будет стоить большого труда, когда будет заключен мир с Россией и Англией. Если же мир заключен не будет, то Ганновер останется за Пруссией; во время же переговоров можно и обманывать; и действительно, предлагая Ганновер английскому королю, Наполеон приказывал уверить прусского короля, что он никогда не отступит от обязательств, заключенных с Пруссией относительно Ганновера.
Относительно Ганновера можно было пока обманывать, но относительно образования Рейнского союза, уничтожения прежнего германского строя, в который входила Пруссия, обманывать было нельзя; употребили приманку: Пруссия может поделить Германию с Францией, устроить такой же союз из остальных северогерманских государств под своим протекторатом. Но переговоры с Англией о Ганновере могли огласиться, и тогда приманка протекторатом над Северной Германией могла бы не подействовать, особенно если бы мир с Россией и Англией не был заключен; в таком случае надобно приготовиться к войне или по крайней мере напугать Пруссию этими приготовлениями, заставить ее проглотить свою обиду, свое негодование; и вот во французской армии – громкие разговоры о предстоящей войне с Пруссией; иначе для чего бы увеличивать число войска и направлять его к прусским границам.
Прусский посланник в Париже Люккезини узнал и донес своему двору, что Наполеон уступает Ганновер английскому королю, что, может быть, потребуют от Пруссии и других земельных уступок, что Наполеон предлагал России прусскую Польшу, что между Наполеоном и Александром существует соглашение восстановить Польшу в пользу вел. кн. Константина Павловича. Насчет русских переговоров могли ходить всевозможные слухи вследствие таинственности, с какой они были ведены, да и с французской стороны были побуждения распускать подобные слухи, чтобы возбудить в Пруссии неудовольствие против России.
Фридрих-Вильгельм решился на борьбу с Францией, и, конечно, историк не станет удивляться этому решению. Желание мира, страх перед борьбой были сильны в душе короля, но по своему характеру и положению он мог предаваться этому желанию и страху только тогда, когда при этом для него существовали известные опоры, когда, с одной стороны, в нейтралитете, в посредствующем положении он думал сохранить почетное положение для Пруссии, а с другой – приобрести выгоды, когда приобретением Ганновера без войны он заставлял молчать приверженцев воинственной или патриотической партии, возобновляя те счастливые времена, когда при его предшественниках ловкой политикой Пруссия даром приобретала области, какие трудно было приобрести и посредством кровопролитных войн. Но теперь человек силы смеется над Пруссией, обходится с ней, как с ничтожным по своей слабости и робости государством, и смеется насмешкой самой злой, отнимая то, за что пожертвовано многим, если не всем. Аншпахским событием рушилась одна опора – нейтралитет, дававший почетное посредствующее положение; но эту опору заменил Ганновер; теперь рушилась и эта самая крепкая опора, и в то же время мнение партии становилось общественным мнением; король безоружным являлся перед обществом, требовавшим перемены политики, ибо старое направление осуждено было своим неуспехом. Как обыкновенно бывает, общество клеймило позором близких к королю людей, приписывая им вину прежнего направления и требуя их смены; королю была подана просьба об удалении Гаугвица и членов кабинета, о замене последнего ответственным и благонамеренным Государственным советом; просьба была подписана принцами королевского дома, известным своей твердостью и смелостью министром Штейном, двумя генералами, Рюхелем и Фулем.
Король взглянул на эту просьбу как на посягательство против своих прав, сделал непосредственно и посредственно строгие внушения подписавшим. Просьба не была исполнена: в ней высказывалось оскорбительное для короля мнение, что дурные советники ввели его в заблуждение и ошибка может быть поправлена только с помощью других советников. Но в характере Фридриха-Вильгельма не было упорства, и он счел необходимым для поддержания своего значения на деле, а не по праву только стать на челе воинственного движения и этим охранить и Гаугвица с товарищами от нарекания: он, король, сначала следовал известному направлению, и люди приближенные исполняли его волю; теперь, убедившись, что прежнее направление более не годится, он переменяет его при помощи тех же старых советников. Действительно, человек, заведовавший иностранными сношениями, Гаугвиц, давно уже в Париже, где Наполеон заставил его подписать второй союзный договор, убедился в необходимости переменить направление, убедился, что на императора французов полагаться нельзя, что от сближения с Францией, кроме опасности и унижения, нечего ожидать более. Мы видели, что Гаугвиц не был предан или продан Франции, а держался одинакового взгляда с королем, и теперь для него, как для короля, и, как видно, прежде чем для короля, рушились опоры его прежнего убеждения; и для него, как для короля, но еще сильнее, чем для короля, явилась необходимость не только уступить восторжествовавшему воинственному направлению, но и стать горячим его приверженцем, и Гаугвиц является сильным противником Франции, проповедником необходимости вооружения.
Но вооружаться против Наполеона значило сближаться с Россией. От 21-го августа (н. ст.) Гольц прислал успокоительное известие, что договор, заключенный Убри в Париже, не ратифицирован в Петербурге. Но вместе с тем со стороны русского министра иностранных дел барона Будберга начали являться внушения, что Россия в непродолжительном времени должна будет потребовать от Пруссии решительного ответа, на чьей же она стороне – на стороне Франции или России. Мы видели, что борьба с Францией принимала для России новый оборот, затрагивая ее непосредственные интересы и отношения. Франция действовала против России в Константинополе; естественно было ожидать, что она станет действовать против нее в Польше, и действовать непосредственно, проведя свои войска через владения Австрии, которая волей или неволей должна будет согласиться на это. Петербургский кабинет указывал здесь берлинскому предлог к вооружению, ибо военные действия должны происходить в соседстве с Пруссией. В Петербурге все еще сохраняли прежнее мнение, что Гаугвиц предан Франции, и потому внушали Гольцу, что его необходимо удалить, если король хочет решительно сблизиться с Россией. Граф Штакельберг, заменивший Алопеуса в Берлине, писал Будбергу от 25-го августа (с. ст.): «Освободить короля от его презренного и коварного окружения, конечно, есть цель самая желательная, но вместе и самая трудная для достижения. Власть этих приближенных есть следствие привычки и ловкости. Первая очень важна относительно государя робкого, мало привычного к труду и которого большой, выпуклый талант, вероятно, затмил бы. Надобно было бы иметь под руками двоих незначительных людей, знающих, с одной стороны, ход дел, а с другой – имеющих легкость в работе, чтоб сейчас же заменить ими Бейме и Ломбарда. Граф Гаугвиц есть не иное что, как креатура их обеих. Первый человек действительно влиятельный и глава всей этой шайки, но его искусно руководит Ломбард, в жену которого Бейме влюблен. Последнего не считают таким продажным, как Ломбарда, который весь состоит из безнравственности и пороков». Такой отзыв понятен: русские министры в Берлине смотрели глазами членов воинственной партии, которая вместе была и русской партией, особенно глазами Гарденберга, заведовавшего тайно сношениями с Россией и теперь уже отъявленного врага Гаугвица.
Задача Гаугвица теперь была чрезвычайно трудная – скрыть от Наполеона военные приготовления Пруссии, до последней минуты усыпляя его дружественными уверениями. В этом смысле был дан наказ Люккезини, с той же целью был отправлен к Наполеону генерал Кнобельсдорф. Во Франции, разумеется, тотчас же узнали о военных приготовлениях в Пруссии. Наполеон не показал никакого раздражения, не сделал Пруссии грозного запроса, зачем она вооружается; он принял Кнобельсдорфа очень ласково, объявил только, что отказ русского императора ратифицировать договор Убри заставляет Францию усилить свои войска в Германии; впрочем, эта мера вовсе не направлена против Северной Германии; все внимание обращено к стороне Италии и Далмации. Вслед за тем между Талейраном и Кнобельсдорфом началась переписка. Талейран указывал на вооружение Пруссии, на необходимость и для Франции также вооружаться; писал, что император Наполеон ни прямо, ни косвенно не подал никакого повода к этой странной ссоре, что война между Францией и Пруссией есть политическое уродство. А между тем Фридрих-Вильгельм читал записку графа Гаугвица, где тот заклинал короля не верить лживым словам Наполеона, вступить в борьбу не ради Пруссии только, но ради всей Европы и начать военные действия, не дожидаясь помощи других держав.
21-го сентября (н. ст.) Фридрих-Вильгельм выехал в Наумбург, чтобы оттуда отправиться к войску; 24-го Наполеон выехал из Парижа в Майнц. 26-го из Наумбурга король отправил к Наполеону длинное письмо, в котором пересчитывал все его захваты, указывал на все свое долготерпение, которому последние действия Наполеона положили конец. Письмо оканчивалось пожеланием, чтобы можно было еще уладить дело на основаниях, которые «сохраняли для Наполеона нетронутой всю его славу, а для других народов сохраняли честь и поканчивали для Европы лихорадочное состояние, производимое страхом и ожиданием, среди которых никто не может рассчитывать на будущее и сообразить свои обязанности». Эти основания, отправленные королем как ультиматум, были: 1) немедленный выход французских войск из Германии; 2) Франция не должна делать ни малейшего препятствия образованию Северо-Германского союза, который должен составиться из всех владений, не обозначенных в фундаментальном акте Рейнского союза; 3) немедленное открытие переговоров с Пруссией для улажения всех споров между ней и Францией; 4) согласие на переговоры с другими государствами. Король назначил 8-е октября сроком для получения ответа на свои требования; 8-го октября французские войска начали наступательное движение на прусские. Прусской армией начальствовал герцог Брауншвейгский, старик 71 года. 10-го октября при Саальфельде пруссаки потеряли сражение, в котором был убит принц Людвиг-Фердинанд; 14-го октября они потерпели страшное двойное поражение при Иене и Ауерштедте, после чего монархия Фридриха II-го развалилась, как карточный домик. Войско распалось на отряды, которые поодиночке доставались французам; сильные крепости сдавались без выстрела, и 27-го октября Наполеон был уже в Берлине.
Мы видели побуждения, которые заставили Фридриха-Вильгельма переменить свою политику, но все же может показаться странным, как он мог так скоро решиться на борьбу с таким страшным врагом, первым полководцем века, как мог так понадеяться на свое войско, на своих полководцев. Но подобные резкие переходы именно и возможны у людей с природою Фридриха-Вильгельма. Из нежелания войны он был способен натянуть свое положение до крайности, но все через меру натянутое разрывается, а этот разрыв, эта потеря всех средств держаться долее в прежнем положении производит стремление выйти как можно скорее из этого положения, выйти во что бы ни стало. При таком состоянии духа обыкновенно обращаются за поддержкою к таким средствам, против которых прежде выставлялись сильные возражения: прежде в пользу мира и нейтралитета выставлялась слабость Пруссии, недостаточность ее военных средств для борьбы с Наполеоном, но когда средства мира исчезли в сознании короля и Гаугвица с товарищами, схватились за последнее средство, которое до сих пор выставляли поборники войны, стали в нем искать нравственной поддержки для себя и других.
И в самом деле – чего же бояться? Австрийцы разбиты Наполеоном, русские разбиты; но прусская армия, армия, созданная Фридрихом Великим, остается непобежденная и служит предметом удивления для иностранцев: в каких лестных выражениях отзывается о ней русский государь! Что прежде выслушивалось с подозрительною улыбкою, принималось за хвастовство, то теперь выслушивается с удовольствием, и верят тому, чему желают верить. С удовольствием выслушивались песни новых немецких бардов, восклицания: «Теперь предстоит борьба за немецкую национальность, нравы и свободу; нога чужеземца никогда еще не топтала почву древних каттов, херусков и саксов!» С удовольствием выслушивались слова: «Если бы при Упьме и Аустерлице были пруссаки, то дела пошли бы иначе. У нас полководцы, которые войну разумеют, которые смолоду служили; а эти французские генералы, портные и сапожники, поднялись в революцию; они побегут перед нашими генералами!» Генерал Рюхель на параде в Потсдаме сказал королю: «Таких генералов, как г. Бонапарт, в армии вашего величества много». Можно было часть этих отзывов отнести к патриотическим преувеличениям, но оставалось то, что армия, то есть ее представители, одушевлены, имеют о себе высокое мнение, подтверждаемое и свидетельством чужих, а опыт не говорил ничего против, возражать было нельзя, да теперь и приятно стало, что возражать было нечего; нужда заставила приняться за средство непочатое, и успокоительно было слышать, что это средство надежное.
Но чем выше было мнение прусского войска, прусских генералов о самих себе, тем слабее было в них желание получить немедленно помощь, вступить в войну вместе с союзниками. Дожидаться прихода союзников значило выказать свою слабость; разделив победу с сильным союзником, надобно было делить с ним и плоды, но мы уже видели, что в Пруссии боялись русского влияния, не сочувствовали русской политике, которая никак не могла помириться с захватом Ганновера: что же ожидать от России, если она получит большое влияние при будущих территориальных распределениях? Притом король сохранял до последней минуты надежду, что Наполеон будет остановлен решительностью Пруссии, вступит в переговоры, сделает уступки: с Наполеоном было легко уговариваться насчет разных приобретений, он это дело понимал; он говорил: «Государство, которое не увеличивается, уменьшается»; а в России этого не понимали, там все какие-то принципы, политическое равновесие. Наконец, аустерлицкий опыт показал, что действовать вместе с союзниками и опасно. Было у всех в свежей памяти, как после Аустерлица приехали в Берлин князь Петр Долгорукий и австриец Штуттергейм и спорили, складывая друг на друга вину поражения; как Штуттергейм дошел до того, что упрекал императора Александра, зачем он оказал такое доверие к начальнику штаба Вейротеру, как будто Вейротер не был дан с австрийской стороны.
Но еще и прежде Аустерлица вожди прусской патриотической партии с неудовольствием слышали о русском союзе, – конечно, в надежде, что одних херусков, каттов и саксов достаточно для сокрушения Наполеона; в сентябре 1804 года приезжал в Вену прусский принц Людвиг, и когда Кобенцль стал ему говорить о необходимости союза между Австрией, Пруссией и Россией для борьбы с Наполеоном, то принц сказал: «Какая нужда в северном государстве? Союза Австрии и Пруссии вполне достаточно». И когда Кобенцль настаивал на необходимости участия России, принц возразил: «Этим только затянется дело». После же Аустерлица могли слышаться сильные возражения против отсрочки войны для соединения с русским войском, а в случае неудачи или продолжительности войны русская помощь была обеспечена обязательством императора Александра. Относительно австрийского союза король совершенно справедливо думал, что Австрия непременно вступит в союз с Пруссией при успехе последней, но не прежде. С Англией сближаться не хотелось по причине Ганновера.
Таким образом, понятно, почему Пруссия поспешила вступить в войну с Наполеоном, не дожидаясь союзников. Война кончилась небывалым разгромом государства, имевшего такое важное значение в политической системе Европы, – государства, имевшего недавние блестящие военные успехи, обязанного своим важным значением победам, военному искусству своего знаменитого короля-полководца. Но военные таланты Фридриха II-го не были унаследованы его преемниками: государство, получившее важное значение вследствие побед и завоеваний, стало отличаться миролюбивою политикой, стремлением сохранять и приобретать не силою оружия, но ловкостью политическою, умением пользоваться обстоятельствами, стало жить на счет прошедшего, жить славою, памятью прежних побед; Пруссия сохранила вид военного государства, войско стояло на первом плане, но стояло как памятник, как драгоценная археологическая редкость, тщательно сохраняемая, не допускавшая ничего нового, никаких изменений. Поддержка почтенного памятника старины стоила дорого; им хвалились, им грозили, но все же это был только памятник, в сущности что-то мертвое, без движения, что-то оторванное от общей жизни, не входившее живым образом в организм народный.
Но естественно бывает поползновение пренебрегать существенным, когда что-либо делается напоказ, когда преобладает форма и дух ослабевает. В образцовом войске вооружение было плохое; было множество ненужных вещей, годных только для парада, и между тем у целого полка ружья никуда не годились. Генералы, офицеры были большей частью старики; из семи полных генералов младшие имели 58 и 59 лет, четверо было семидесятилетних и один – восьмидесятилетний; из генерал-лейтенантов младший имел 52 года, девять – по семидесяти и 11 – по шестидесяти лет. Но вред происходил не от преклонных лет, а оттого, что старики вместо живой, непрерывной опытности отличались дряхлостью, отвычкой от деятельности, давно умерли для настоящего, для движения и жили одною стариною. Военные экзерциции состояли из старых штук, и, умея в совершенстве проделывать эти штуки, они считали себя неподражаемыми мастерами тактики. Армия состояла только частью из природных пруссаков, другую же часть составляли по вербовке иностранцы, искатели приключений, бродяги, склонные к бегам. И такая армия стоила дорого не в одном материальном отношении, не потому только, что на нее тратилось много денег; офицеры, особенно в гарнизонных местах, господствовали неограниченно; генерал был деспот, не обращавший внимания ни на какое состояние, ни на какую образованность, ни на какой возраст, ни на какое личное значение вообще, никто не был изъят от оскорбления с его стороны.
Труп, отлично сохранившийся в безвоздушном пространстве, рассыпался при выносе на свежий воздух. Но разумеется, этого не предвидели, думая, что имеют дело вовсе не с трупом, а с чем-то живым и крепким. Тем сильнее было впечатление, произведенное неожиданным разрушением, тем больший упадок духа последовал, когда вместо ожидаемого торжества увидали небывалое позорное поражение. Губернатор Берлина граф Шуленбург издал прокламацию, в которой говорилось, что главная обязанность гражданина есть сохранение спокойствия, и, когда обнаружилось патриотическое движение, когда стали являться охотники вступить в войско, губернатор с неудовольствием отказывал. Министры, чиновники присягнули победителю. Удар оглушил, но на время только; страшное бедствие возбуждало нравственные силы и вело к благотворному, живоносному движению, к излечению больного организма. Но победитель пользовался своим временем. Успех и несчастье – два мерила нравственных сил души человеческой, и теперь это измерение чрезвычайным успехом оказалось к невыгоде Наполеона; он разнуздался и стал, как дикарь, ругаться над побежденными с забвением всякого приличия. Прусской королеве приписывалось сильное участие в патриотическом, воинственном движении, и Наполеон, победив мужчин, объявил теперь войну женщинам. В бюллетенях королева Луиза выставлялась красотою, погубившей Пруссию, как Елена погубила Трою. В Вюртемберге цензор вычеркнул из газеты, приводившей бюллетень, выходки против королевы Луизы; вюртембергское правительство отставило цензора от должности. Наполеон не ограничивался бюллетенями; принимая прусских сановников, он говорил им: «Ваши жены хотели войны, ну вот, теперь вы видите плоды этого». Повторял, что королева Луиза погубила Пруссию, как Мария-Антуанетта – Францию. Обратившись к турецкому посланнику, сказал: «Вы, османы, правы, что запираете женщин».
Но в то время как Наполеон вел войну против женщин, что делали мужчины? Они вели мирные переговоры с победителем. 30 октября (н. ст.) с французской стороны были предложены следующие основания мира: Пруссия соглашается на приступление Саксонии и всех государств на левом берегу Эльбы к Рейнскому союзу и на все распоряжения, которые император Наполеон сделает относительно этих государств; Пруссия уступит Франции все, чем владеет на левом берегу Эльбы, исключая провинции Магдебургскую и старую Мархию, платит сто миллионов франков военной контрибуции. Фридрих-Вильгельм, который переезжал из одного города в другой, ища безопасности, соглашался на эти основания; но когда французы заняли Познань и проникли до Вислы, когда им сдались Магдебург и Кюстрин, то Наполеон возвысил свои требования, предложил перемирие на тяжелых условиях.
По мнению Штейна и Гарденберга, этих условий принять было нельзя. «Теперь, – писал Штейн Гарденбергу, – мы должны смотреть на себя как на союзников России, на свою страну как на ее страну». «Мы должны, – отвечал Гарденберг, – смотреть на себя как на находящихся под покровительством России, как на простых ее союзников, двигаться исключительно по ее указаниям и отвоевать с нею нашу честь и наше существование или погибнуть подле нее». В Остероде, где находился тогда король, созван был Совет по вопросу, принимать или отвергнуть новые наполеоновские условия перемирия. Гаугвиц с большинством был за принятие условий; Штейн, другой министр, Фосс, генерал Кёкериц и тайный кабинет-советник Бейме – против принятия. Замечают, что оба последние подали свой голос против, зная, что король заранее решил не принимать условий. Когда это королевское решение было объявлено, Гаугвиц стал просить отставки, потому что отказ на требования Наполеона предполагал войну в тесном союзе с Россией, но при явном нерасположении русского двора к нему, Гаугвицу, он не мог оставаться министром иностранных дел. Король, хотя с горестью, должен был согласиться на удаление Гаугвица, считая это необходимым при отношениях своих к русскому императору.
Когда в Петербург достигли слухи о поражениях прусского войска, император Александр написал Фридриху-Вильгельму, возобновляя самое торжественное уверение, что он никогда не изменит известных королю расположении своих. «Будучи вдвойне связан с в. в-ством и узами политического союза, и узами самой нежной дружбы, я не пощажу, – писал Александр, – никаких пожертвований и стараний, чтоб показать всю силу моего подчинения драгоценным обязанностям, налагаемым на меня союзом и дружбою. По характеру чувств моих они могут только удвоиться, если это возможно, вследствие положения, в каком в. в-ство находитесь. Корпус генерала Беннигсена уже в походе; корпус Буксгевдена в числе 60.000 человек будет немедленно готов его поддерживать. Соединимся еще теснее, чем прежде: останемся верны принципам чести и славы и предоставим остальное Провидению, которое не преминет положить конец успехам тиранства, доставив торжество самому справедливому и прекрасному делу».
В разговорах с прусским посланником Юльцем Александр подробнее изложил свои взгляды на события. «Я трепещу, – говорил он, – чтоб Наполеон не сделал вашему государю предложений, которые заставят его вступить в непосредственные переговоры. Я боюсь, что Наполеон сначала будет уступчив и мягок, чтоб тем удобнее впоследствии заставить короля почувствовать всю тяжесть своей опасной дружбы. Он, конечно, не ограничится тем, что возьмет у короля несколько провинций; он постарается впутать его в свои интересы, заставит его гарантировать независимость Порты и таким образом приготовит все предлоги к будущей ссоре с Россиею, и король, желающий единственно спокойствия, будет по примеру Баварии вовлечен в войны, которые заставят сердце его обливаться кровью и вконец истощат средства его государства. Нет, я не вижу возможности мира честного и удовлетворительного, и если так, то должно продолжать войну, которая при деятельной помощи России представляет возможность благоприятного исхода. Мои интересы тождественны с интересами Пруссии; моя дружба с королем, равно как моя политика и безопасность моей империи, настойчиво требуют, чтоб я удержал Пруссию от падения. Устойчивость короля и моя помощь заставят Австрию высказаться в пользу Пруссии; накануне открытия войны между мною и Портою Австрии остается только это, если она не хочет быть порабощена Францией, а пример Австрии увлечет все государства, которые еще отказываются принять прямое участие в войне. На месте короля я бы вот что сделал: я бы стал избегать битвы, сосредоточил бы свое войско за Одером, удерживал бы эту позицию до последней крайности и в случае новых неудач отступил бы дальше для соединения с русскими. Бонапарт начал бы бояться за себя и не решился бы идти дальше, он уступил бы устойчивости то, чего не уступил бы силе оружия. Но я должен вам признаться, что если король заключит мир, то я буду считать все потерянным и интересы моего собственного государства заставят меня переменить систему и взгляды. Если король заключит мир, то ничто не разубедит меня в том, что внутри его государства есть враги общего дела, благоприятели Франции, которые, быть может, охотно довели бы дело до разрыва с нею, будучи заранее уверены, что борьба не будет выдержана, и Пруссия посредством мира будет поставлена в полную зависимость от Франции».
Последние слова прямо относились к Гаугвицу, которого теперь упрекали в том, что он был виновником поспешного разрыва с Францией. Король в следующих выражениях уведомил императора об отставке Гаугвица: «Министр, занимающий первое место в моем кабинете, не внушал в. в-ству доверия в той степени, в какой я питаю к нему вследствие его талантов, долгой службы и просвещенного патриотизма. В. в-ство знаете, как мне было это тяжело, ибо я был уверен, что если бы вы знали его покороче, то сочли бы его достойным своей высокой благосклонности, которой он так всегда сильно желал. Однако опасение, что его заведование иностранными делами может хоть сколько-нибудь нарушить доверие, которое теперь более чем когда-либо должно служить основанием наших отношений, заставило меня принять его просьбу об отставке. Признаюсь, я сделал это с сожалением, но в убеждении, что должен был принести жертву этим самым отношениям, – жертву, которая бы снова упрочила всю правду и силу моих несокрушимых чувств». Касательно борьбы, на которую решился король, он писал Александру:
«Примите, государь, торжественное обещание, что я положу оружие против отъявленного врага европейской независимости только тогда, когда ваши интересы, с этих пор неразрывно связанные с моими, заставят вас самих этого желать. Таково мое твердое решение».
В другой раз императоры Александр должен был исполнять свои союзнические обязанности при самых невыгодных условиях, должен был не соединять свои силы со свежими, бодрыми силами союзника, но спешить на помощь к союзнику пораженному, потерявшему материальные и нравственные средства, брать, таким образом, на одно свое войско удары победоносного врага. Как нарочно, Пруссия в 1806 году сделала то же самое, что Австрия в 1805-м: вдруг, не дождавшись русской помощи, выдвинула свое войско под удары Наполеона, дала ему разбить себя в одиночку, и теперь должна была бороться с ним Россия, также в одиночку, что именно и было ему нужно; так что оба раза коалиции в сущности не было, и это объясняет неудачу обеих войн. В приведенном разговоре с Гольцем Александр прямо объяснил побуждения, заставлявшие его спешить на помощь Пруссии и уговаривать ее короля не мириться с Наполеоном: Пруссию необходимо было поднять и привязать к себе, иначе она непременно становилась в руках Наполеона орудием против России относительно самых важных русских интересов, относительно Восточного и Польского вопросов. Остаться равнодушным к судьбе Пруссии значило то же самое, что во время войны дать неприятелю овладеть выгодною местностью или крепостью и обратить ее выгоды против нас, все равно что позволить наш собственный авангард обратить против нашего же войска.
Наполеон не думал, чтобы Александр после Аустерлица решился поддерживать Пруссию в обстоятельствах еще менее выгодных, чем в прошлом году перед Аустерлицем, и потому сделал ошибку, предложивши Пруссии слишком тяжелые условия, поднявши этим патриотическую партию, которая представляла, что отчаиваться нечего, что в народе сильное одушевление, что при помощи России можно надеяться на успех; и король оперся на этих представлениях. Наполеон увидел свою ошибку. В порыве раздражения он высказал угрозу: «Если русские будут побиты, то не будет больше короля Прусского». «Если»! А если нет или с ними будет не война, а резня, как уже был опыт? Кампания была кончена необыкновенно блестящим образом, войско ждало славного мира, отдыха, а тут новая война с неприятелем, отличающимся упорством, война в неблагоприятной местности, в самое неблагоприятное время года; притом Наполеону не нравилось долгое отсутствие из Франции, могшее дать большую свободу внутренним врагам. Наполеон стал толковать о своей склонности к миру, но мир должен быть общий, твердый, в одно время с Россией и Англией. От этого зависит судьба Пруссии. Фридрих-Вильгельм поколебался от страха и надежды и отправил в Петербург предложение начать мирные переговоры: есть новая важная выгода. Наполеон хочет договариваться в одно время с Россией, Англией и Пруссией, и мирные переговоры не остановят военных действий. Император Александр не отверг предложения, требуя только подробностей насчет оснований мира, а между тем военные действия уже начались. Мы видели, что двинуты были в Пруссию два корпуса под начальством Беннигсена и Буксгевдена, но для единства действия нужен был главнокомандующий, под начальство которого поступил бы и остаток прусского войска. Александр дал знать королю, что назначает главнокомандующим фельдмаршала графа Каменского. «Во всех отношениях, – писал император, – он способен к должности, которую я на него возложил: с обширными военными познаниями он соединяет большую опытность, пользуется доверием войска, народа и моим».
Каменский был старый генерал, приобретший известность в екатерининское время; при Павле он был сделан графом и фельдмаршалом не за военные подвиги, а за то, что был в опале при Екатерине за невыносимый характер и жестокое обращение с подчиненными, но и при Павле он был скоро уволен от службы, после чего десять лет жил в деревне. Слава Каменского выросла от удаления, от опалы, от отсутствия людей, выдающихся военными способностями, от затруднительного положения, в каком находилась Россия, и Каменский приобрел доверие, о котором говорил император; русская фамилия также способствовала этому доверию у войска и народа. Александр после говорил, что назначил Каменского против своего убеждения, уступая общественному мнению, 69-летний больной старик, давно отвыкший от дела, принял на себя страшную обязанность бороться с Наполеоном. Но мы знаем, что все лучшие генералы считали лучшим средством в борьбе с Наполеоном избегание решительных битв, отступление, затягивание неприятеля; поэтому неудивительно, что, прибывши к войску в Пултуск, найдя его в неудовлетворительном положении и слыша о наступлении Наполеона, Каменский отдал приказание отступать к границам и, зная, что от него вовсе не этого ожидали в России, послал к государю просьбу об увольнении. Беннигсен не исполнил приказания Каменского, встретил и отбил французов у Пултуска (14 декабря) с большим для них уроном. Сражение под Пултуском доставило ему главное начальство над войском.
Начало 1807 года ознаменовалось страшною резнёю: более 50.000 мертвых и раненых покрыли снежные поля под Прейсиш-Эйлау 26 и 27 января; битва была нерешительная. Наполеон, по собственным его словам, потому только признал себя победителем, что русские после битвы первые тронулись от Эйлау к Кенигсбергу. Но впечатление битвы, где Наполеон не разбил неприятеля и где потерял почти половину войска и более десятка орлов, было страшное. Непобеда значила поражение: так Наполеон приучил Францию и Европу смотреть на свои войны. Французское войско упало духом, к чему оно так склонно при неудаче; в Париже ужас, бумаги на бирже упали; Наполеон послал приказание своим сановникам давать балы, чтобы рассеять грустное настроение общества. Действительно, положение Наполеона было крайне неприятное; новая кампания против нового врага только что начиналась, и начиналась неуспешно; одно враждебное государство было побеждено, почти все занято, а на границе новый неприятель, который дерется отчаянно; битва при Эйлау вовсе не похожа на Аустерлицкую. Но нельзя ли следствия ее сделать похожими на следствия Аустерлица? Русские не уйдут, не прекратят войны; но если Пруссия, которая теперь в гораздо худшем положении, чем была Австрия после Аустерлица, согласится на мир?
Фридрих-Вильгельм жил тогда в Мемеле, чтобы быть на всякий случай как можно ближе к России; в Мемель явился к нему французский генерал Бертран с мирными предложениями от Наполеона: «Жалко стало императору французов видеть, как Россия затрудняет заключение мира и Пруссия продолжает страдать от войны; императору хотелось узнать поближе Польшу, и теперь он убедился, что эта страна не должна иметь независимого существования; император поставил себе в славу возвратить королю его владения и его права; ему желательно одному приобресть за это благодарность, без чьего бы то ни было вмешательства. С этой точки зрения легко было бы согласиться на условия, которые дали бы королю возможность снова приобресть силы, необходимые для получения прежнего места среди государей европейских. Вследствие всего этого император ожидает, что король пришлет к нему доверенное лицо для заключения мира, посредством которого он может очень скоро возвратиться в свои замки. Император Наполеон не требует от короля никакого пожертвования относительно союзников и друзей, он дает ему право улаживаться с ними, как он сочтет для себя выгодным, а император сам по себе будет иметь дело с Россией и Англией, и, как скоро между Францией и Пруссией мир будет заключен, французские войска немедленно очистят прусские владения».
Смысл был ясен: мир Франции с Пруссией прекратит войну, французские войска оставят Пруссию; Россия поневоле, не имея, с кем сражаться, уведет свои войска; Наполеон с торжеством возвратится во Францию, как после Аустерлица: он одним ударом сокрушил монархию Фридриха II, гордую своим войском, перед ним русские отступили после резни при Эйлау; Пруссия, счастливая тем, что могла получить мир не столь тяжкий, не скоро опомнится от поражения, не скоро задумает мешать планам йенского победителя; Австрия также; а это изолирует Россию, уничтожит возможность континентальных коалиций. Но первая часть речей, переданных Бертраном, была уже слишком наивна, била совершенно мимо, указывая прямо, что предлагающий находится в неприятном положении и потому принимать эти предложения не следует.
В совещании у короля министр иностранных дел, заменивший Гаугвица, генерал Застров признавал необходимость принять предложения Наполеона; Гарденберг говорил против, и король согласился с ним. 5 марта (н. ст.) Фридрих-Вильгельм отправил к императору Александру только что полученное письмо Наполеона, причем писал: «Язык его носит печать умеренности, но я вам предоставляю судить, должны ли мы этому верить. Он предлагает также перемирие». «После всего того, что произошло в последнее время, – отвечал Александр, – было бы верхом ослепления надеяться получить прочный и честный мир одиночным соглашением с Францией. Отдельный мир между вашим величеством и Францией будет только средством временным и мнимым, Пруссия увидит себя осужденною остаться под игом Франции. Наши средства еще довольно значительны и дают нам возможность продолжать борьбу с энергией. В то же время умоляю ваше величество подумать, что я должен сделать по обязанностям моим к собственной стране, если я должен остаться один. Гоню от себя эту мысль, и сердце мое говорит мне, что с таким союзником, как вы, подобное опасение невозможно. Если бы Бонапарт хотел искреннего соглашения с вашим величеством, то он сообщил бы вам основания этого соглашения. Он бы обратил внимание на прочность уз, связывающих Пруссию с Россией; он бы сообразил, что ваше величество, изведав по печальному опыту его двоедушие, никогда не согласитесь отделить свои интересы от интересов союзнических, но ему ни до чего дела нет, и самая крайность его бесстыдства является для меня новою причиною причислить и эти коварные предложения к таким хитростям, которые он так любит употреблять и которые так часто служили ему с успехом для того, чтоб ослаблять усилия, против него направленные, и сеять несогласие между противниками. Бонапарт изъявлял также желание мириться с Россией и Англией, но и здесь та же неопределенность, не допускающая никакого доверия. Россия достаточно доказала, что она хочет мира не мнимого, которого выгоды исключительно были бы на стороне Франции, она хочет мира справедливого и прочного; то же должно предполагать и со стороны Англии. Так пусть Бонапарт объяснится точно и прямо об условиях, на которых он хочет мириться с Пруссией, Россией и Англией, и он увидит готовность этих государств уступить все, что совместно с их интересами и достоинством».