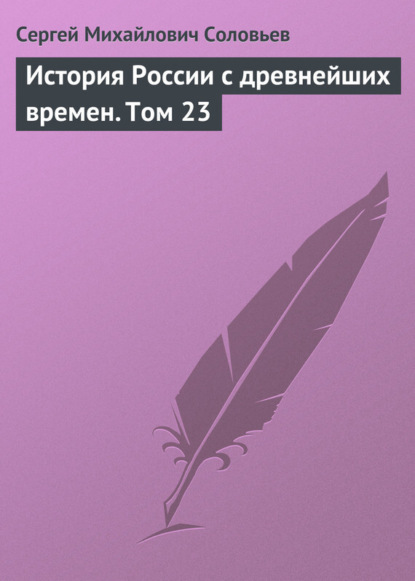По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История России с древнейших времен. Том 23
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
1749 год Кейзерлинг окончил подробным донесением о состоянии Польши. На первом плане была здесь вражда двух фамилий – Потоцких и Чарторыйских. Началась она с соперничества в достижении гетманского чина. Русское покровительство дало Потоцким ту силу и значение, которые они по смерти Августа II поспешили употребить против России, поддерживая Станислава Лещинского. Когда после сдачи Данцига Чарторыйские признали Августа III и двор начал их употреблять в деле умирения, то эта фамилия показала отличные опыты своей благонамеренности. Когда же было постановлено забыть все прошедшее и стараться привлечь к себе всех благодеяниями, то и Потоцкие были взысканы милостями: некоторые получили пенсии, другим даны королевские маетности, иные повышены в чинах, а сам воевода киевский пожалован великим коронным гетманом, невзирая на сильный протест Кейзерлинга, находившего опасным, чтоб два главные в королевстве достоинства – примаса и гетмана – находились в одной фамилии. Последующие события оправдали опасения Кейзерлинга и до сих пор оправдывают, хотя смерть примаса и уменьшила несколько опасность.
Гетманское достоинство не могло достаться в худшие руки. Тогдашний кабинет-министр Сульковский, не давши знать Кейзерлингу, доставил этот чин Потоцкому, о чем сам потом сильно жалел, но поправить ошибки было уже нельзя без нового возмущения поляков. Привыкнув во время революции и при Станиславе управлять всем, Потоцкие хотели того же и при нынешнем короле, но, встретив помеху в Чарторыйских, воспылали к ним злобою, хотя Чарторыйские поддерживают себя единственно личными достоинствами, а нисколько не милостию королевскою, от которой ничего не получали: чем были прежде, до революции, тем и остались, равно как и старый граф Понятовский. Всему свету известно, что во время турецкой и шведской войны дом коронного гетмана был прибежищем турецких и шведских эмиссаров, которые там обыкновенно собирались, соглашались насчет мер своих против России, через Потоцкого получали нужные им известия; у него, как на почтовом дворе, держали свою переписку; он с сообщниками во время шведской войны поднимал против России конфедерацию, отчего произошли бы опасные следствия, если бы Кейзерлинг не нашел в коронной маршалше Мнишек орудия для успокоения конфедератов, к чему немало способствовали также старания Ржевуского, Чарторыйских и Понятовского. На всех сеймах коронный гетман производил крик и жалобы против России, не имея к тому ни малейшего повода, ибо Кейзерлинг остерегался действовать против Потоцких враждебно, напротив, старался приласкать их подарками и, этими средствами привлекши на свою сторону графиню Мнишек, тещу гетмана Потоцкого и сестру Тарло, равно духовных и адъютантов гетмана, мог узнавать заранее о всех враждебных России замыслах и предупреждать их. Такие отношения Кейзерлинга к Потоцким не могли нравиться Чарторыйским; но Кейзерлинг дал знать последним, что их заслуги и благонамеренность известны русскому двору и они могут совершенно положиться на его покровительство; но он не может мешаться в их отношения к Потоцким, ибо России нужно одно – сохранение в Польше спокойствия, восстановление которого России так дорого стоило, а сам он, Кейзерлинг, просит их, что если б он потребовал от них чего-нибудь несогласного с благом Польши и дружбою между нею и Россиею, то они б не исполняли его требования, а противились бы ему всеми силами. В таком положении Кейзерлинг оставил дела в Польше, когда был перемещен во Франкфурт. Но и здесь он получал известия, что Потоцкие продолжают действовать по-прежнему в видах Франции без обращения внимания на своего короля. А теперь делается то же самое: воевода сендомирский получает от Франции пенсию в 4000 червонных; воеводе бельскому в последнюю бытность его в Париже подарено 10000 ефимков; там он недавно и проект подал, каким бы образом свергнуть графа Брюля. При короле для польских дел находится теперь подканцлер Воджицкий, который скорее предан Потоцким, чем Чарторыйским; великий канцлер коронный Малаховский сначала не держался ни той ни другой партии, но так как он выдал дочь за одного из Потоцких, то, пожалуй, скорее будет действовать в интересах этой фамилии. «Я не усматриваю, – замечает Кейзерлинг, – каким бы способом Потоцкие могли быть отвлечены от своих обязательств с Франциею и наведены на другой путь; опыт показал, что все представления и милости остались напрасными, и потому никогда ни Россия, ни король не могут доверять этим людям, которые не упускают ни одного случая к злым делам. Однако благоразумие требует не раздражать их; здешний двор думает так же, и я не премину утверждать его в этом мнении. Что же касается вольного голоса (liberum veto), то мысль о его ограничении не новая и не Чарторыйским принадлежит, а Потоцким, которые уже не раз и старались об этом, и если б они при короле получили такую же власть, какую имели во время междуцарствия, то давно бы уже отменили вольный голос, и эта отмена была бы гораздо выгоднее им, чем Чарторыйским, потому что они и в Сенате, и в палате послов имеют гораздо более приверженцев и потому во всяком случае обеспечены насчет большинства голосов.
1750 год Кейзерлинг начал опять неприятным для Елисаветы известием о разговоре с коронным подканцлером Воджицким по поводу Курляндии. Воджицкий объявил ему, что получил из Польши письма, в которых многие магнаты домогаются, чтоб он сделал королю наисильнейшие представления о необходимости скорейшего решения курляндского дела; что это дело заслуживает теперь особенного внимания, ибо некоторые иностранные дворы хотят воспользоваться им ко вреду России и Польши. В апреле Кейзерлинг вместе с двором переехал из Дрездена в Варшаву и в мае уведомил о богатом политическими последствиями браке коронного гофмаршала Мнишка с дочерью первого министра Брюля, а Мнишек был родной брат коронной гетманши Потоцкой, вследствие чего Потоцкие были очень довольны. Когда Кейзерлинг выразил Брюлю надежду, что этот союз с Потоцкими не произведет перемены в его отношениях к общим друзьям и в господствовавшем до сих пор политическом плане, то Брюль отвечал, что он не отдаст интересы своего государя в приданое за дочерью; такие же обнадеживания делал он Чарторыйским и Понятовским. Во второй половине мая примас от имени всех сенаторов подал королю адрес о необходимости решить курляндское дело, с чем король был совершенно согласен и немедленно переслал адрес в Москву. С другой стороны, коронный гетман жаловался, что гайдамаки не дают покоя пограничным польским областям. Для успокоения последнего дела Кейзерлинг сообщил указ императрицы киевскому губернатору Леонтьеву об искоренении гайдамаков.
Между тем приближалось время чрезвычайного сейма, и надобно было решить важный вопрос – кому быть сеймовым маршалом? Король для своих интересов находил необходимым, чтоб маршалом был Ржевуский, воевода подольский, а потому уговорил его отказаться от воеводства и сенаторства, ибо по закону никто из правительственных лиц маршалом быть не мог. Но Потоцкие этому воспротивились: в день открытия сейма, когда надобно было выбирать маршала, поднялись страшные споры, и в этих спорах прошел срок, назначенный для сейма, вследствие чего он и не мог состояться.
Успокоенный относительно Польши, Кейзерлинг стал хлопотать о том, чтоб отвлечь ее короля как курфюрста саксонского от неестественного союза с Франциею по причине субсидного трактата и привлечь к старому союзу с Россиею и Австриею. Саксонское правительство было убеждено в малой пользе от первого и необходимости второго; но Кейзерлингу говорили одно: что если б вследствие последней войны Саксония не находилась в таком отчаянном положении и не терпела такую нужду в деньгах, то не взяла бы их от Франции; сам король сказал английскому посланнику Уильямсу: «Договор с Франциею был заключен по нужде, а не по расположению». Этот Уильямс был переведен из Берлина к саксонскому двору частью для того, чтоб получить понятие о делах в Польше, главным же образом для того, чтоб наведаться, склонен ли саксонский двор оставить французские субсидии и вступить в обязательство относительно сохранения вольности, тишины и безопасности в Европе. Так он сам объявил Кейзерлингу, который потому и начал с ним советоваться, как бы это дело привесть в движение. Решили, что всего лучше начать с общей конференции у графа Брюля. Дело в конференции началось заявлением, что французский субсидный договор может быть заменен таким же договором с Англиею, если Саксония приступит к петербургскому договору между Россиею и Австриею. Брюль отвечал, что его государь согласен на это, и велел уже объявить о своем согласии в Петербурге, но требует ручательства в безопасности от Пруссии; пусть Россия объявит, что в случае если бы кто-нибудь обеспокоил Саксонию под каким бы то ни было предлогом, то Россия будет помогать ей всеми своими силами. Брюль заметил, что такое ручательство прежде всего необходимо, ибо когда в недавнее время Россия по причине шведских дел требовала помощи от Саксонии, то прусский король велел объявить в Дрездене, что как скоро неприятельские действия начнутся, то он Саксонию задавит, чтоб отнять у нее возможность продолжать игру. Кейзерлинг и Уильямс признали справедливость этого требования; причем Кейзерлинг заметил, что, пока у Саксонии будет продолжаться союз с Франциею, Россия не может оказать полной доверенности Саксонии. Уильямс предложил, что будет достаточно, если король польский на аудиенции объявит им, что не намерен возобновлять союзного договора с Франциею, а намерен вступить в обязательства с древними своими союзниками, если он получит столько же выгод, сколько представлял договор с Франциею, и если русская императрица сделает декларацию о безопасности и гарантии его областей и прав. Кейзерлинг согласился, и 12 августа ему, а на другой день Уильямсу король объявил, как было условлено. Во время ведения этого дела о тесном союзе польского короля с русскою императрицею Кейзерлинг был смущен возобновлением жалоб белорусского епископа Волчанского на притеснения греческой веры, жалоб, которые должны были вести к неприятным объяснениям с польскими министрами; а теперь Волчанский именно жаловался на притеснения в областях литовских канцлеров. Кейзерлинг обратился к подканцлеру князю Чарторыйскому с представлением, что дело идет о нарушении договора вечного мира и пример этого нарушения подается в маетностях министров республики. Чарторыйский отвечал, что это все зависит от виленского католического епископа; он, Чарторыйский, сносился с ним, и тот велел отвечать, что он не может дать явного позволения на перестройку и починку русских церквей, но хочет своим духовным под рукою приказать, чтоб они не препятствовали исповедникам греческой веры. Чарторыйский обнадеживал Кейзерлинга, что он с своей стороны всячески защищает людей греческой веры, что он им на собственный счет построил церковь. Кейзерлинг окончил свое донесение следующими любопытными словами: «Мне здешнее польское министерство часто давало знать, для чего люди греческой веры не обращаются с своими жалобами к своему королю, для чего они обо всем чрез другой двор представляют? Они жители и подданные республики, и следовало бы им своему королю честь отдавать и с доверием просить его о защите и помощи Хорошо было бы, если б греческим епископам объявили, чтоб они впредь свои жалобы приносили обычным образом самому королю и потом пересылали бы их ко. мне, а я их не преминул бы подкреплять по высочайшим намерениям вашего величества; это, по словам польских министров, дало бы делам лучший вид, ибо происходило бы естественным порядком».
Другое неприятное дело, курляндское, также не затихало; в сентябре канцлеры подали Кейзерлингу промеморию, в которой говорилось, что в последнем сенатус-консилиум, держанном в конце августа, все сенаторы единодушно просили короля возобновить наисильнейшие домогательства и представления при российском дворе об освобождении герцога курляндского Бирона: право, потребность порядка и тишины в Курляндии, природная ее величества справедливость, необходимая предосторожность для предупреждения вредных политических последствий – все указывает на это дело как на дело первой важности для короля, республики Польской и России, которых интересы соединены. При этом канцлеры устно сообщили Кейзерлингу, как прискорбно королю и республике, что после многократного дружеского домогательства о герцоговом освобождении до сих пор никакого ответа нет.
Елисавета осталась по-прежнему непреклонною относительно Бирона и Курляндии, ибо если, с одной стороны, могли указывать на необходимость успокоить Курляндию и Польшу на случай войны с Швециею и Пруссиею, то, с другой стороны, могли внушать, что именно в случае этой войны Курляндия должна оставаться без герцога и быть в распоряжении России. Шведские дела преимущественно обращали на себя внимание русских государственных людей.
В январе 1749 года в конференции с шведскими министрами Тессином и Экеблатом Панин прочел декларацию своего двора против восстановления самодержавия в Швеции. Когда Панин прочел то место декларации, где говорилось, что некоторые восстановлением самодержавия хотят избежать ответственности за свое поведение пред государственными чинами, то Тессин, уставивши глаза на Экеблата, несколько времени оставался неподвижен; когда же Панин окончил чтение, то Тессин начал говорить, что эти ведомости о самодержавии для них сущая новость и что из всех ложных слухов, которые в последнее время рассеяны были по провинциям, они ничего подобного не слыхали; что они как сенаторы обязались присягою охранять настоящую форму правления; наследный принц при своем избрании поклялся и не мыслить о самодержавии. «Наша вольность, – заключил Тессин, – так нам дорога, что мы не захотим опять подвергнуться игу».
После этой декларации немедленно было созвано чрезвычайное собрание Сената в присутствии наследного принца, и надворный канцлер Нолкен принял на себя сделать королю ложное донесение, будто Панин в конференции именем императрицы объявил, что она хочет держать в готовности все свои силы для утверждения по кончине королевской наследного принца на престоле. Это донесение так встревожило больного короля, что он не мог заснуть всю ночь, и когда на другой день явился к нему с докладами советник гессенской канцелярии Бенинг, то он с глубокою печалью и упреком сказал ему: «Вы мне всегда толковали о дружбе ко мне русской императрицы, а вот что ее посланник объявил в конференции! Можно было бы до моей смерти подождать с такою декларациею, и без того эти негодяи очень смелы; разузнайте, что за причина такого поступка Панина». Как скоро Панин узнал об этом чрез надежного человека, то немедленно отправил к Бенингу оригинал императрицына рескрипта для уяснения дела королю. Между тем Тессин сообщил Панину, что королевский ответ на декларации будет состоять в следующем: король узнал с великим удивлением, будто бы в Швеции существует намерение восстановить самодержавие и даже делаются втайне приготовления; король тем более удивляется такому слуху, что, кроме слухов из Норвегии о датских вооружениях в пользу наследного принца, ни о чем подобном никаких неосновательных разглашений не выходило; король находился насчет этого в полном спокойствии, твердо полагаясь на святость присяги, на добросовестность его высочества наследника, на должное бодрствование своего Сената и на всенародную ненависть к самодержавию: впрочем, дружеское объявление со стороны императрицы король принимает с наичувствительнейшею признательностию.
Вслед за Паниным датский посланник Винт прочел Тессину от своего двора такую же декларацию относительно восстановления самодержавия и получил в ответ то же изумление и те же отговорки. Колпаки были в восторге от этих деклараций, шляпы были особенно встревожены, тем более что смотрели на русскую декларацию как на следствие падения Лестока. Ласковость их к Панину усилилась. Предложение сенатора Палмстерна о созвании чрезвычайного сейма было отклонено, ибо не надеялись на его счастливый исход среди двоих бдящих соседей, которых цель была явна.
Мы видели, что кронпринц непременно хотел быть канцлером Упсальского университета. Он достиг своей цели и старался пользоваться своим влиянием в университете. В Упсале бывала большая ярмарка; на эту ярмарку отправился Горлеман, женатый на фаворитке кронпринцессы бывшей фрейлине Ливен: отправился он под предлогом осмотра университетских строений, а в самом деле для того, чтоб поручить профессорам, которые получили это достоинство от кронпринца, разглашать собравшемуся на ярмарку народу, что нечего бояться военных приготовлений со стороны соседей, что господствующая партия имеет в руках средство склонить русский двор на свою сторону, с помощью которого не только может противиться датским видам, но и предупредить их. Но Панин отправил на ярмарку также своего агента Гека, секретаря крестьянского чина, который чрез своих приятелей внушал, что русский двор никогда не будет действовать заодно с злогосподствующею партиею в ее стараниях восстановить самодержавие; что воинские приготовления соседей, разумеется, не причинят никакого вреда Швеции, ибо имеют целью сохранение ее вольности; несомненно, что если б Россия и Дания не охраняли так бдительно настоящей формы правления, то шведы давно были бы рабами известной ватаги и подданными Франции и Пруссии. Гек, возвратившись из Упсалы, уверял Панина, что неудовольствие против господствующей партии страшное и ненависть к кронпринцессе превосходит всякое вероятие; собравшиеся на ярмарку крестьяне, жалуясь на свое бедственное положение, говорили, что все это зло привезла кронпринцесса с собою; принца же считают человеком слабым и не способным к делам, которым управляют жена и граф Тессин. В письме к канцлеру Бестужеву Панин передал свой разговор с советником Фриденстерном, оказавшимся в последнее время одним из самых энергических людей между колпаками. Фриденстерн прямо объявил, что они не ждут никакого добра от наследного принца, и спросил конфиденциально Панина, могут ли они надеяться, что императрица, умалив свою терпеливость, наконец окажет правосудие относительно неблагодарностей этого принца и, когда нация благодаря ее оружию увидит час своего избавления, отнимет ли от него свою спасительную руку? «Вы получили так много доказательств, – отвечал Панин, – как ее величество всегда далека от того, чтоб в ваших домашних делах самовластно установлять какой бы то ни был порядок; вы можете быть удостоверены, что ее величество желает одного – подкреплять вашу вольность; и так как до сей минуты никто из вас предо мною не открывался относительно престолонаследия, то я об этом и не доносил моей государыне, следовательно, и министериального ответа вам дать мне не в состоянии. Вы можете легко понять, какой важности это деликатное дело и какой требует прозорливости для тайного и осторожного произведения своего. По моему мнению, вам надобно предварительно иметь в этом секрете еще одного или двоих из знатнейших добрых патриотов, с которыми вместе вы можете просить ее величество о защите и помощи, сделавши прежде между собою твердое соглашение, каким образом произвести это дело в действие». Фриденстерн отвечал, что завтра же хочет ехать в деревню к сенатору Окергельму и уговориться с ним, и так как кронпринц возведен в свое достоинство по рекомендации императрицы, то он не желает выгнать его из Швеции с каким-нибудь огорчением, а будет стараться, чтоб ему дали или пенсию, или единовременное значительное вознаграждение.
В конце мая Панин получил рескрипт императрицы, в котором ему предписывалось сделать вторичное представление насчет восстановления самодержавия. «Хотя, – говорилось в рескрипте, – данный вам от королевского имени ответ нас совершенно успокоил, ибо мы в добрых намерениях короля удостоверены, однако собственный наш натуральный интерес, с которым связана безопасность нашей империи и соблюдение тишины и равновесия на Севере, требует так просто не полагаться на обнадеживания графа Тессина. Опыт довольно показал, как на тамошние обнадеживания можно было полагаться; возьмем в пример негоциации графа Тессина при датском дворе и недавно заключенный договор с прусским королем; не были ли мы сильнейшим образом обнадеживаны, что они ни во что не вступят, не уведомив нас предварительно? И так как получаемые из разных мест и из самой Швеции надежные ведомости говорят, что в Стокгольме некоторыми господами под рукою уже все распоряжено тотчас по преставлении короля вдруг ввести самодержавие без извещения государственных чинов и что в секретнейшем комитете будто постановлено, что государственные чины до 1751 года собираться не должны, то, когда все это совершится, уже поздно будет с нашей стороны принимать меры. Поэтому мы сочли необходимым поручить вам испросить у шведского министерства особливую конференцию и не только повторить уже сделанные вами прежде словесные представления, но и вновь накрепко декларовать, что хотя мы ничего так усердно не желаем, как с нашими соседями, особенно же с Королевством шведским, пребывать в ненарушимой союзнической дружбе и в откровенном добром согласии, наши обязательства с Швециею верно исполнять и все то, что только к некоторым дальностям повод подать может, рачительнейше искоренять, однако мы если б подтверждающееся везде намерение имелось тотчас по преставлении короля настоящую форму правительства отменить и самодержавие снова ввести, что с соблюдением ненарушимой тишины и необходимого равновесия на Севере отнюдь согласно не было бы, то мы на такую перемену равнодушно смотреть никак не могли бы; но по силе принятых с Швециею Ништадским договором обязательств нашлись бы принужденными в таком важном деле принять участие и употребить наиважнейшие меры для воспрепятствования этой перемене. А чтоб однажды навсегда выйти из настоящего сомнения, чтоб впредь не опасаться нам за свой собственный интерес и вольность шведского народа, то мы считаем нужным прибавить к этой декларации следующее: если б по смерти королевской вздумалось отменить настоящую форму правления в Швеции, то мы для предупреждения всех будущих беспорядков приняли решение: вступить с корпусом наших войск в шведскую Финляндию не как неприятельница, но как приятельница, верная союзница, защитница утесненной шведской вольности по примеру 1743 года, когда мы на собственном иждивении корпус наших войск в Швецию посылали, дабы государство от тогдашних сомнительных внутренних беспокойств и опасности избавить. Этот наш корпус не причинит обывателям Финляндии ни малейшего отягощения, будет содержан на собственном нашем иждивении, в нем будет наблюдаться строгая дисциплина в той, разумеется, надежде, что вся шведская нация эти наши войска примет самым дружественным образом. Если же, паче чаяния, некоторые из шведов по частным корыстным видам вознамерились бы эту нашу полезную предосторожность превратно толковать и в предосуждение своего отечества нам сопротивляться, в таком случае как собственные наши интересы, так и обязательство с Швециею необходимо потребуют, чтоб мы за утесненную вольность нации действительно и сильно вступились и всех тех, которые помыслили б эту вольность нарушить, за изменников своего отечества признавали, следовательно, с ними как с нашими неприятелями и нарушителями внутреннего покоя поступили».
Панину удалось достать постановления секретной комиссии насчет восстановления самодержавия по смерти королевской; пересылая их к своему двору, он жаловался на слабое состояние русской партии: «Их (членов русской партии) настоящая ситуация такого состояния, что они с наилучшим в свете намерением и диспозициею прежде не могут пошевелиться, пока такого щита пред собою не увидят, который бы при самом начатии дела от первого удара со стороны злой партии их мог спасти, чего они тем паче опасаются, ибо их имена весьма знатны суть, и потому они страшатся, чтоб их первою кровию все дело не венчалось». Главная трудность дела, по мнению Панина, состояла в том, что не было способа к составлению хотя немногочисленной, но формальной партии, чтоб всех привесть под одну дирекцию и постановить общую систему, чтоб они могли свои растерянные рассуждения сделать единомысленными и каждый бы прямо знал, от кого он зависит; во-вторых, трудно определить время, образ и обстоятельства, при которых дело должно начаться; они ничего так не боятся, как быстрого и нечаянного для себя удара, и наступающую зиму ожидают с ужасом, а замерзшее море почитают своею могилою. Помогать ему, Панину, они ни в чем не могут, ибо не имеют в делах никакого участия, живут в уединении без сношений друг с другом, а если случится им неожиданно свидеться, то при этом свидании происходят одни рассуждения и вздохи, которые и служат им общею отрадою.
Панин успел достать и реляцию шведского посланника Гепкена из Берлина от 24 ноября 1747 года, в которой описывается следующий разговор Гепкена с Фридрихом II. «Понеже, – говорил Гепкен, – обязательством между сими высокими дворами намерения и авантажи обоих государств (Швеции и Пруссии) так равномерными и неразделимыми учинены, что никакой иной разности, кроме порядка в правительстве, не настоит; того ради и секретный аусшус (комиссия) государственных чинов старался, чтоб в том возможное равенство доставить, дабы обои их величества друг друга с равною властию и равномерною скоростию, когда то потребно будет, во всем способствовать могли. Его королевское величество прусское (пишет Гепкен) о том великое удовольствие оказывал, а особливо понеже он в таком мнении находился, что имевшее его по причине того с графом Тессином советование, как его королевское высочество в Швецию перевезен быть имел, к тому первый повод подало, и его величество присовокупил к тому, что без такой перемены постановленное обязательство в таком состоянии и силе, как оное ныне есть, никогда с безопасиостию прочно пребывать не могло б; однако ж он опасается, что иногда противная партия, которая российского и датского дворов виды подкрепляет, в действительном произведении такого секретного аусшуса полезного распоряжения препятствовать может». Подле этого места канцлер Бестужев сделал заметку для императрицы: «Из него усматривается, что еще при трактовании о супружестве коронного наследника вредительное намерение о введении самодержавства в виду имелось. Ее импер. величеству, правда, невозможно было тогда сего предусмотреть, но Бриммер и Лесток, кои главнейше на сие супружество присоветовали, конечно, о том знали. Только ж канцлер и тогда еще противу того представлял, как то ее импер. величество чаятельно о том припамятовать изволит». 15 июля Панин писал канцлеру Бестужеву: «Я не в состоянии предусмотреть никакого способа, которым бы можно было не допустить прусский двор вмешаться в игру, если только она начнется введением самодержавия; дело кончится здесь прежде, нежели будет получено известие о его начале. Со стороны народа никакой надежды на сопротивление не видно. Добрые патриоты сами собою ни на что не отважатся, пока не увидят себя в безопасности вследствие помощи своих союзников, явившейся среди Швеции; а наступающая зима эту надежду у них отнимает. Если бы возможно было еще нынешнею осенью нечаянно вступить в Швецию с требованием созвания сейма и тем предупредить Пруссию?»
Сношения с Корфом замедлили подачу второй русской декларации против введения самодержавия; когда она была подана, граф Тессин, встретившись 24 августа с Паниным на половине кронпринцессы, стал ему говорить, что прежде подачи формального ответа на декларацию он хочет объясниться с ним дружески по этому делу, и просил, чтоб Панин говорил с ним теперь не как с министром, но как с приятелем, который его особенно почитает за честного человека и благонамеренного министра. «Я спрашиваю, – продолжал Тессин, – у вас совета, каким образом сочинить наш ответ: войдите в наше положение, восчувствуйте тот удар, который такая декларация наносит нам, обратите беспристрастное внимание на независимость, какою должна пользоваться каждая держава». Панин отвечал, что хотя бы он имел и высокое понятие о своих политических способностях, то и тогда не воспользовался бы его учтивостью и не осмелился своими советами предупреждать решение его двора; теперь же тем менее может это сделать, ибо не сознает в себе достаточной к тому способности. Но, желая отвечать дружеской откровенности, он не может скрыть перед ним, что и ему декларация кажется очень важною и достойною всякого внимания; время всего лучше оправдает то или другое и несомненно поставит дело в желаемое положение, почему и тревожиться много не следует, если он твердо уверен, что никакого замысла против правительственной формы в Швеции не существует. Тессин отвечал: «Я чувствую основательность вашего рассуждения и в последнем случае очень спокоен; но примите во внимание тот случай, когда одна держава объявляет другой, что она без всякого требования приняла решение вступать с войском в ее области; как должна последняя держава принять такую декларацию? Каждое правительство должно сохранять внутреннюю и внешнюю тишину своего отечества, причем тогда только обращается за помощью к союзникам, когда сами не имеют к тому способов; но Швеция теперь благодаря Бога такой для себя нужды не предусматривает». «Прежде чем я вам буду отвечать, – сказал Панин, – я попрошу изъяснения на два пункта: 1) возможное ли дело, чтоб вся шведская нация единогласно захотела отменить настоящую форму правления? и, во-2), как вы толкуете седьмую статью Ништадского договора?» Тессин несколько времени собирался с мыслями и потом отвечал: «Первое я считаю совершенно невозможным; а седьмая статья имеет силу, когда бы действительно настоял такой случай и мы потребовали бы русской помощи». «Позвольте вам припомнить, – сказал на это Панин, – что когда я приехал сюда, то вы меня предупреждали насчет существования разных партий в королевстве; мы теперь, например, и можем предположить, что одна из этих партий замыслила по кончине королевской переменить форму правления и произведет это в действие на сейме, имея у себя большинство голосов; спрашивается, от кого ожидать тогда требования относительно исполнения обязательств и можно ли в таком случае предупредить вредное дело? Рассмотрите своим здравым рассуждением, какие бы Россия потаенные и своекорыстные виды могла иметь против Швеции, чтоб пользоваться ей такими вероломными стратагемами? Она не ищет распространения своих границ, чему достаточные опыты имеются, а других каких-нибудь видов и представить себе нельзя. Она может иметь в виду только сохранение всеобщего спокойствия, что несовместимо с переменою формы здешнего правительства, и я могу вас уверить, что когда в Швеции не будут думать об этой перемене, то никогда не увидят в своих пределах соседского войска». Тессин поблагодарил за дружеское объяснение.
Понятно, что в России не хотели употребить решительных мер – посылать войско без всякого требования со стороны шведов; хотели помешать восстановлению самодержавия посредством самих же шведов и потому требовали от Панина, чтоб он поддерживал партию противников самодержавия, и назначили для этого 50000 рублей. Панин должен был повторить: «Так называемые благонамеренные патриоты всегда готовы брать наши деньги; но при настоящем положении здешних дел нельзя ожидать от этого никакой пользы, ибо без прикрытия своих спин они не ополчатся, тем более если они увидят, что все это клонится только к отстранению самодержавия, тогда как у каждого из них другая цель – низвержение господствующей партии и получение знатных чинов и должностей. Если по выключении двух или трех человек по всем другим моим знакомым рассуждать о всем шведском народе, то надобно прийти к заключению, что он не понимает общего блага и пользы отечества, но каждый преследует собственные цели. Зависть и ненависть, с одной стороны, а деньги – с другой, – вот побуждение и хорошего и дурного». К канцлеру Бестужеву Панин писал, что он не имеет искусства и качеств, нужных для составления партии, не может столько обращаться между людьми, ибо нрав его требует уединения, причем и тупоречение препятствует.
30 августа Панин был приглашен на конференцию, где получил ответ на декларации, состоявший в следующем: «Декларация, которую кронпринц недавно издал по собственному соизволению, что он желает оставить неприкосновенною настоящую форму правления, достаточна к уничтожению всякого подозрения. Если же и после того обнаружилось бы какое-нибудь покушение на вольность и права народа, то правительство имеет достаточно средств для сопротивления подобному покушению. Если же, несмотря на это, ее импер. величество без предварительного и формального требования со шведской стороны приказала войскам своим перейти границы, то подобный поступок будет принят за нарушение всенародных прав и за явный разрыв, который понудит Швецию употребить для защиты своей все данные ей Богом средства».
Датский посланник, готовивший также декларацию в смысле русской, узнавши об ответе, испугался и не подал никакой декларации. Панин писал канцлеру Бестужеву: «Вашего высокографского сиятельства ко мне высокая милость и протекция всегда меня дерзновенным пред вами учиняет; но, милостивый государь, при таких мне критических обстоятельствах здешних дел если бы я сей доступи еще не имел, то б как возможно было по сие время мне спастися? Ибо поистине признаюся, что теперь не вижу, как беспорочно наконец освободиться; того ради всепокорнейше прошу милостиво рассмотреть мои слабые мнения. Датский двор довольно оказал свое правило – ко всему склоняться, не производя ничего в действо, и с предосуждением доброй вере искать временных выгод. Может быть, он надеется много и на то, что видит нас с Швециею в таких замешательствах, и надеется этим себя сохранить от опасности, которой когда-нибудь, рано или поздно, может подвергнуться вследствие своего поведения. Правда, еще можно сколько-нибудь надеяться, что на введение в Швеции самодержавия двор этот равнодушно глядеть не может, но он ограничится тем, что не признает самодержавия в Швеции в надежде, что Россия будет действовать против нее всеми своими силами и, таким образом, все бремя шведских дел падет на одну Россию, если только английский двор не будет действовать с нами сообща. Поэтому было бы желательно, чтоб лондонский и венский дворы о здешних делах получили самое ясное понятие, какого они до сих пор не имеют. Весь интерес наших высоких союзников состоит в том, чтоб шведский король сам собою не был в состоянии начать войну, вступить в новые обязательства и умножать свою военную силу. Когда Англия захочет серьезно приступить к делу, то она силою своих денег может много облегчить; в противном случае я не вижу возможности помешать здешнему перевороту, кроме долголетней войны; если же не воевать, то надобно будет осудить себя за исключение из общих европейских дел, ибо как скоро здесь характер правления переменится, то России придется думать только о собственных своих делах. Признаюсь пред вашим высокографским сиятельством, что моя нынешняя жестокая здешняя жизнь кажется мне бесплодною».
Известный советник Фриденстерна предлагал Панину ввести в Финляндию корпус русского войска с опубликованием причин этого поступка и созвать сейм в Финляндии, на что эта страна имеет полное право. Панин писал императрице, что он в этом предложении находит некоторое основание, ибо в прошлом веке особые финляндские сеймы бывали. В то же время Панин доносил о намерении господствующей партии заставить короля подписать отречение от престола в пользу наследного принца, что сделать легко по душевному и телесному состоянию короля, который подпишет акт не читая. Панин переслал в Петербург и копию заготовленного уже акта отречения. Венский двор хлопотал, чтоб шведское правительство издало обнадеживательский акт, что правительственная форма изменена не будет; когда австрийский резидент упомянул о необходимости этого акта французскому послу, то последний заметил, что такой необходимости нет, ибо седьмой параграф Ништадского мира никакого действия иметь не может: он в Абовском трактате не повторен, а между всеми державами в обычае последними трактатами именно и специально обозначать прежние обязательства.
Между тем Панин получил из России 50000 рублей, назначенных для сформирования партии. Несчастный посланник не знал, что с ними делать, и писал канцлеру Бестужеву: «Ваше высокографское сиятельство, конечно, сами просвещенно ведать изволите, что с одними так называемыми добрыми патриотами ничего начать нельзя в надежде доброго успеха. Другое дело, если б мы имели в Сенате одного или двух достойных вождей; опыт доказал, как недостаточно управление партиею посредством иностранного министра, хотя бы он обладал гораздо большими для того качествами, чем я. Может служить примером и противная здешняя партия: она, конечно, не французскими министрами, но внутренними ее вождями управляется и содержится и укоренение свое в делах получила чрез сенаторский подкуп; напротив того, наша сторона как скоро в 38 году потеряла свою силу в Сенате, то после при разных и очень полезных случаях не могла поправиться. Не вижу другого способа к начатию формирования партии, как подкуп двоих или троих сенаторов, которые бы имели все нужные для вождя партии качества и взяли на себя дело составления партии, и так как время сейма еще не близко, а дело требует больших расходов, то английский двор может здесь своим золотом преодолеть силу Франции». Больших хлопот стоило провезти деньги в Стокгольм, чтоб утаить их от таможенных чиновников. Гвардейский каптенармус и переводчик привезли их из Копенгагена. Переводчик оставил своего товарища с деньгами за воротами Стокгольма, а сам приехал к Панину. Тот выехал с секретарями своими на охоту и остановился ночевать в трактире, где жил курьер с деньгами, под предлогом болезни; ночью перенесли сумы с деньгами в комнату посланника, который вместе с секретарями надели их на себя под епанчи и таким образом провезли в город.
Панину предстояло еще тяжелое дело – подать третье требование своего двора шведскому правительству. 26 октября императрица апробовала следующий рескрипт к нему: «Мы из ваших донесений усмотрели, каким образом вы учинили вторичную декларацию шведскому министерству и какой неудовлетворительный для нас ответ дан вам королевским именем. Мы за наилучшее изобрели требовать, чтоб шведский двор вступил с нами в особливую негоциацию для постановления торжественной конвенции, чтоб Швеция нынешнюю форму правления отнюдь и ни под каким видом не отменяла, напротив чего мы обязались бы не только эту форму правления, но и установленное там наследство гарантировать и пригласить к той же конвенции все дворы. При вручении этой промемории вам подается наилучший способ – содержание ее подкрепить дальнейшими рассуждениями и явственно показать, как неприличен данный с шведской стороны ответ и как этот новый с нашей стороны поступок свидетельствует о наших прямо дружеских к шведскому двору чувствах, особенно к наследному принцу, ибо, кроме того что мы ревнуем о соблюдении прав и вольности соседственной нам нации, мы не хотим допустить, чтоб принц, покусившись когда-нибудь их нарушить, преступил учиненную им присягу и тем в начале своего правления возбудил ропот целой нации, любящей свою вольность, и сделал бы это принц, в возведении которого в его достоинство мы принимали такое участие. Это довольно показывает, основательны ли были рассеянные повсюду злостные слухи, будто мы старались ниспровергнуть наследство, нами самими установленное, когда мы стараемся заблаговременно отвратить и то, что могло бы служить поводом к такому ниспровержению. Теперь шведскому министерству представляется последний случай показать нам искренность тех уверений, какие оно нам не переставало твердить: им стоит только вступить в предлагаемую конвенцию, что им сделать легко, когда они обнадеживают не иметь никакого помышления об отмене нынешней формы правления; это для них и выгодно, ибо они разом освободятся от беспокойств, в каких их содержат продолжающиеся со всех сторон вооружения».
Канцлер писал Панину: «Я вашему высокоблагородию откроюсь, что мы, подлинно осмотрясь, никакого скоропостижного без рассуждения поступка не сделаем и первые в огонь не бросимся, хотя при том и всегда готовы будем ко всему тому, чего обстоятельства и сходство всевысочайших интересов потребовали б. Я верю, что господа датчане больше всех ошибутся, да и не худо, чтоб они ошибку свою прямо почувствовали. Ее импер. величество со всем тем, однако ж, всевысочайше намерена к датскому двору ни малейшей наружной отмены в своих сентиментах не показывать, но паче стараться, что ежели б начатую с оным негоциацию о шведских делах пресечь должно было, то таким образом сделать, чтоб датский двор тому виновным оставался; а впрочем, что до шведов самих принадлежит, то хотя мы и по действительной отмене их формы правительства первые войну с ними начать не намерены, а еще меньше не учиня с союзниками нашими предварительного соглашения, однако ж когда с здешней стороны в нынешней вооруженной позитуре останемся, то, может быть, сие одно довольно сильным способом будет шведов самих о том в раскаяние привесть и иногда до того достигнуть, что сами ж они принуждены были б паки нынешнюю форму правления восстановить, когда собственные их подданные, и без того великими налогами и податьми отягощенные, продолжаемым для того далее непрестанным вооружением в совершенное отчаяние приведены будут и против самовластного правительства восстанут, еже толь имовернее есть, ибо известно, что они ни третьей доли того не снесут, еже ее импер. величество без всякого труда в действо произвесть может. Все сие единственно для собственного вашего известия остаться имеет, а впрочем, нимало не препятствует, чтоб ваше высокоблагородие по прежде данным вам наставлениям не старались благонамеренных в Швеции сколько можно ободрять и их при лучших сентиментах содержать. Ничего лучше быть не могло б, как, приобретя Финляндию, шведов с датчанами их жребию оставить; но происходящие иногда оттого следствия не толь легко предвидеть можно, как бы такое предприятие требовало; но паче опасаться надобно, что таким образом и самые наши союзники не только за случай союза не признали б, но паче мы наступательною стороною признаны быть могли б. Впрочем, я охотно и совершенно вступаю в рассуждение вашего высокоблагородия касательно до жестокой тамо вашей жизни. Но ваше высокоблагородие противу того сами ж рассудить изволите, такие ли ныне обстоятельства, чтоб ее импер. величество могла, хотя на малое время, оттуда взять такого человека, на верность которого ее величество полагаться изволит и искусство его к нынешнему соглашению тамошних дел весьма нужным находит».
Письмо было очень лестно; но с Панина не слагалась обязанность иметь дело с «благонамеренными», которые, по его мнению, никуда не годились, и он должен был подать третью декларацию, от которой не ждал никакой пользы.
Третья декларация была отдана Паниным шведскому министерству 4 января 1750 года; ответ получен был 26 числа того же месяца и состоял в решительном отказе вступить в какую-либо конвенцию относительно формы правления. Так как Австрия и Саксония подкрепляли предложение русского двора, то шведское министерство объявило, что король для уничтожения в Европе всякого сомнения относительно своих миролюбивых намерений гарантирует всеми своими союзниками, что он первый никогда мира не нарушит, и если русский двор примет эту гарантию и с своей стороны даст такую же, то спокойствие сейчас же восстановится. Панин переслал канцлеру свое мнение, что такою гарантиею Россия совершенно отказалась бы от права противодействовать перемене правительственной формы. Шведы хорошо знают, что русский двор поймет, в чем дело; но им хочется усыпить союзников России, которые, быть может, не так далеко проникают в шведские дела, могут смешать перемену правительственной формы с нарушением мира и ослабить свое внимание, так что Россия одна останется занятою шведскими делами, что для Франции и Пруссии очень желательно. Весь беспристрастный свет должен признать, что противовесие Франции заключается в силах одной России, которой при шведской перемене нельзя будет принимать большого участия в общих делах для пользы своих союзников. Одно средство однажды навсегда приобресть безопасность и со славою окончить принятые относительно Швеции меры – это получить от наших союзников формальную гарантию насчет ненарушимости шведской формы правления, причем в особом секретном акте обозначить все касающиеся дела пункты, отменою которых может быть нарушена общая система равновесия, и при таком нарушении постановить признание союзного случая (casus foederis). Этим рассмотрением нынешний образ шведского правления введется в генеральную форму всей Европы и господствующая в Швеции партия лишится возможности называть ее домашним делом. Это выражение – «домашнее дело» – может иметь силу в юридических школах между простым народом, а не в кабинетах держав. Бестужев отвечал на это благорассудительное мнение, что его нельзя довольно выхвалить. «Я, – писал канцлер, – не оставил бы стараться надлежащее по оному употребление учинить; но, зная, вашему высокоблагородию, может быть, не так сведомые диспозиции наших союзников, я предусматриваю, что сей хороший план и чрез долгое время своего совершенства едва достиг бы. Прошедшая война их так засуетила, что они поныне ни о каких посторонних делах помышлять не хотят, по меньшей мере ни на что не поступят, не протягивая вдаль, еже не иначе как противной стороне повод подавали б тому перечить, умалчивая, что Англия и без того едва похотела б шведскую форму правительства (гарантировать), не приглашая к тому Франции. Таким образом, легко сделаться могло б, что чинимые нами о том пропозиции втуне остались бы, следовательно, теперь наилучшее есть, находясь по всяким происшествиям в готовности, смотреть и обождать, какое течение дела примут, потом уже свои меры принимать. Когда наши союзники, а именно венский, лондонский, копенгагенский и дрезденский дворы, на учиненные от нас им по шведским делам представления и требования никакого удовольствительного ответа не дали, то и мы все учиненные от них здесь по тем же делам пропозиции в молчании оставлять будем, дабы они и самым малейшим с здешней стороны ответом не делали себе меритов (заслуг) ни при шведском, ни при французском, ниже прусском дворах, а еще меньше все о наших намерениях известны были. Постараемся лучше одни, елико можно, целость наших интересов наблюдать».
Особенно поведение Англии заставляло думать о том, как бы «одним целость наших интересов наблюдать». В Лондоне Чернышев объявил герцогу Ньюкестлю, заведовавшему сношениями с северными государствами, что императрица надеется в случае если Швеция не обратит никакого внимания на представления России о неперемене формы правления и Россия будет принуждена исполнять обязательства Ништадского договора, то Англия признает здесь случай союза и не откажет в помощи. Ньюкестль отвечал, что сомневается, чтоб Франция допустила Швецию заключить с императрицей какую-либо новую конвенцию о форме правительства; французский двор находится в твердом мнении, что сделанное коронным шведским наследником объявление достаточно для успокоения всего света, что в Швеции и не помышляется о введении самодержавия; Франция отказалась исполнить требование лондонского двора – склонить шведское правительство внести небольшую перемену в манифест коронного наследника для большого разъяснения дела; Франция основала свой отказ на том, что такие требования относительно внутренних дел неприличны и достоинству Швеции как вольной державы предосудительны; к этому французский посол прибавил, что очень жаль, если сделанная Швециею успокоительная декларация не будет иметь успеха и на Севере возгорится война, ибо пламя этой войны распространится по всей Европе. Когда Чернышев подал промеморию о том, что Панин представил шведскому правительству третью декларацию, то Ньюкестль сказал, что в ответе на промеморию будет заключаться просьба английского правительства к императрице, чтоб она удержалась относительно Швеции от всяких поступков, которые могут казаться наступательными, тем более что лондонский двор не может признать случая союза и, следовательно, обязанности помогать России, когда последняя введет свое войско в Финляндию единственно из досады, что Швеция откажется заключить требуемую от нее конвенцию относительно перемены правительственной формы. Чернышев выразил удивление относительно того, как этот ответ на его промеморию мало согласуется с теми искренними союзническими чувствами, которые лондонский двор много раз выражал императрице; Чернышев ставил на вид, как Англия заинтересована в этом деле не только относительно политического равновесия, о котором она так заботится, но и относительно своей торговли; и та и другая потерпят ущерб, если в Швеции восстановится самодержавие. «Я совершенно с вами согласен, – отвечал Ньюкестль, – для Англии крайне важно, чтоб в Швеции не было восстановлено самодержавие, и нашему двору очень приятно, что для недопущения этого императрица держит войско наготове; но у нас еще не усматривается никакой необходимости, чтоб императрица велела своим войскам предпринять наступательное движение, наш двор не имеет доказательств, могущих его удостоверить, что Швеция действительно намерена изменить свою правительственную форму; коронный наследник, для которого такая перемена должна произойти, не может вступить на престол, пока старый король еще жив. Французский двор продолжает уверять, что перемены никакой не последует, что об этом там и не думают, а если б что-нибудь подобное затевалось, то он сам готов тому сопротивляться как делу, не согласному с его интересами. С другой стороны, маркиз Пюизие объявил нашему посланнику лорду Альбемарлю, что если Россия действительно, как грозится, двинет свои войска в Финляндию, то Франция союзника своего не оставит, но вместе с прусским королем немедленно подаст ему помощь. Я вам скажу откровенно, – продолжал Ньюкестль, – что наш двор, недавно освободившись от разорительной войны, теперь ни под каким видом в новую войну вступить не склонен, да и не в состоянии по усилившемуся государственному долгу, не поправя своих финансовых дел; вот почему наш двор и считает своею главною обязанностию не давать вашему двору обещаний, каких сдержать не в состоянии, и потому должен отвлекать императрицу от всего того, что могло бы повлечь к войне, тем более что Россия может иметь против себя Францию, Швецию, Пруссию и даже Турцию. И венский двор согласен с нашим взглядом».
Герцог Бедфорд, заведовавший сношениями с южными государствами, еще раз объявил Чернышеву, что если Россия начнет войну с Швециею, то Англия не примет в ней никакого участия, случая союза по договору не признает, по крайней мере он, Бедфорд, в королевском совете будет настаивать, чтоб случай союза не был признан. Англии нельзя втягиваться в новую войну по причине громадности своего долга. При этом он высказал неудовольствие, что императрица без ведома его двора велела подать Панину третью декларацию. «Я, – говорил Бедфорд, – совершенно согласен с французским двором, что декларация наследного принца достаточна для успокоения; никакая конвенция большого ручательства не даст, и я не уверен, чтоб императрица по Абовскому договору имела право требовать от Швеции больших ручательств».
Чернышев уговаривал обоих герцогов, чтоб они не очень боялись французских угроз, которые останутся недействительными при твердом союзе между Россиею, Англиею и Австриею; у Англии есть лучшее средство прекратить французские угрозы – это дать на русскую промеморию благоприятный ответ. «Я, однако, не надеюсь, – писал Чернышев, – чтоб мои представления имели какой-нибудь успех. Сомнения мои основываются на следующем: во-первых, на страхе английского министерства пред новою войною; во-вторых, на великой экономии в расходах, которая теперь здесь наблюдается; в-третьих, на несогласии министров в королевском совете, которое производит остановку в иностранных делах». В следующих депешах Чернышев между прочим извещал свой двор о разговорах Ньюкестля с посланником прусским. Последний внушал, что английский король должен употребить свое старание при русском дворе для отвращения императрицы от нападения на Швецию; в противном случае король его не может быть равнодушным и будет принужден по оборонительному договору с Швециею подать ей помощь. Ньюкестль отвечал ему, что у Англии с Россиею оборонительный союз и потому если Россия начнет с Швециею наступательную войну, то Англия в этой войне участия не примет.
Чернышев был очень недоволен этим ответом английского министерства, Панин был очень недоволен пунктами внушений, представленными шведскому министерству от другой союзницы России, Австрии. В этих пунктах говорилось, что римская императрица не может представить никаких новых способов к соглашению между Россиею и Швециею и ожидает с шведской стороны, не сыщутся ли такие способы, которыми бы возможно было как можно скорее установить тишину. Римская императрица обещает без требования или предписания представить русской императрице, не может ли она удовольствоваться шведскими обнадеживаниями и приказать отвести от границ своих лишние войска. Шведское министерство отвечало благодарностью за попечение о мире и просьбою о продолжении этих попечений. Шведский король, говорилось далее в ответе, утешает себя надеждою, что дела уладятся мирно, тем более что подозрение насчет перемены правительственной формы совершенно неосновательно; это доказывается известным манифестом наследного принца 12 июля 1749 года, и хотя манифест касался только шведских подданных, однако по своей сущности достаточен для удовлетворения России и других держав. Других способов удовлетворения без предосуждения своей независимости Швеция не знает.
Панин был недоволен австрийскими внушениями, но когда ему прислали из Петербурга копии чернышевских донесений, то поведение венского двора сравнительно с поведением лондонского показалось ему уже достойным похвалы. «Наши союзники, – писал он канцлеру Бестужеву, – могут быть извинены тем, что в рассуждении внутреннего состояния своих государств стараются посторонние дела вдаль протягивать и для того желают утишить настоящие замешательства; но тем не менее английское министерство в своем поведении оправдаться не может, ибо оно, уважая так мало искренность пред своими союзниками, ослабляет систему равновесия и тем противной стороне подает повод поступать с большею дерзостию. Как кажется, венский двор не теряет из виду последнего пункта и как ни усердно старается успокоить северные дела, однако по сие время не сделал ни одного поступка, которым бы мог поднять головы своим противникам, но при каждом отзыве мужественно оказывает твердость своей системы. Венский двор в своем рескрипте к здешнему резиденту сильно осуждает поступок английского министерства, тем более что он сделан так публично и обнародован всеми газетами».
В сентябре Панин виделся с знаменитым прежде главою колпаков стариком Окергельмом, который приезжал на время в Стокгольм. Окергельм в откровенном разговоре о состоянии Швеции объявил, что если Россия оставит Швецию ее собственному жребию, то тем скорее приведет к упадку господствующую партию. Императрица сделала все возможное и должна спокойно ожидать событий, в необходимом же случае поступить согласно с своими декларациями и тогда, конечно, найдет сочувствие в целом шведском народе, который ничего так не опасается, как войны с Россиею. Франция не так щедро будет расточать свои деньги, если русский двор не станет производить никакого движения. Все те, которые России обещают на будущем сейме золотые горы, имеют в виду только обогатиться ее деньгами; опыт показал, как трудно и бесполезно иностранному министру управлять здешними земскими делами, ибо в конце он непременно будет обманут, особенно министр русский, ибо в действительности Россия очень мало имеет здесь истинных друзей; для главного управления делами необходимы из шведов знатные, способные и влиятельные люди; но таких он, Окергельм, не знает никого, что же касается до него самого, то он покорнейше просит оставить его в забвении, ибо не признает в себе ни малейшей к таким делам способности. Русскими деньгами ничего сделать нельзя; другое дело, если будут действовать морские державы в твердом соединении с венским двором: они могут силою денег искать себе друзей и среди французской партии и вообще могут действовать с большим успехом, чем кто-либо другой, ибо система их никогда не может быть соединена с зависимостью Швеции. Настоящая форма правления прочна по крайней мере на несколько времени; господствующая партия не может теперь ее нарушить без ускорения собственной погибели, если только русский двор останется при твердом намерении исполнять свои декларации.
В ответном рескрипте на донесение о разговоре с Окергельмом говорилось, что мнения Окергельма сходятся с мнениями императрицы, именно, сделавши все то, что благодеяниями можно было сделать: предоставить шведов их собственному жребию и быть в готовности действовать, когда безопасность русских границ того потребует. «Действительно, опыт показал, – говорилось в рескрипте, – что употребляемые в Швеции с русской стороны деньги служат только к тому, что заставляют Францию высылать еще больше денег и таким образом еще больше укреплять шведов против нас. Мы не хотим сами питать их ненависть против себя и потому повелеваем вам поступать таким образом, чтоб злонамеренные, да и почти все шведы видели нежелание ваше искать их благосклонности; вы можете при случае велеть им внушать, что вы французские деньги деньгами же перевешивать не хотите. Это, однако, не связывает вам рук продолжать знакомства, служащие вам к получению нужных известий, и делать издержки, которых требует наша служба».
Более всех других держав русским движениям в Стокгольме должна была сочувствовать Дания из страха перед усилением Швеции посредством самодержавия; но Дания была держава слабая и потому не могла действовать так решительно, как Россия, должна была поступать осторожно, озираться на все стороны. В конце января 1749 года сам король объявил Корфу, что сущность конвенции между Россиею и Даниею должна заключаться в двух пунктах: 1) Россия должна препятствовать прусскому королю в угоду шведов напасть на датские области, совершенно открытые; 2) должна быть лучше определена граница между Даниею и Швециею, ибо хотя императрица великодушно объявила, что никаких завоеваний для себя от Швеции не желает, но датские границы очень мало защищены от шведских нападений, а шведы такие соседи, которым никогда верить нельзя. После этого король с час разговаривал о шведском и прусском дворах. Корф писал, что из этого разговора можно было приметить в короле мало высокопочитания к прусскому двору, а против шведского, особенно против министерства, казался он очень раздраженным и, между прочим, сказал: «Удивительное дело, что шведский двор присылает сюда всегда таких министров, которые могут быть названы прямыми банкрутами честности, таков Тессин, таков Палмстерна, Гепкен и настоящий Флемминг, у которого такая злость и коварство на лице написаны, хотя неизвестно, умеет ли он говорить, потому что при всех случаях заставляет говорить за себя французского министра». При всем том, писал Корф, король не изъяснился ни о тех способах, какими здесь думают удержать прусского короля от вмешательства в шведские дела, ни о том, какую границу им хочется иметь со стороны Швеции.
На другой день после этого разговора министр Шулин прочел Корфу конвенцию: Россия и Дания согласились препятствовать всеми средствами введению в Швеции самодержавия и потому обязуются с обеих сторон выставить на шведских границах войско и вооружить флот; если бы Швеция вознамерилась передвинуть финляндский корпус к норвежским границам для действий против Дании, то Россия обязана сделать диверсию своими галерами в Швеции и тем поставить последнюю между двумя огнями; если прусский король соберет войско вблизи датских границ, то Россия выставляет сильный корпус на курляндских границах, датский король в таком случае сосредоточит наибольшую силу в Голштинии, а против Швеции воевать только оборонительно; если прусский король нападет на Данию, то Россия объявляет ему войну и не положит оружия прежде, чем Дания будет приведена в совершенную безопасность; Россия должна склонять кронпринца шведского, чтоб он за себя и за своих потомков отказался от Шлезвига и Голштинии; Дания должна получить все то, чего она лишилась по миру в Бремзебро. Все эти пункты должны содержаться в тайне.
Король, по уверению Корфа, желал тесного сближения с Россиею по шведскому делу; но министр Шулин был французской партии и хитрил: наружно не противился конвенции и притворялся, что совершенно согласен с намерениями королевскими, а между тем старался выиграть время, вымышляя всякие предлоги к остановке дела, и желал дождаться таких обстоятельств, которые были бы в состоянии ниспровергнуть всю машину и сохранить в Дании французскую систему.
В апреле у Корфа с Шулиным был разговор по поводу объявления, сделанного Франциею британскому двору, что Франция сама будет стараться сохранить настоящую правительственную форму в Швеции и потому согласна доставить всякое обеспечение державам, принимающим в этом участие. Корф заметил, могут ли Россиян Дания ожидать такого обеспечения от державы, которой приверженцы в Швеции приняли все меры для восстановления самодержавия; внутренняя слабость злонамеренной партии для успеха в таком трудном предприятии известна, и потому можно вывести естественное заключение, что вожди партии составили означенный план не без ведома и не без предварительного совета с Франциею. Корф подозревал, что Шулин сам принимал участие в декларации, сделанной Франциею, чтоб доставить ей свободнейшие руки в северных делах и усилить возможность возобновления французского субсидного договора. На замечание Корфа Шулин несколько помедлил ответом; потом, собравшись с мыслями, сказал, что и английский король считает такое обеспечение надежным и думает, что получит его от Франции. Корф не продолжал разговора, боясь подать повод заключить о каком-нибудь беспокойстве со стороны русского двора; по его мнению, некоторым равнодушием можно было в Копенгагене больше выиграть, чем усильным старанием. Вслед за тем Шулин пригласил Корфа на конференцию и прочел ему рескрипт короля к датскому министру в России Шезу, состоявший в следующем: король великобританский велел сообщить, что, видя опасные признаки беспокойства на Севере, он велел представить обоим императорским дворам, что Англия по окончании столь тяжкой войны с Франциею может помочь своим союзникам только в том случае, когда на них нападут в их собственных владениях; тем меньше он склонен принять участие в действиях против установленного в Швеции порядка наследства, ибо в таком случае начнется общая война на Севере, причем Франция и Пруссия, по всем вероятностям, получат верх. Вот почему английский король не может не отсоветовать таких намерений своим союзникам, в том числе и королю датскому. Необходимо смотреть неусыпно, чтоб нынешняя правительственная форма в Швеции была сохранена, но сделанные в Стокгольме русским и датским дворами декларации на первый раз достаточны. Французский король велел обнадежить английский двор, что и он сам будет стараться сохранять существующую правительственную форму в Швеции и готов доставить в этом отношении обеспечение всем державам, принимающим участие в деле. Король прусский также велел повестить, что, по сделанному ему объявлению от русской императрицы, вооружения с ее стороны производятся не для обиды кому-либо, но только для предосторожности, на случай, если б явилась опасность для спокойствия на Севере; хотя этим объявлением темное облако, нашедшее на Север, казалось, начало исчезать, однако недавно явилась в Стокгольме русская декларация, следовательно, опасность от непогоды еще не совсем миновалась; поэтому прусский король желает знать намерения датского короля относительно этого дела. И французский король, продолжал Шулин, велел здесь объявить, что из датских вооружений на норвежских границах и из тесной дружбы между Даниею и Россиею его король возымел подозрение, не клонятся ли датские вооружения против Швеции; король объявляет, что в таком случае он будет помогать Швеции.
Дания отвергла субсидный и оборонительный трактат с Англиею и заключила его с Франциею на том основании, что Англия требовала за свои деньги корпуса вспомогательных войск, а Франция не требовала. Шулин, объявляя об этом Корфу, уверял, что этим трактатом с Франциею король его никак не связывает себе рук относительно Швеции, ибо когда французский посланник допытывался, как поступит Дания в том случае, если самодержавие в Швеции будет восстановлено на сейме с согласия всех чинов, то ему отвечали: если будут хотя три человека в Швеции против перемены, то Дания будет их защищать. В августе Корф писал в Петербург, что Дания хотя немало опасается шведского переворота, однако не будет принимать серьезных мер прежде кончины шведского короля. Трудно ожидать, чтоб датский король в таком важном деле решил что-нибудь один, без министерства, ибо для этого требовались бы качества, которые даются опытностию и летами; английский посланник во время своей негоциации имел довольно тайных аудиенций, с которых уходил всегда с добрыми обнадеживаниями от короля, но Шулин умел обратить в ничто эти обнадеживания. Корф, чтоб выпытать у Шулина его мнение о шведских делах, завел речь о строении шведами крепости в Ландскроне, указывая, что это не может оставаться без опасных следствий для Дании, особливо когда восстановлено будет самодержавие. Шулин отвечал, что крепостные постройки в Ландскроне требуют долгого времени и громадных издержек, а впрочем, нельзя отвергать, что это предприятие не может быть приятно для Дании. Потом Корф склонил речь на слухи, что в конце года будет создан в Стокгольме чрезвычайный сейм для восстановления самодержавия – дело легкое при совершенном падении патриотической стороны. Корф спросил у Шулина, какие, по его мнению, нужно было бы принять меры в таком случае. Шулин отвечал, что между Россиею и Даниею еще не последовало по этому важному предмету никакого соглашения и потому он не имеет обязанности объявлять своих мнений: но так как дело идет об интересе одинакой важности как для России, так и для Дании, то он скажет свое мнение, но только как частный человек. Я думаю, продолжал Шулин, что сделанные со стороны России и Дании военные приготовления на шведских границах достаточны для удержания злонамеренной партии в ее замыслах, эти господа легко могут видеть, что рискуют потерять свои головы, и кронпринц рискует потерять престол и быть выгнанным из Швеции; злонамеренная партия очень хорошо знает, что от Франции, кроме некоторой суммы денег, она никакой помощи не получит. Король прусский, быть может, пришлет свое выговоренное в трактате вспомогательное войско, но нельзя думать, чтоб он далее захотел вмешаться в дело. Несмотря на то, надобно внимательно следить за движениями злонамеренной партии, и я уверен, что король, мой государь, в известном случае безотлагательно примется за оружие и вступит в Швецию, хотя бы конвенция с Россиею и не была заключена, в надежде, что императрица, соблюдая собственный интерес, сделает то же самое.
Корф выпросил себе тайную аудиенцию у короля, которая происходила 3 сентября. Корф представил, что тайный комитет прошлого шведского сейма уже подписал акт введения самодержавия, отложив исполнение до будущего сейма. Теперь надобен только удобный случай, который доставит позднее годовое время, когда злонамеренные не будут опасаться никакого препятствия со стороны иностранных держав и при совершенном утеснении патриотов безопасны и относительно внутреннего сопротивления; и в какое положение тогда были бы приведены интересованные дворы, если бы движения злонамеренных заблаговременно не были предупреждены, – это он предоставляет священнейшему проницанию его королевского величества. Императрица не намерена оставить без внимания такое важное дело и не сомневается, что и его величество также к нему внимателен и не откажет сообщить на его счет свои виды. Король отвечал, что он никак не может допустить перемены правительственной формы в Швеции и хочет сопротивляться этой перемене всеми своими силами, почему и сделал все нужные распоряжения в Норвегии; только он признает себя обязанным вследствие своей декларации не предпринимать ничего подобного наступательному движению до тех пор, пока злонамеренные действительно что-нибудь затеют; его цель – сохранить спокойствие на Севере, и потому никак не желает подать повод к войне каким-нибудь поступком, который бы мог быть истолкован как обида. Он надеется, что императрица совершенно согласна с ним в этом отношении, и он надеется, что дело не дойдет до войны, ибо извлеченная уже до половины на шведских границах шпага может привесть злонамеренных на другие мысли. Впрочем, он просит уверить императрицу, что всегда будет поступать как истинный союзник России, убежденный в пользе и естественности этого союза; начатые негоциации с Франциею и Швециею не содержат в себе ничего, что могло бы ослабить его: первая касается только получения хорошей суммы денег без связывания себе рук; вторая же состоит единственно в. возобновлении старого трактата. «Было бы несогласно с моим достоинством и интересом, – продолжал король, – если б я заключил новые договоры, которые были бы противны обязательствам моим с императрицею. Я не мог принять предложения Англии, во-первых, потому, что эта держава в мирные времена больших субсидий давать не привыкла, во-вторых, потому, что она выговаривала себе помощь войсками, а я не могу из моей армии отправить ни одного человека: мои норвежцы надобны мне против шведов; из голштинских войск мне нельзя ничего дать, ибо я не знаю, что окажется с той стороны». Корф заметил, что король относительно германских своих владений может опасаться только со стороны Пруссии и в этом отношении английский субсидный трактат доставил бы полную безопасность. Король отвечал, что этого можно достигнуть, если Англия вступит в союз, не требуя, чтоб Дания лишилась французских субсидий. «Это рассуждение чрезвычайно странное, – писал Корф, – хотят на Англию наложить обязанность заботиться о здешней безопасности в то самое время, как отвергают ее дружественные предложения и дают предпочтение другой державе; из этого видно, какие слабые правила старается внушить министерство этому молодому государю».
23 ноября Корф был приглашен на конференцию к министрам, которые объявили ему, что так как шведский наследный принц недавно публикованным актом в самых сильных выражениях высказался против перемены правительственной формы и так как императрица – королева венгерская обещала стараться о выдании со стороны шведского правительства другого подобного же акта, то датский двор признал излишним заключить по этому предмету особую конвенцию с Россиею: большая часть европейских держав тем или другим способом принимает участие в сохранении настоящей формы шведского правления, и если Россия с Даниею вступят в особые обязательства, зависящие от будущих и неподлинных случаев, то это может возбудить в других державах зависть и подозрение, что было бы более вредно, чем полезно, для сохранения тишины на Севере.
Корф приписывал такой оборот дела Шулину; канцлер Бестужев соглашался с ним, но советовал быть осторожнее относительно могущественного министра. «Принятые г. Шулином странные меры, – писал Бестужев, – меры, которые интересу короля навсегда останутся вредны, нимало не удивляют, ибо я имел случай познать с прежних еще времен превратные его мысли и совершенную преданность к Франции; почему я ему всегда не доверял, и с самого еще начала, когда тайная негоциация началась, невзирая на то что первое предложение учинено с датской стороны, никакого добра от него не надеялся. И действительно, в мнении своем не ошибся, ибо он внезапно уничтожил всю негоциацию и мнение свое в рассуждении теперешней формы правления основал только на чаянии и легко опровергаемых мнениях, в чем последовал предписанию французского двора с точностию. Я имею у себя достоверное известие, что г. Шулин испрашивал у французского двора совета, привести ли начатую негоциацию к желаемому концу, в чем ему непристойным образом отказано и запрещено. Из сего, следовательно, легко заключить можно, какую французский двор над ним имеет силу, когда рассудить, что он в угодность оному старался датский двор отщетить от нашего и возбудить между обоими несогласие… Я слышал также помощию некоей посторонней переписки, что ваше превосходительство изволили у некоторых тамошних ваших приятелей называть г. Шулина пенсионером Франции. Ваше превосходительство можете легко себе представить, что если сие дойдет до ушей г. Шулина, то он, спасая честь свою, подговорив двух свидетелей, потребует от вас отчета; и вашему превосходительству трудно будет доказать, поелику тот министр, который берет мзду, свидетелей удаляется; а между тем он, раздражен будучи вашим попреком, и при жалобе своей последует примеру графа Тессина. В тогдашнее время стоило мне несчетных трудов ваше превосходительство из бывших замешательств с честию освободить. Если же последуют теперь от датского министерства какие-либо жалобы, то ваше превосходительство можете себе представить ту досаду, которую я иметь буду за то, что вас на теперешнее ваше место рекомендовал, также и то, что я вас поддерживать не в состоянии буду. Сей случай подал бы зломыслящим шведам повод к оправданию своея бесполезныя на вас жалобы: Вашему превосходительству известна моя к вам искренняя дружба по многим обстоятельствам, для которой я вам теперь и открываюсь чистосердечно. Качество господина Шулина мне давно известно, род мыслей его не годится ни к чему, он исполнен коварства; однако ж влияние его при тамошнем дворе и кредит у короля в таком состоянии, что должно ему всевозможным образом уступить, чтоб противным чем-либо не огорчить его и чрез то не привести оба двора в расстройку. Я советую вашему превосходительству г. Шулину уступать, столько ласкать и подавать вид старания, войти к нему в приязнь, чтоб приятые им о вас худые намерения уничтожить и привесть в недоумение. Такими поступками всего лучше можно выиграть. Я уже найду способ за ваше превосходительство и за себя отмстить сему коварному министру, отмстить столь чувствительно, чтоб он вечно ощущал досаду, а может быть, удастся мне свергнуть его с места; но я сие сообщаю вашему превосходительству за сокровеннейшую тайну».
10 декабря Корф имел разговор с самим королем. «Я надеюсь, – сказал Фридрих V, – получить радостную ведомость о возвращении ее импер. величества в Петербург: хотя и эта столица довольно далеко от нас, однако когда императрица в ней находится, то мне кажется, что я ее особу больше в соседстве имею и что дела тем много выиграют, особенно при нынешних обстоятельствах на Севере. По крайней мере из декларации шведского наследного принца следовало бы заключить, что шведы сами нуждаются в сохранении мира, да и старания других дворов к тому же клонятся». Корф отвечал, что известия из Стокгольма удостоверяют его, что манифест коронного наследника надобно признать хитростию французской партии, употребленною для успокоения его датского величества и разъединения с русскою императрицею. Что же касается иностранных держав, старающихся при шведском дворе о соблюдении тишины на Севере, то между ними надобно отличить такие, которые имеют влияние на шведские дела, и такие, которые его не имеют: к последним принадлежат римско-императорский двор, которого представления имели мало успеха, также и великобританский, а к первым – Франция и Пруссия, которые согласились помогать злонамеренным шведам в перемене правительственной формы. «Если шведское министерство, – сказал король, – имело в виду при печатании известного манифеста разделить Данию с Россиею, то ошиблось, ибо я вполне признаю необходимость союза между обоими дворами и прошу вас удостоверить ее императ. величество, что я хочу способствовать всеми средствами сделать узел такой необходимой дружбы неразрывным, прошу и вас не переставать стараться об этом; что же касается французского и прусского дворов, то я не могу понять, какой им интерес в восстановлении самодержавия в Швеции». Корф писал, что он ясно доказал, что Франция и Пруссия имеют в этом сильный интерес, и король не мог ничего ему отвечать. Корф указал также королю на опасность, которая грозит Дании от укрепления шведами Ландскроны. Потом король разговаривал о разных предметах, о разных дворах; Корф нашел его рассуждения очень важными, нашел, что он французскому и прусскому дворам не доверяет, а к наследному принцу шведскому и его партии питает прямую ненависть.
В конце 1749 года Корф писал о ненависти, а в самом начале 1750 должен был писать о необыкновенных знаках благосклонности, которые оказывает король прусскому посланнику. В апреле Корф уведомил о внезапной смерти министра Шулина, причем писал: «Правда, этот министр был великий противник интересам вашего императ. величества, но переменятся ли дела вследствие его смерти, это зависит от назначения ему преемника».
Дела не переменились, потому что датская политика относительно шведского вопроса не была личным делом Шулина или партии, в челе которой стоял этот министр.
Державы, боровшиеся с Россиею дипломатическими средствами в Стокгольме и Копенгагене, разумеется, должны были также сильно бороться с нею и в Константинополе. Неплюев в начале 1749 года уведомил о слухе, распущенном в Константинополе, что Россия должна будет вести войну против Швеции, Пруссии, Дании и Польши, что 70000 прусского войска уже двинулось для занятия Курляндии. Тут же Неплюев сообщил записку, поданную Порте шведским поверенным в делах Сельценом. Сельцен домогался у Порты, чтоб она спросила у русского резидента, зачем его правительство делает такие сильные военные приготовления, сухопутные и морские, при шведских границах, и показала ему копию союзного договора, заключенного между нею и Швециею. Французский посланник Дезальер получил от своего двора приказание вразумлять Порту, что ее интересы требуют внимательного взора на северные события, ибо Россия имеет одну цель – овладеть Швециею, следовательно, турки, будучи с нею в союзе, должны ей помогать; да и без союзного обязательства должны всеми средствами препятствовать, чтоб русские не умножили своих сил. Эти внушения с шведской и французской сторон и беспрестанно подаваемые господарями молдавским и валахским ложные ведомости привели Порту в недоумение и заставили ее обратиться к английскому посланнику Портеру с просьбою объяснить причины русских вооружений: «Даром большие деньги на вооружения не тратятся; правда ли, что Россия хочет назначить другого коронного наследника в Швеции? Что такое Курляндия, что об ней в настоящих северных делах упоминается? Не остановится ли в Польше русское войско, зимовавшее в австрийских владениях, и правда ли, что польскую вольность хотят совершенно утеснить?» Портер обратился к Неплюеву и австрийскому интернунцию Пенклеру за советом, что ему отвечать. Те постарались ему внушить, что он должен воспользоваться благоприятным случаем и снова забрать в свои руки то влияние, которое морские державы имели при Порте до Белградского мира, что теперь время не только туркам глаза открыть, но и Дезальеру с Сельценом нанести чувствительный удар, показавши, что представления Сельцена делаются по внушениям Дезальера. Неплюев представлял Портеру, что злоба французов против России происходит за помощь, оказанную императрицею англичанам посылкою войска к Рейну; что шведско-французско-прусская интрига направлена против России и Англии вместе и что надобно за это отомстить; что Россия принуждена вследствие шведского недоброжелательства держать войско на севере; но так как на юге не прибавлено ни одного полка, то Турции беспокоиться решительно нечего. В этом смысле составлен был письменный ответ, который Портер и переслал рейс-ефенди.
22 июня Неплюев имел разговор с великим визирем, который встретил резидента чрезвычайно ласково и сказал, что русский двор не может и желать большей дружбы, чем та, которую Порта к нему имеет. По этой-то дружбе он, визирь, и желал засвидетельствовать ему, резиденту, как бы Порта охотно видела Россию в согласии с Швециею, ибо ничто не может быть приятнее для Порты, как доброе согласие между ее друзьями. Неплюев отвечал, что императрица одного только и желает, чтоб быть в добром согласии со всеми державами, и Порта знает сама это очень хорошо из того старания, с каким Россия поддерживает дружбу в отношении к ней. Потом резидент перешел к северным делам и прямо объявил, что некоторые неблагонамеренные шведские министры желают возбудить беспокойства на Севере переменою правительственной формы, чтоб избавиться ответственности пред чинами и в угоду чужим державам; но так как гарантия Петра Великого естественно перешла и на императрицу, то она и по собственному интересу, и для предупреждения неминуемых беспокойств велела своему министру объявить в Стокгольме, что она не может смотреть равнодушно на замышляемую перемену; и как скоро злонамеренная партия от своего умысла отстанет, то императрица не подаст ни малейшей причины к беспокойству, ибо она завоеваний не желает, не имея нужды в приращении земель. Визирь отвечал, что хотя Порта и слышит многое, но не обращает серьезного внимания (тут он показал рукою, что в одно ухо впускает, а из другого выпускает) и надеется, что все эти несогласия на Севере кончатся ничем. Тут Неплюев заметил, что если Порта сильно желает тишины на Севере, то ей бы следовало шведам советовать, чтоб они отстали от своих вредных замыслов и не слушали советов тех держав, которые стараются зажечь огонь на Севере. И визирь должен быть от их советов и внушений во всегдашней осторожности, потому что они не стыдятся в двух местах одинаково каверзить: здесь, при Порте, сообщают ложные известия о России, а в России о Порте.
В сентябре интернунций Пенклер сообщил Неплюеву и Портеру перехваченную депешу Дезальера, в которой тот хвастался, что визирь говорил с Неплюевым повелительно, что он, Дезальер, успел открыть турецкому правительству глаза насчет русских замыслов и что для воспрепятствования последним возможна конвенция между Франциею, Пруссиею, Швециею, Польшею и Турциею. Пенклер объявил при этом, что хотя его королева-императрица и не верит французскому хвастовству, однако считает нужным, чтоб они втроем приняли меры для воспрепятствования упоминаемой Дезальером конвенции. Три министра решили, что в этом деле особенного внимания заслуживает упоминание о Пруссии, ибо если бы Франция успела склонить прусского короля на проект Дезальера, то это немало нарушило бы европейское равновесие. Они решили внушать Порте с трех сторон о благонамеренности России относительно Швеции, но решили при этом действовать с крайнею осторожностию и не делать ни малейшего намека насчет плана Дезальера, ибо этот план мог остаться только в голове последнего, наполненной, по словам Неплюева, проектами: так, Дезальер постоянно твердил о поляках, преувеличивал их силы и в то же время указывал необходимость освободить их от русских притеснений, необходимость с будущего польского сейма отправить в Константинополь министра с жалобою на проход русских войск чрез Польшу. Неплюев пригласил к себе переводчика Порты и объявил ему, что злонамеренная партия в Швеции решила произвести в действие свой план тотчас по смерти королевской и потому императрица приказала своему послу в Стокгольме сделать вторичную декларацию, что будет защищать вольность утесненных шведов; но если шведское правительство даст надежное удостоверение, что форма правительственная изменена не будет, то Россия ничего более требовать не станет. Если шведы, говорил Неплюев, откажутся дать всякое удовлетворение, то все беспристрастные будут считать их нарушителями мира; надобно надеяться, что и Порта разделит также этот взгляд и будет советовать шведам не нарушать спокойствия на Севере.
Неплюев и Портер внушали, что Порта должна уговаривать шведов уступить русским требованиям; Дезальер внушал, что шведы правы, что декларацией наследного принца дано полное обеспечение и что Порта должна отговаривать русскую государыню от столь несправедливых требований. Турецкие министры не знали, что делать, посоветовались между собою и решили: шведов вполне не оставлять, на словах за них ходатайствовать, но русскому двору отнюдь не причинять неудовольствия. Уведомив об этом свой двор, Неплюев писал: «Мне же во опровержение тех шведско-французских здесь интриг собою директно ныне делать нечего по опасности каким-либо безвременным отзывом непристойного от турок объявления на себя навести; но под рукою при всех подавающихся случаях возможное чинить не оставляю».
В начале 1750 года Неплюев присылал своему двору все успокоительные известия, что, несмотря на усилия Франции и Швеции склонить Порту на принятие посредничества в северных делах, та не поддается их внушениям. Но от 18 мая получена была от него в Петербурге депеша другого рода: «Чрез посредство двух серальских фаворитов и, вероятно, благодаря сребролюбию рейс-ефенди (шведский переводчик трижды был у него в доме на рассвете), который по жадности своей со всех сторон берет, против всякого нашего ожидания испытали мы (т. е. Неплюев, Пенклер и Портер) турецкое непостоянство, удостоверились, что ни на какие здешние обнадеживания полагаться ненадобно; что здесь не следуют какой-нибудь принятой системе, но по прихотям самые важные решения отменяются». Дело состояло в том, что 14 мая Неплюев был позван на конференцию к визирю, который прочел ему записку; в ней было сказано, что так как по полученным из разных мест ведомостям известно, что шведский ответ на последнее русское требование основателен, то Порта надеется, что обе державы будут сохранять путь правый и прямой и что скоро уведомится она о восстановлении между ними дружбы и добрых сношений. Неплюев отвечал, что отдает на рассуждение визирю: при возникших между двумя государствами столкновениях дело решается одними ли словесными уверениями, или для этого требуются трактаты и конвенции. Шведы повсюду разглашали, будто Россия хочет свергнуть их коронного наследника, а Россия основательно доказывает, что они желают переменить форму своего правления; то чего же лучше, как заключить с обеих сторон конвенцию, что ни того ни другого не будет? И если это разумное средство не примется, то бесспорно, что шведы по французским и прусским наущениям стараются взволновать Север. Императрица не желает ни пяди шведской земли; но если шведы не отстанут от своего намерения переменить правительственную форму, то она не сдержится никакими представлениями и употребит все дарованные ей Богом способы для воспрепятствования этому злу. Российская держава никогда не позволит предписывать себе законов ни шведам, ни французам, ни какому-либо другому народу, устанавливая все свои поступки на весах правосудия с богоугодным намерением не допускать, чтоб от соседей и в ее государствах огонь загорелся. На эти слова визирь и рейс-ефенди твердили одно: что Порта высказалась единственно из дружбы к обеим северным державам. После Неплюев узнал, что рейс-ефенди сказал визирю: «Хотя нынешнее свидание так же мало принесет пользы, как и прошлогоднее, однако мы это дело с рук сбыли».
Было ясно, что с турецкой стороны России нельзя было ожидать никаких значительных неприятностей по северным делам; столкновение между крымцами и запорожцами также не могло повести ни к чему важному. В таком успокоительном положении находились дела, когда в конце года в Петербурге было получено известие о внезапной смерти Неплюева, последовавшей 8 ноября. Псковский архиепископ Симеон Тодорский получил от находившегося при миссии иеромонаха Иосифа любопытное письмо о болезни и кончине резидента: «Извещаю преосвященству вашему о смерти резидента, который Божиим смотрением наказован был многажды болезнию различною, первое – отнятием руки, потом желчию, что весь был желт, и тая желчь происходила ему от сердца лютости и продолжалась все лето; однажды с деревни приехал в Перу, не знаю, за что осердился на портного так жестоко, что обомлел. Сколько лекари увещевали его о том, не слушал и не могл отстать, навык всегда в лютости и в ярости. Случилось ему шестого числа сего ноября во вторник вечеру в немецкого резидента быть, и там сделалась ему апоплексия, которого в лектики (на носилках) в двор оттуду принесли, и страдал, по докторскому мнению; апоплексиею, а по-моему, от беса мучим, и все тое было ему от Бога в наказание, чего для в среду, бывшу ему в чувстве добром и в памяти, говорил хорошо, чисто; я пришел к нему; он не хотел сперва на меня смотреть, отворочался, як бес от креста, говорил ему за исповедь, отказал – пожди. Потом в среду ж пред полунощию мучило его четырми нападами, мало и дыхал, чего для я приобщил его Божественных тайн без исповеды, понеже не говорил; а после полунощи стало ему полегче, пил чай и поутру в четверток говорил с докторами; я приходил и хотел ему говорить и принудить к исповеды – ниже слово сказал; все удывлялись, с лекарами говорил и лекарства принимал, а ко мне ниже единого слова промолвил; после половины дня начало быть ему худше, ввечеру скончался без исповеды. И по приметам преждных лет жития его так в России, как и в Стамбуле, не был он совершен христианин: но или лютер, или совсем атеиста, понеже имел великое обхождение с аглицким послом, а той явный атеиста. В Стамбуле находятся различнии народы православнии и имеют резыдента в великом почтении яко от православного государства, а по теперешнем случаи все удивились и позорствуют на Россию, что едно православное государство в свете, и тое уже начинает колебатись в вере и развращатись, весь Стамбул атеистою покойного называл за его злые поступки, наипаче же теперь внушили, что не хотел исповедатись. О чем я прошу преосвященства вашего в случае внушить сие всемилостивейшей государыне, дабы доброго христианина избрали и прислали в Царьград».
ГЛАВА ВТОРАЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ. 1751 И 1752 ГОДЫ
Гетманское достоинство не могло достаться в худшие руки. Тогдашний кабинет-министр Сульковский, не давши знать Кейзерлингу, доставил этот чин Потоцкому, о чем сам потом сильно жалел, но поправить ошибки было уже нельзя без нового возмущения поляков. Привыкнув во время революции и при Станиславе управлять всем, Потоцкие хотели того же и при нынешнем короле, но, встретив помеху в Чарторыйских, воспылали к ним злобою, хотя Чарторыйские поддерживают себя единственно личными достоинствами, а нисколько не милостию королевскою, от которой ничего не получали: чем были прежде, до революции, тем и остались, равно как и старый граф Понятовский. Всему свету известно, что во время турецкой и шведской войны дом коронного гетмана был прибежищем турецких и шведских эмиссаров, которые там обыкновенно собирались, соглашались насчет мер своих против России, через Потоцкого получали нужные им известия; у него, как на почтовом дворе, держали свою переписку; он с сообщниками во время шведской войны поднимал против России конфедерацию, отчего произошли бы опасные следствия, если бы Кейзерлинг не нашел в коронной маршалше Мнишек орудия для успокоения конфедератов, к чему немало способствовали также старания Ржевуского, Чарторыйских и Понятовского. На всех сеймах коронный гетман производил крик и жалобы против России, не имея к тому ни малейшего повода, ибо Кейзерлинг остерегался действовать против Потоцких враждебно, напротив, старался приласкать их подарками и, этими средствами привлекши на свою сторону графиню Мнишек, тещу гетмана Потоцкого и сестру Тарло, равно духовных и адъютантов гетмана, мог узнавать заранее о всех враждебных России замыслах и предупреждать их. Такие отношения Кейзерлинга к Потоцким не могли нравиться Чарторыйским; но Кейзерлинг дал знать последним, что их заслуги и благонамеренность известны русскому двору и они могут совершенно положиться на его покровительство; но он не может мешаться в их отношения к Потоцким, ибо России нужно одно – сохранение в Польше спокойствия, восстановление которого России так дорого стоило, а сам он, Кейзерлинг, просит их, что если б он потребовал от них чего-нибудь несогласного с благом Польши и дружбою между нею и Россиею, то они б не исполняли его требования, а противились бы ему всеми силами. В таком положении Кейзерлинг оставил дела в Польше, когда был перемещен во Франкфурт. Но и здесь он получал известия, что Потоцкие продолжают действовать по-прежнему в видах Франции без обращения внимания на своего короля. А теперь делается то же самое: воевода сендомирский получает от Франции пенсию в 4000 червонных; воеводе бельскому в последнюю бытность его в Париже подарено 10000 ефимков; там он недавно и проект подал, каким бы образом свергнуть графа Брюля. При короле для польских дел находится теперь подканцлер Воджицкий, который скорее предан Потоцким, чем Чарторыйским; великий канцлер коронный Малаховский сначала не держался ни той ни другой партии, но так как он выдал дочь за одного из Потоцких, то, пожалуй, скорее будет действовать в интересах этой фамилии. «Я не усматриваю, – замечает Кейзерлинг, – каким бы способом Потоцкие могли быть отвлечены от своих обязательств с Франциею и наведены на другой путь; опыт показал, что все представления и милости остались напрасными, и потому никогда ни Россия, ни король не могут доверять этим людям, которые не упускают ни одного случая к злым делам. Однако благоразумие требует не раздражать их; здешний двор думает так же, и я не премину утверждать его в этом мнении. Что же касается вольного голоса (liberum veto), то мысль о его ограничении не новая и не Чарторыйским принадлежит, а Потоцким, которые уже не раз и старались об этом, и если б они при короле получили такую же власть, какую имели во время междуцарствия, то давно бы уже отменили вольный голос, и эта отмена была бы гораздо выгоднее им, чем Чарторыйским, потому что они и в Сенате, и в палате послов имеют гораздо более приверженцев и потому во всяком случае обеспечены насчет большинства голосов.
1750 год Кейзерлинг начал опять неприятным для Елисаветы известием о разговоре с коронным подканцлером Воджицким по поводу Курляндии. Воджицкий объявил ему, что получил из Польши письма, в которых многие магнаты домогаются, чтоб он сделал королю наисильнейшие представления о необходимости скорейшего решения курляндского дела; что это дело заслуживает теперь особенного внимания, ибо некоторые иностранные дворы хотят воспользоваться им ко вреду России и Польши. В апреле Кейзерлинг вместе с двором переехал из Дрездена в Варшаву и в мае уведомил о богатом политическими последствиями браке коронного гофмаршала Мнишка с дочерью первого министра Брюля, а Мнишек был родной брат коронной гетманши Потоцкой, вследствие чего Потоцкие были очень довольны. Когда Кейзерлинг выразил Брюлю надежду, что этот союз с Потоцкими не произведет перемены в его отношениях к общим друзьям и в господствовавшем до сих пор политическом плане, то Брюль отвечал, что он не отдаст интересы своего государя в приданое за дочерью; такие же обнадеживания делал он Чарторыйским и Понятовским. Во второй половине мая примас от имени всех сенаторов подал королю адрес о необходимости решить курляндское дело, с чем король был совершенно согласен и немедленно переслал адрес в Москву. С другой стороны, коронный гетман жаловался, что гайдамаки не дают покоя пограничным польским областям. Для успокоения последнего дела Кейзерлинг сообщил указ императрицы киевскому губернатору Леонтьеву об искоренении гайдамаков.
Между тем приближалось время чрезвычайного сейма, и надобно было решить важный вопрос – кому быть сеймовым маршалом? Король для своих интересов находил необходимым, чтоб маршалом был Ржевуский, воевода подольский, а потому уговорил его отказаться от воеводства и сенаторства, ибо по закону никто из правительственных лиц маршалом быть не мог. Но Потоцкие этому воспротивились: в день открытия сейма, когда надобно было выбирать маршала, поднялись страшные споры, и в этих спорах прошел срок, назначенный для сейма, вследствие чего он и не мог состояться.
Успокоенный относительно Польши, Кейзерлинг стал хлопотать о том, чтоб отвлечь ее короля как курфюрста саксонского от неестественного союза с Франциею по причине субсидного трактата и привлечь к старому союзу с Россиею и Австриею. Саксонское правительство было убеждено в малой пользе от первого и необходимости второго; но Кейзерлингу говорили одно: что если б вследствие последней войны Саксония не находилась в таком отчаянном положении и не терпела такую нужду в деньгах, то не взяла бы их от Франции; сам король сказал английскому посланнику Уильямсу: «Договор с Франциею был заключен по нужде, а не по расположению». Этот Уильямс был переведен из Берлина к саксонскому двору частью для того, чтоб получить понятие о делах в Польше, главным же образом для того, чтоб наведаться, склонен ли саксонский двор оставить французские субсидии и вступить в обязательство относительно сохранения вольности, тишины и безопасности в Европе. Так он сам объявил Кейзерлингу, который потому и начал с ним советоваться, как бы это дело привесть в движение. Решили, что всего лучше начать с общей конференции у графа Брюля. Дело в конференции началось заявлением, что французский субсидный договор может быть заменен таким же договором с Англиею, если Саксония приступит к петербургскому договору между Россиею и Австриею. Брюль отвечал, что его государь согласен на это, и велел уже объявить о своем согласии в Петербурге, но требует ручательства в безопасности от Пруссии; пусть Россия объявит, что в случае если бы кто-нибудь обеспокоил Саксонию под каким бы то ни было предлогом, то Россия будет помогать ей всеми своими силами. Брюль заметил, что такое ручательство прежде всего необходимо, ибо когда в недавнее время Россия по причине шведских дел требовала помощи от Саксонии, то прусский король велел объявить в Дрездене, что как скоро неприятельские действия начнутся, то он Саксонию задавит, чтоб отнять у нее возможность продолжать игру. Кейзерлинг и Уильямс признали справедливость этого требования; причем Кейзерлинг заметил, что, пока у Саксонии будет продолжаться союз с Франциею, Россия не может оказать полной доверенности Саксонии. Уильямс предложил, что будет достаточно, если король польский на аудиенции объявит им, что не намерен возобновлять союзного договора с Франциею, а намерен вступить в обязательства с древними своими союзниками, если он получит столько же выгод, сколько представлял договор с Франциею, и если русская императрица сделает декларацию о безопасности и гарантии его областей и прав. Кейзерлинг согласился, и 12 августа ему, а на другой день Уильямсу король объявил, как было условлено. Во время ведения этого дела о тесном союзе польского короля с русскою императрицею Кейзерлинг был смущен возобновлением жалоб белорусского епископа Волчанского на притеснения греческой веры, жалоб, которые должны были вести к неприятным объяснениям с польскими министрами; а теперь Волчанский именно жаловался на притеснения в областях литовских канцлеров. Кейзерлинг обратился к подканцлеру князю Чарторыйскому с представлением, что дело идет о нарушении договора вечного мира и пример этого нарушения подается в маетностях министров республики. Чарторыйский отвечал, что это все зависит от виленского католического епископа; он, Чарторыйский, сносился с ним, и тот велел отвечать, что он не может дать явного позволения на перестройку и починку русских церквей, но хочет своим духовным под рукою приказать, чтоб они не препятствовали исповедникам греческой веры. Чарторыйский обнадеживал Кейзерлинга, что он с своей стороны всячески защищает людей греческой веры, что он им на собственный счет построил церковь. Кейзерлинг окончил свое донесение следующими любопытными словами: «Мне здешнее польское министерство часто давало знать, для чего люди греческой веры не обращаются с своими жалобами к своему королю, для чего они обо всем чрез другой двор представляют? Они жители и подданные республики, и следовало бы им своему королю честь отдавать и с доверием просить его о защите и помощи Хорошо было бы, если б греческим епископам объявили, чтоб они впредь свои жалобы приносили обычным образом самому королю и потом пересылали бы их ко. мне, а я их не преминул бы подкреплять по высочайшим намерениям вашего величества; это, по словам польских министров, дало бы делам лучший вид, ибо происходило бы естественным порядком».
Другое неприятное дело, курляндское, также не затихало; в сентябре канцлеры подали Кейзерлингу промеморию, в которой говорилось, что в последнем сенатус-консилиум, держанном в конце августа, все сенаторы единодушно просили короля возобновить наисильнейшие домогательства и представления при российском дворе об освобождении герцога курляндского Бирона: право, потребность порядка и тишины в Курляндии, природная ее величества справедливость, необходимая предосторожность для предупреждения вредных политических последствий – все указывает на это дело как на дело первой важности для короля, республики Польской и России, которых интересы соединены. При этом канцлеры устно сообщили Кейзерлингу, как прискорбно королю и республике, что после многократного дружеского домогательства о герцоговом освобождении до сих пор никакого ответа нет.
Елисавета осталась по-прежнему непреклонною относительно Бирона и Курляндии, ибо если, с одной стороны, могли указывать на необходимость успокоить Курляндию и Польшу на случай войны с Швециею и Пруссиею, то, с другой стороны, могли внушать, что именно в случае этой войны Курляндия должна оставаться без герцога и быть в распоряжении России. Шведские дела преимущественно обращали на себя внимание русских государственных людей.
В январе 1749 года в конференции с шведскими министрами Тессином и Экеблатом Панин прочел декларацию своего двора против восстановления самодержавия в Швеции. Когда Панин прочел то место декларации, где говорилось, что некоторые восстановлением самодержавия хотят избежать ответственности за свое поведение пред государственными чинами, то Тессин, уставивши глаза на Экеблата, несколько времени оставался неподвижен; когда же Панин окончил чтение, то Тессин начал говорить, что эти ведомости о самодержавии для них сущая новость и что из всех ложных слухов, которые в последнее время рассеяны были по провинциям, они ничего подобного не слыхали; что они как сенаторы обязались присягою охранять настоящую форму правления; наследный принц при своем избрании поклялся и не мыслить о самодержавии. «Наша вольность, – заключил Тессин, – так нам дорога, что мы не захотим опять подвергнуться игу».
После этой декларации немедленно было созвано чрезвычайное собрание Сената в присутствии наследного принца, и надворный канцлер Нолкен принял на себя сделать королю ложное донесение, будто Панин в конференции именем императрицы объявил, что она хочет держать в готовности все свои силы для утверждения по кончине королевской наследного принца на престоле. Это донесение так встревожило больного короля, что он не мог заснуть всю ночь, и когда на другой день явился к нему с докладами советник гессенской канцелярии Бенинг, то он с глубокою печалью и упреком сказал ему: «Вы мне всегда толковали о дружбе ко мне русской императрицы, а вот что ее посланник объявил в конференции! Можно было бы до моей смерти подождать с такою декларациею, и без того эти негодяи очень смелы; разузнайте, что за причина такого поступка Панина». Как скоро Панин узнал об этом чрез надежного человека, то немедленно отправил к Бенингу оригинал императрицына рескрипта для уяснения дела королю. Между тем Тессин сообщил Панину, что королевский ответ на декларации будет состоять в следующем: король узнал с великим удивлением, будто бы в Швеции существует намерение восстановить самодержавие и даже делаются втайне приготовления; король тем более удивляется такому слуху, что, кроме слухов из Норвегии о датских вооружениях в пользу наследного принца, ни о чем подобном никаких неосновательных разглашений не выходило; король находился насчет этого в полном спокойствии, твердо полагаясь на святость присяги, на добросовестность его высочества наследника, на должное бодрствование своего Сената и на всенародную ненависть к самодержавию: впрочем, дружеское объявление со стороны императрицы король принимает с наичувствительнейшею признательностию.
Вслед за Паниным датский посланник Винт прочел Тессину от своего двора такую же декларацию относительно восстановления самодержавия и получил в ответ то же изумление и те же отговорки. Колпаки были в восторге от этих деклараций, шляпы были особенно встревожены, тем более что смотрели на русскую декларацию как на следствие падения Лестока. Ласковость их к Панину усилилась. Предложение сенатора Палмстерна о созвании чрезвычайного сейма было отклонено, ибо не надеялись на его счастливый исход среди двоих бдящих соседей, которых цель была явна.
Мы видели, что кронпринц непременно хотел быть канцлером Упсальского университета. Он достиг своей цели и старался пользоваться своим влиянием в университете. В Упсале бывала большая ярмарка; на эту ярмарку отправился Горлеман, женатый на фаворитке кронпринцессы бывшей фрейлине Ливен: отправился он под предлогом осмотра университетских строений, а в самом деле для того, чтоб поручить профессорам, которые получили это достоинство от кронпринца, разглашать собравшемуся на ярмарку народу, что нечего бояться военных приготовлений со стороны соседей, что господствующая партия имеет в руках средство склонить русский двор на свою сторону, с помощью которого не только может противиться датским видам, но и предупредить их. Но Панин отправил на ярмарку также своего агента Гека, секретаря крестьянского чина, который чрез своих приятелей внушал, что русский двор никогда не будет действовать заодно с злогосподствующею партиею в ее стараниях восстановить самодержавие; что воинские приготовления соседей, разумеется, не причинят никакого вреда Швеции, ибо имеют целью сохранение ее вольности; несомненно, что если б Россия и Дания не охраняли так бдительно настоящей формы правления, то шведы давно были бы рабами известной ватаги и подданными Франции и Пруссии. Гек, возвратившись из Упсалы, уверял Панина, что неудовольствие против господствующей партии страшное и ненависть к кронпринцессе превосходит всякое вероятие; собравшиеся на ярмарку крестьяне, жалуясь на свое бедственное положение, говорили, что все это зло привезла кронпринцесса с собою; принца же считают человеком слабым и не способным к делам, которым управляют жена и граф Тессин. В письме к канцлеру Бестужеву Панин передал свой разговор с советником Фриденстерном, оказавшимся в последнее время одним из самых энергических людей между колпаками. Фриденстерн прямо объявил, что они не ждут никакого добра от наследного принца, и спросил конфиденциально Панина, могут ли они надеяться, что императрица, умалив свою терпеливость, наконец окажет правосудие относительно неблагодарностей этого принца и, когда нация благодаря ее оружию увидит час своего избавления, отнимет ли от него свою спасительную руку? «Вы получили так много доказательств, – отвечал Панин, – как ее величество всегда далека от того, чтоб в ваших домашних делах самовластно установлять какой бы то ни был порядок; вы можете быть удостоверены, что ее величество желает одного – подкреплять вашу вольность; и так как до сей минуты никто из вас предо мною не открывался относительно престолонаследия, то я об этом и не доносил моей государыне, следовательно, и министериального ответа вам дать мне не в состоянии. Вы можете легко понять, какой важности это деликатное дело и какой требует прозорливости для тайного и осторожного произведения своего. По моему мнению, вам надобно предварительно иметь в этом секрете еще одного или двоих из знатнейших добрых патриотов, с которыми вместе вы можете просить ее величество о защите и помощи, сделавши прежде между собою твердое соглашение, каким образом произвести это дело в действие». Фриденстерн отвечал, что завтра же хочет ехать в деревню к сенатору Окергельму и уговориться с ним, и так как кронпринц возведен в свое достоинство по рекомендации императрицы, то он не желает выгнать его из Швеции с каким-нибудь огорчением, а будет стараться, чтоб ему дали или пенсию, или единовременное значительное вознаграждение.
В конце мая Панин получил рескрипт императрицы, в котором ему предписывалось сделать вторичное представление насчет восстановления самодержавия. «Хотя, – говорилось в рескрипте, – данный вам от королевского имени ответ нас совершенно успокоил, ибо мы в добрых намерениях короля удостоверены, однако собственный наш натуральный интерес, с которым связана безопасность нашей империи и соблюдение тишины и равновесия на Севере, требует так просто не полагаться на обнадеживания графа Тессина. Опыт довольно показал, как на тамошние обнадеживания можно было полагаться; возьмем в пример негоциации графа Тессина при датском дворе и недавно заключенный договор с прусским королем; не были ли мы сильнейшим образом обнадеживаны, что они ни во что не вступят, не уведомив нас предварительно? И так как получаемые из разных мест и из самой Швеции надежные ведомости говорят, что в Стокгольме некоторыми господами под рукою уже все распоряжено тотчас по преставлении короля вдруг ввести самодержавие без извещения государственных чинов и что в секретнейшем комитете будто постановлено, что государственные чины до 1751 года собираться не должны, то, когда все это совершится, уже поздно будет с нашей стороны принимать меры. Поэтому мы сочли необходимым поручить вам испросить у шведского министерства особливую конференцию и не только повторить уже сделанные вами прежде словесные представления, но и вновь накрепко декларовать, что хотя мы ничего так усердно не желаем, как с нашими соседями, особенно же с Королевством шведским, пребывать в ненарушимой союзнической дружбе и в откровенном добром согласии, наши обязательства с Швециею верно исполнять и все то, что только к некоторым дальностям повод подать может, рачительнейше искоренять, однако мы если б подтверждающееся везде намерение имелось тотчас по преставлении короля настоящую форму правительства отменить и самодержавие снова ввести, что с соблюдением ненарушимой тишины и необходимого равновесия на Севере отнюдь согласно не было бы, то мы на такую перемену равнодушно смотреть никак не могли бы; но по силе принятых с Швециею Ништадским договором обязательств нашлись бы принужденными в таком важном деле принять участие и употребить наиважнейшие меры для воспрепятствования этой перемене. А чтоб однажды навсегда выйти из настоящего сомнения, чтоб впредь не опасаться нам за свой собственный интерес и вольность шведского народа, то мы считаем нужным прибавить к этой декларации следующее: если б по смерти королевской вздумалось отменить настоящую форму правления в Швеции, то мы для предупреждения всех будущих беспорядков приняли решение: вступить с корпусом наших войск в шведскую Финляндию не как неприятельница, но как приятельница, верная союзница, защитница утесненной шведской вольности по примеру 1743 года, когда мы на собственном иждивении корпус наших войск в Швецию посылали, дабы государство от тогдашних сомнительных внутренних беспокойств и опасности избавить. Этот наш корпус не причинит обывателям Финляндии ни малейшего отягощения, будет содержан на собственном нашем иждивении, в нем будет наблюдаться строгая дисциплина в той, разумеется, надежде, что вся шведская нация эти наши войска примет самым дружественным образом. Если же, паче чаяния, некоторые из шведов по частным корыстным видам вознамерились бы эту нашу полезную предосторожность превратно толковать и в предосуждение своего отечества нам сопротивляться, в таком случае как собственные наши интересы, так и обязательство с Швециею необходимо потребуют, чтоб мы за утесненную вольность нации действительно и сильно вступились и всех тех, которые помыслили б эту вольность нарушить, за изменников своего отечества признавали, следовательно, с ними как с нашими неприятелями и нарушителями внутреннего покоя поступили».
Панину удалось достать постановления секретной комиссии насчет восстановления самодержавия по смерти королевской; пересылая их к своему двору, он жаловался на слабое состояние русской партии: «Их (членов русской партии) настоящая ситуация такого состояния, что они с наилучшим в свете намерением и диспозициею прежде не могут пошевелиться, пока такого щита пред собою не увидят, который бы при самом начатии дела от первого удара со стороны злой партии их мог спасти, чего они тем паче опасаются, ибо их имена весьма знатны суть, и потому они страшатся, чтоб их первою кровию все дело не венчалось». Главная трудность дела, по мнению Панина, состояла в том, что не было способа к составлению хотя немногочисленной, но формальной партии, чтоб всех привесть под одну дирекцию и постановить общую систему, чтоб они могли свои растерянные рассуждения сделать единомысленными и каждый бы прямо знал, от кого он зависит; во-вторых, трудно определить время, образ и обстоятельства, при которых дело должно начаться; они ничего так не боятся, как быстрого и нечаянного для себя удара, и наступающую зиму ожидают с ужасом, а замерзшее море почитают своею могилою. Помогать ему, Панину, они ни в чем не могут, ибо не имеют в делах никакого участия, живут в уединении без сношений друг с другом, а если случится им неожиданно свидеться, то при этом свидании происходят одни рассуждения и вздохи, которые и служат им общею отрадою.
Панин успел достать и реляцию шведского посланника Гепкена из Берлина от 24 ноября 1747 года, в которой описывается следующий разговор Гепкена с Фридрихом II. «Понеже, – говорил Гепкен, – обязательством между сими высокими дворами намерения и авантажи обоих государств (Швеции и Пруссии) так равномерными и неразделимыми учинены, что никакой иной разности, кроме порядка в правительстве, не настоит; того ради и секретный аусшус (комиссия) государственных чинов старался, чтоб в том возможное равенство доставить, дабы обои их величества друг друга с равною властию и равномерною скоростию, когда то потребно будет, во всем способствовать могли. Его королевское величество прусское (пишет Гепкен) о том великое удовольствие оказывал, а особливо понеже он в таком мнении находился, что имевшее его по причине того с графом Тессином советование, как его королевское высочество в Швецию перевезен быть имел, к тому первый повод подало, и его величество присовокупил к тому, что без такой перемены постановленное обязательство в таком состоянии и силе, как оное ныне есть, никогда с безопасиостию прочно пребывать не могло б; однако ж он опасается, что иногда противная партия, которая российского и датского дворов виды подкрепляет, в действительном произведении такого секретного аусшуса полезного распоряжения препятствовать может». Подле этого места канцлер Бестужев сделал заметку для императрицы: «Из него усматривается, что еще при трактовании о супружестве коронного наследника вредительное намерение о введении самодержавства в виду имелось. Ее импер. величеству, правда, невозможно было тогда сего предусмотреть, но Бриммер и Лесток, кои главнейше на сие супружество присоветовали, конечно, о том знали. Только ж канцлер и тогда еще противу того представлял, как то ее импер. величество чаятельно о том припамятовать изволит». 15 июля Панин писал канцлеру Бестужеву: «Я не в состоянии предусмотреть никакого способа, которым бы можно было не допустить прусский двор вмешаться в игру, если только она начнется введением самодержавия; дело кончится здесь прежде, нежели будет получено известие о его начале. Со стороны народа никакой надежды на сопротивление не видно. Добрые патриоты сами собою ни на что не отважатся, пока не увидят себя в безопасности вследствие помощи своих союзников, явившейся среди Швеции; а наступающая зима эту надежду у них отнимает. Если бы возможно было еще нынешнею осенью нечаянно вступить в Швецию с требованием созвания сейма и тем предупредить Пруссию?»
Сношения с Корфом замедлили подачу второй русской декларации против введения самодержавия; когда она была подана, граф Тессин, встретившись 24 августа с Паниным на половине кронпринцессы, стал ему говорить, что прежде подачи формального ответа на декларацию он хочет объясниться с ним дружески по этому делу, и просил, чтоб Панин говорил с ним теперь не как с министром, но как с приятелем, который его особенно почитает за честного человека и благонамеренного министра. «Я спрашиваю, – продолжал Тессин, – у вас совета, каким образом сочинить наш ответ: войдите в наше положение, восчувствуйте тот удар, который такая декларация наносит нам, обратите беспристрастное внимание на независимость, какою должна пользоваться каждая держава». Панин отвечал, что хотя бы он имел и высокое понятие о своих политических способностях, то и тогда не воспользовался бы его учтивостью и не осмелился своими советами предупреждать решение его двора; теперь же тем менее может это сделать, ибо не сознает в себе достаточной к тому способности. Но, желая отвечать дружеской откровенности, он не может скрыть перед ним, что и ему декларация кажется очень важною и достойною всякого внимания; время всего лучше оправдает то или другое и несомненно поставит дело в желаемое положение, почему и тревожиться много не следует, если он твердо уверен, что никакого замысла против правительственной формы в Швеции не существует. Тессин отвечал: «Я чувствую основательность вашего рассуждения и в последнем случае очень спокоен; но примите во внимание тот случай, когда одна держава объявляет другой, что она без всякого требования приняла решение вступать с войском в ее области; как должна последняя держава принять такую декларацию? Каждое правительство должно сохранять внутреннюю и внешнюю тишину своего отечества, причем тогда только обращается за помощью к союзникам, когда сами не имеют к тому способов; но Швеция теперь благодаря Бога такой для себя нужды не предусматривает». «Прежде чем я вам буду отвечать, – сказал Панин, – я попрошу изъяснения на два пункта: 1) возможное ли дело, чтоб вся шведская нация единогласно захотела отменить настоящую форму правления? и, во-2), как вы толкуете седьмую статью Ништадского договора?» Тессин несколько времени собирался с мыслями и потом отвечал: «Первое я считаю совершенно невозможным; а седьмая статья имеет силу, когда бы действительно настоял такой случай и мы потребовали бы русской помощи». «Позвольте вам припомнить, – сказал на это Панин, – что когда я приехал сюда, то вы меня предупреждали насчет существования разных партий в королевстве; мы теперь, например, и можем предположить, что одна из этих партий замыслила по кончине королевской переменить форму правления и произведет это в действие на сейме, имея у себя большинство голосов; спрашивается, от кого ожидать тогда требования относительно исполнения обязательств и можно ли в таком случае предупредить вредное дело? Рассмотрите своим здравым рассуждением, какие бы Россия потаенные и своекорыстные виды могла иметь против Швеции, чтоб пользоваться ей такими вероломными стратагемами? Она не ищет распространения своих границ, чему достаточные опыты имеются, а других каких-нибудь видов и представить себе нельзя. Она может иметь в виду только сохранение всеобщего спокойствия, что несовместимо с переменою формы здешнего правительства, и я могу вас уверить, что когда в Швеции не будут думать об этой перемене, то никогда не увидят в своих пределах соседского войска». Тессин поблагодарил за дружеское объяснение.
Понятно, что в России не хотели употребить решительных мер – посылать войско без всякого требования со стороны шведов; хотели помешать восстановлению самодержавия посредством самих же шведов и потому требовали от Панина, чтоб он поддерживал партию противников самодержавия, и назначили для этого 50000 рублей. Панин должен был повторить: «Так называемые благонамеренные патриоты всегда готовы брать наши деньги; но при настоящем положении здешних дел нельзя ожидать от этого никакой пользы, ибо без прикрытия своих спин они не ополчатся, тем более если они увидят, что все это клонится только к отстранению самодержавия, тогда как у каждого из них другая цель – низвержение господствующей партии и получение знатных чинов и должностей. Если по выключении двух или трех человек по всем другим моим знакомым рассуждать о всем шведском народе, то надобно прийти к заключению, что он не понимает общего блага и пользы отечества, но каждый преследует собственные цели. Зависть и ненависть, с одной стороны, а деньги – с другой, – вот побуждение и хорошего и дурного». К канцлеру Бестужеву Панин писал, что он не имеет искусства и качеств, нужных для составления партии, не может столько обращаться между людьми, ибо нрав его требует уединения, причем и тупоречение препятствует.
30 августа Панин был приглашен на конференцию, где получил ответ на декларации, состоявший в следующем: «Декларация, которую кронпринц недавно издал по собственному соизволению, что он желает оставить неприкосновенною настоящую форму правления, достаточна к уничтожению всякого подозрения. Если же и после того обнаружилось бы какое-нибудь покушение на вольность и права народа, то правительство имеет достаточно средств для сопротивления подобному покушению. Если же, несмотря на это, ее импер. величество без предварительного и формального требования со шведской стороны приказала войскам своим перейти границы, то подобный поступок будет принят за нарушение всенародных прав и за явный разрыв, который понудит Швецию употребить для защиты своей все данные ей Богом средства».
Датский посланник, готовивший также декларацию в смысле русской, узнавши об ответе, испугался и не подал никакой декларации. Панин писал канцлеру Бестужеву: «Вашего высокографского сиятельства ко мне высокая милость и протекция всегда меня дерзновенным пред вами учиняет; но, милостивый государь, при таких мне критических обстоятельствах здешних дел если бы я сей доступи еще не имел, то б как возможно было по сие время мне спастися? Ибо поистине признаюся, что теперь не вижу, как беспорочно наконец освободиться; того ради всепокорнейше прошу милостиво рассмотреть мои слабые мнения. Датский двор довольно оказал свое правило – ко всему склоняться, не производя ничего в действо, и с предосуждением доброй вере искать временных выгод. Может быть, он надеется много и на то, что видит нас с Швециею в таких замешательствах, и надеется этим себя сохранить от опасности, которой когда-нибудь, рано или поздно, может подвергнуться вследствие своего поведения. Правда, еще можно сколько-нибудь надеяться, что на введение в Швеции самодержавия двор этот равнодушно глядеть не может, но он ограничится тем, что не признает самодержавия в Швеции в надежде, что Россия будет действовать против нее всеми своими силами и, таким образом, все бремя шведских дел падет на одну Россию, если только английский двор не будет действовать с нами сообща. Поэтому было бы желательно, чтоб лондонский и венский дворы о здешних делах получили самое ясное понятие, какого они до сих пор не имеют. Весь интерес наших высоких союзников состоит в том, чтоб шведский король сам собою не был в состоянии начать войну, вступить в новые обязательства и умножать свою военную силу. Когда Англия захочет серьезно приступить к делу, то она силою своих денег может много облегчить; в противном случае я не вижу возможности помешать здешнему перевороту, кроме долголетней войны; если же не воевать, то надобно будет осудить себя за исключение из общих европейских дел, ибо как скоро здесь характер правления переменится, то России придется думать только о собственных своих делах. Признаюсь пред вашим высокографским сиятельством, что моя нынешняя жестокая здешняя жизнь кажется мне бесплодною».
Известный советник Фриденстерна предлагал Панину ввести в Финляндию корпус русского войска с опубликованием причин этого поступка и созвать сейм в Финляндии, на что эта страна имеет полное право. Панин писал императрице, что он в этом предложении находит некоторое основание, ибо в прошлом веке особые финляндские сеймы бывали. В то же время Панин доносил о намерении господствующей партии заставить короля подписать отречение от престола в пользу наследного принца, что сделать легко по душевному и телесному состоянию короля, который подпишет акт не читая. Панин переслал в Петербург и копию заготовленного уже акта отречения. Венский двор хлопотал, чтоб шведское правительство издало обнадеживательский акт, что правительственная форма изменена не будет; когда австрийский резидент упомянул о необходимости этого акта французскому послу, то последний заметил, что такой необходимости нет, ибо седьмой параграф Ништадского мира никакого действия иметь не может: он в Абовском трактате не повторен, а между всеми державами в обычае последними трактатами именно и специально обозначать прежние обязательства.
Между тем Панин получил из России 50000 рублей, назначенных для сформирования партии. Несчастный посланник не знал, что с ними делать, и писал канцлеру Бестужеву: «Ваше высокографское сиятельство, конечно, сами просвещенно ведать изволите, что с одними так называемыми добрыми патриотами ничего начать нельзя в надежде доброго успеха. Другое дело, если б мы имели в Сенате одного или двух достойных вождей; опыт доказал, как недостаточно управление партиею посредством иностранного министра, хотя бы он обладал гораздо большими для того качествами, чем я. Может служить примером и противная здешняя партия: она, конечно, не французскими министрами, но внутренними ее вождями управляется и содержится и укоренение свое в делах получила чрез сенаторский подкуп; напротив того, наша сторона как скоро в 38 году потеряла свою силу в Сенате, то после при разных и очень полезных случаях не могла поправиться. Не вижу другого способа к начатию формирования партии, как подкуп двоих или троих сенаторов, которые бы имели все нужные для вождя партии качества и взяли на себя дело составления партии, и так как время сейма еще не близко, а дело требует больших расходов, то английский двор может здесь своим золотом преодолеть силу Франции». Больших хлопот стоило провезти деньги в Стокгольм, чтоб утаить их от таможенных чиновников. Гвардейский каптенармус и переводчик привезли их из Копенгагена. Переводчик оставил своего товарища с деньгами за воротами Стокгольма, а сам приехал к Панину. Тот выехал с секретарями своими на охоту и остановился ночевать в трактире, где жил курьер с деньгами, под предлогом болезни; ночью перенесли сумы с деньгами в комнату посланника, который вместе с секретарями надели их на себя под епанчи и таким образом провезли в город.
Панину предстояло еще тяжелое дело – подать третье требование своего двора шведскому правительству. 26 октября императрица апробовала следующий рескрипт к нему: «Мы из ваших донесений усмотрели, каким образом вы учинили вторичную декларацию шведскому министерству и какой неудовлетворительный для нас ответ дан вам королевским именем. Мы за наилучшее изобрели требовать, чтоб шведский двор вступил с нами в особливую негоциацию для постановления торжественной конвенции, чтоб Швеция нынешнюю форму правления отнюдь и ни под каким видом не отменяла, напротив чего мы обязались бы не только эту форму правления, но и установленное там наследство гарантировать и пригласить к той же конвенции все дворы. При вручении этой промемории вам подается наилучший способ – содержание ее подкрепить дальнейшими рассуждениями и явственно показать, как неприличен данный с шведской стороны ответ и как этот новый с нашей стороны поступок свидетельствует о наших прямо дружеских к шведскому двору чувствах, особенно к наследному принцу, ибо, кроме того что мы ревнуем о соблюдении прав и вольности соседственной нам нации, мы не хотим допустить, чтоб принц, покусившись когда-нибудь их нарушить, преступил учиненную им присягу и тем в начале своего правления возбудил ропот целой нации, любящей свою вольность, и сделал бы это принц, в возведении которого в его достоинство мы принимали такое участие. Это довольно показывает, основательны ли были рассеянные повсюду злостные слухи, будто мы старались ниспровергнуть наследство, нами самими установленное, когда мы стараемся заблаговременно отвратить и то, что могло бы служить поводом к такому ниспровержению. Теперь шведскому министерству представляется последний случай показать нам искренность тех уверений, какие оно нам не переставало твердить: им стоит только вступить в предлагаемую конвенцию, что им сделать легко, когда они обнадеживают не иметь никакого помышления об отмене нынешней формы правления; это для них и выгодно, ибо они разом освободятся от беспокойств, в каких их содержат продолжающиеся со всех сторон вооружения».
Канцлер писал Панину: «Я вашему высокоблагородию откроюсь, что мы, подлинно осмотрясь, никакого скоропостижного без рассуждения поступка не сделаем и первые в огонь не бросимся, хотя при том и всегда готовы будем ко всему тому, чего обстоятельства и сходство всевысочайших интересов потребовали б. Я верю, что господа датчане больше всех ошибутся, да и не худо, чтоб они ошибку свою прямо почувствовали. Ее импер. величество со всем тем, однако ж, всевысочайше намерена к датскому двору ни малейшей наружной отмены в своих сентиментах не показывать, но паче стараться, что ежели б начатую с оным негоциацию о шведских делах пресечь должно было, то таким образом сделать, чтоб датский двор тому виновным оставался; а впрочем, что до шведов самих принадлежит, то хотя мы и по действительной отмене их формы правительства первые войну с ними начать не намерены, а еще меньше не учиня с союзниками нашими предварительного соглашения, однако ж когда с здешней стороны в нынешней вооруженной позитуре останемся, то, может быть, сие одно довольно сильным способом будет шведов самих о том в раскаяние привесть и иногда до того достигнуть, что сами ж они принуждены были б паки нынешнюю форму правления восстановить, когда собственные их подданные, и без того великими налогами и податьми отягощенные, продолжаемым для того далее непрестанным вооружением в совершенное отчаяние приведены будут и против самовластного правительства восстанут, еже толь имовернее есть, ибо известно, что они ни третьей доли того не снесут, еже ее импер. величество без всякого труда в действо произвесть может. Все сие единственно для собственного вашего известия остаться имеет, а впрочем, нимало не препятствует, чтоб ваше высокоблагородие по прежде данным вам наставлениям не старались благонамеренных в Швеции сколько можно ободрять и их при лучших сентиментах содержать. Ничего лучше быть не могло б, как, приобретя Финляндию, шведов с датчанами их жребию оставить; но происходящие иногда оттого следствия не толь легко предвидеть можно, как бы такое предприятие требовало; но паче опасаться надобно, что таким образом и самые наши союзники не только за случай союза не признали б, но паче мы наступательною стороною признаны быть могли б. Впрочем, я охотно и совершенно вступаю в рассуждение вашего высокоблагородия касательно до жестокой тамо вашей жизни. Но ваше высокоблагородие противу того сами ж рассудить изволите, такие ли ныне обстоятельства, чтоб ее импер. величество могла, хотя на малое время, оттуда взять такого человека, на верность которого ее величество полагаться изволит и искусство его к нынешнему соглашению тамошних дел весьма нужным находит».
Письмо было очень лестно; но с Панина не слагалась обязанность иметь дело с «благонамеренными», которые, по его мнению, никуда не годились, и он должен был подать третью декларацию, от которой не ждал никакой пользы.
Третья декларация была отдана Паниным шведскому министерству 4 января 1750 года; ответ получен был 26 числа того же месяца и состоял в решительном отказе вступить в какую-либо конвенцию относительно формы правления. Так как Австрия и Саксония подкрепляли предложение русского двора, то шведское министерство объявило, что король для уничтожения в Европе всякого сомнения относительно своих миролюбивых намерений гарантирует всеми своими союзниками, что он первый никогда мира не нарушит, и если русский двор примет эту гарантию и с своей стороны даст такую же, то спокойствие сейчас же восстановится. Панин переслал канцлеру свое мнение, что такою гарантиею Россия совершенно отказалась бы от права противодействовать перемене правительственной формы. Шведы хорошо знают, что русский двор поймет, в чем дело; но им хочется усыпить союзников России, которые, быть может, не так далеко проникают в шведские дела, могут смешать перемену правительственной формы с нарушением мира и ослабить свое внимание, так что Россия одна останется занятою шведскими делами, что для Франции и Пруссии очень желательно. Весь беспристрастный свет должен признать, что противовесие Франции заключается в силах одной России, которой при шведской перемене нельзя будет принимать большого участия в общих делах для пользы своих союзников. Одно средство однажды навсегда приобресть безопасность и со славою окончить принятые относительно Швеции меры – это получить от наших союзников формальную гарантию насчет ненарушимости шведской формы правления, причем в особом секретном акте обозначить все касающиеся дела пункты, отменою которых может быть нарушена общая система равновесия, и при таком нарушении постановить признание союзного случая (casus foederis). Этим рассмотрением нынешний образ шведского правления введется в генеральную форму всей Европы и господствующая в Швеции партия лишится возможности называть ее домашним делом. Это выражение – «домашнее дело» – может иметь силу в юридических школах между простым народом, а не в кабинетах держав. Бестужев отвечал на это благорассудительное мнение, что его нельзя довольно выхвалить. «Я, – писал канцлер, – не оставил бы стараться надлежащее по оному употребление учинить; но, зная, вашему высокоблагородию, может быть, не так сведомые диспозиции наших союзников, я предусматриваю, что сей хороший план и чрез долгое время своего совершенства едва достиг бы. Прошедшая война их так засуетила, что они поныне ни о каких посторонних делах помышлять не хотят, по меньшей мере ни на что не поступят, не протягивая вдаль, еже не иначе как противной стороне повод подавали б тому перечить, умалчивая, что Англия и без того едва похотела б шведскую форму правительства (гарантировать), не приглашая к тому Франции. Таким образом, легко сделаться могло б, что чинимые нами о том пропозиции втуне остались бы, следовательно, теперь наилучшее есть, находясь по всяким происшествиям в готовности, смотреть и обождать, какое течение дела примут, потом уже свои меры принимать. Когда наши союзники, а именно венский, лондонский, копенгагенский и дрезденский дворы, на учиненные от нас им по шведским делам представления и требования никакого удовольствительного ответа не дали, то и мы все учиненные от них здесь по тем же делам пропозиции в молчании оставлять будем, дабы они и самым малейшим с здешней стороны ответом не делали себе меритов (заслуг) ни при шведском, ни при французском, ниже прусском дворах, а еще меньше все о наших намерениях известны были. Постараемся лучше одни, елико можно, целость наших интересов наблюдать».
Особенно поведение Англии заставляло думать о том, как бы «одним целость наших интересов наблюдать». В Лондоне Чернышев объявил герцогу Ньюкестлю, заведовавшему сношениями с северными государствами, что императрица надеется в случае если Швеция не обратит никакого внимания на представления России о неперемене формы правления и Россия будет принуждена исполнять обязательства Ништадского договора, то Англия признает здесь случай союза и не откажет в помощи. Ньюкестль отвечал, что сомневается, чтоб Франция допустила Швецию заключить с императрицей какую-либо новую конвенцию о форме правительства; французский двор находится в твердом мнении, что сделанное коронным шведским наследником объявление достаточно для успокоения всего света, что в Швеции и не помышляется о введении самодержавия; Франция отказалась исполнить требование лондонского двора – склонить шведское правительство внести небольшую перемену в манифест коронного наследника для большого разъяснения дела; Франция основала свой отказ на том, что такие требования относительно внутренних дел неприличны и достоинству Швеции как вольной державы предосудительны; к этому французский посол прибавил, что очень жаль, если сделанная Швециею успокоительная декларация не будет иметь успеха и на Севере возгорится война, ибо пламя этой войны распространится по всей Европе. Когда Чернышев подал промеморию о том, что Панин представил шведскому правительству третью декларацию, то Ньюкестль сказал, что в ответе на промеморию будет заключаться просьба английского правительства к императрице, чтоб она удержалась относительно Швеции от всяких поступков, которые могут казаться наступательными, тем более что лондонский двор не может признать случая союза и, следовательно, обязанности помогать России, когда последняя введет свое войско в Финляндию единственно из досады, что Швеция откажется заключить требуемую от нее конвенцию относительно перемены правительственной формы. Чернышев выразил удивление относительно того, как этот ответ на его промеморию мало согласуется с теми искренними союзническими чувствами, которые лондонский двор много раз выражал императрице; Чернышев ставил на вид, как Англия заинтересована в этом деле не только относительно политического равновесия, о котором она так заботится, но и относительно своей торговли; и та и другая потерпят ущерб, если в Швеции восстановится самодержавие. «Я совершенно с вами согласен, – отвечал Ньюкестль, – для Англии крайне важно, чтоб в Швеции не было восстановлено самодержавие, и нашему двору очень приятно, что для недопущения этого императрица держит войско наготове; но у нас еще не усматривается никакой необходимости, чтоб императрица велела своим войскам предпринять наступательное движение, наш двор не имеет доказательств, могущих его удостоверить, что Швеция действительно намерена изменить свою правительственную форму; коронный наследник, для которого такая перемена должна произойти, не может вступить на престол, пока старый король еще жив. Французский двор продолжает уверять, что перемены никакой не последует, что об этом там и не думают, а если б что-нибудь подобное затевалось, то он сам готов тому сопротивляться как делу, не согласному с его интересами. С другой стороны, маркиз Пюизие объявил нашему посланнику лорду Альбемарлю, что если Россия действительно, как грозится, двинет свои войска в Финляндию, то Франция союзника своего не оставит, но вместе с прусским королем немедленно подаст ему помощь. Я вам скажу откровенно, – продолжал Ньюкестль, – что наш двор, недавно освободившись от разорительной войны, теперь ни под каким видом в новую войну вступить не склонен, да и не в состоянии по усилившемуся государственному долгу, не поправя своих финансовых дел; вот почему наш двор и считает своею главною обязанностию не давать вашему двору обещаний, каких сдержать не в состоянии, и потому должен отвлекать императрицу от всего того, что могло бы повлечь к войне, тем более что Россия может иметь против себя Францию, Швецию, Пруссию и даже Турцию. И венский двор согласен с нашим взглядом».
Герцог Бедфорд, заведовавший сношениями с южными государствами, еще раз объявил Чернышеву, что если Россия начнет войну с Швециею, то Англия не примет в ней никакого участия, случая союза по договору не признает, по крайней мере он, Бедфорд, в королевском совете будет настаивать, чтоб случай союза не был признан. Англии нельзя втягиваться в новую войну по причине громадности своего долга. При этом он высказал неудовольствие, что императрица без ведома его двора велела подать Панину третью декларацию. «Я, – говорил Бедфорд, – совершенно согласен с французским двором, что декларация наследного принца достаточна для успокоения; никакая конвенция большого ручательства не даст, и я не уверен, чтоб императрица по Абовскому договору имела право требовать от Швеции больших ручательств».
Чернышев уговаривал обоих герцогов, чтоб они не очень боялись французских угроз, которые останутся недействительными при твердом союзе между Россиею, Англиею и Австриею; у Англии есть лучшее средство прекратить французские угрозы – это дать на русскую промеморию благоприятный ответ. «Я, однако, не надеюсь, – писал Чернышев, – чтоб мои представления имели какой-нибудь успех. Сомнения мои основываются на следующем: во-первых, на страхе английского министерства пред новою войною; во-вторых, на великой экономии в расходах, которая теперь здесь наблюдается; в-третьих, на несогласии министров в королевском совете, которое производит остановку в иностранных делах». В следующих депешах Чернышев между прочим извещал свой двор о разговорах Ньюкестля с посланником прусским. Последний внушал, что английский король должен употребить свое старание при русском дворе для отвращения императрицы от нападения на Швецию; в противном случае король его не может быть равнодушным и будет принужден по оборонительному договору с Швециею подать ей помощь. Ньюкестль отвечал ему, что у Англии с Россиею оборонительный союз и потому если Россия начнет с Швециею наступательную войну, то Англия в этой войне участия не примет.
Чернышев был очень недоволен этим ответом английского министерства, Панин был очень недоволен пунктами внушений, представленными шведскому министерству от другой союзницы России, Австрии. В этих пунктах говорилось, что римская императрица не может представить никаких новых способов к соглашению между Россиею и Швециею и ожидает с шведской стороны, не сыщутся ли такие способы, которыми бы возможно было как можно скорее установить тишину. Римская императрица обещает без требования или предписания представить русской императрице, не может ли она удовольствоваться шведскими обнадеживаниями и приказать отвести от границ своих лишние войска. Шведское министерство отвечало благодарностью за попечение о мире и просьбою о продолжении этих попечений. Шведский король, говорилось далее в ответе, утешает себя надеждою, что дела уладятся мирно, тем более что подозрение насчет перемены правительственной формы совершенно неосновательно; это доказывается известным манифестом наследного принца 12 июля 1749 года, и хотя манифест касался только шведских подданных, однако по своей сущности достаточен для удовлетворения России и других держав. Других способов удовлетворения без предосуждения своей независимости Швеция не знает.
Панин был недоволен австрийскими внушениями, но когда ему прислали из Петербурга копии чернышевских донесений, то поведение венского двора сравнительно с поведением лондонского показалось ему уже достойным похвалы. «Наши союзники, – писал он канцлеру Бестужеву, – могут быть извинены тем, что в рассуждении внутреннего состояния своих государств стараются посторонние дела вдаль протягивать и для того желают утишить настоящие замешательства; но тем не менее английское министерство в своем поведении оправдаться не может, ибо оно, уважая так мало искренность пред своими союзниками, ослабляет систему равновесия и тем противной стороне подает повод поступать с большею дерзостию. Как кажется, венский двор не теряет из виду последнего пункта и как ни усердно старается успокоить северные дела, однако по сие время не сделал ни одного поступка, которым бы мог поднять головы своим противникам, но при каждом отзыве мужественно оказывает твердость своей системы. Венский двор в своем рескрипте к здешнему резиденту сильно осуждает поступок английского министерства, тем более что он сделан так публично и обнародован всеми газетами».
В сентябре Панин виделся с знаменитым прежде главою колпаков стариком Окергельмом, который приезжал на время в Стокгольм. Окергельм в откровенном разговоре о состоянии Швеции объявил, что если Россия оставит Швецию ее собственному жребию, то тем скорее приведет к упадку господствующую партию. Императрица сделала все возможное и должна спокойно ожидать событий, в необходимом же случае поступить согласно с своими декларациями и тогда, конечно, найдет сочувствие в целом шведском народе, который ничего так не опасается, как войны с Россиею. Франция не так щедро будет расточать свои деньги, если русский двор не станет производить никакого движения. Все те, которые России обещают на будущем сейме золотые горы, имеют в виду только обогатиться ее деньгами; опыт показал, как трудно и бесполезно иностранному министру управлять здешними земскими делами, ибо в конце он непременно будет обманут, особенно министр русский, ибо в действительности Россия очень мало имеет здесь истинных друзей; для главного управления делами необходимы из шведов знатные, способные и влиятельные люди; но таких он, Окергельм, не знает никого, что же касается до него самого, то он покорнейше просит оставить его в забвении, ибо не признает в себе ни малейшей к таким делам способности. Русскими деньгами ничего сделать нельзя; другое дело, если будут действовать морские державы в твердом соединении с венским двором: они могут силою денег искать себе друзей и среди французской партии и вообще могут действовать с большим успехом, чем кто-либо другой, ибо система их никогда не может быть соединена с зависимостью Швеции. Настоящая форма правления прочна по крайней мере на несколько времени; господствующая партия не может теперь ее нарушить без ускорения собственной погибели, если только русский двор останется при твердом намерении исполнять свои декларации.
В ответном рескрипте на донесение о разговоре с Окергельмом говорилось, что мнения Окергельма сходятся с мнениями императрицы, именно, сделавши все то, что благодеяниями можно было сделать: предоставить шведов их собственному жребию и быть в готовности действовать, когда безопасность русских границ того потребует. «Действительно, опыт показал, – говорилось в рескрипте, – что употребляемые в Швеции с русской стороны деньги служат только к тому, что заставляют Францию высылать еще больше денег и таким образом еще больше укреплять шведов против нас. Мы не хотим сами питать их ненависть против себя и потому повелеваем вам поступать таким образом, чтоб злонамеренные, да и почти все шведы видели нежелание ваше искать их благосклонности; вы можете при случае велеть им внушать, что вы французские деньги деньгами же перевешивать не хотите. Это, однако, не связывает вам рук продолжать знакомства, служащие вам к получению нужных известий, и делать издержки, которых требует наша служба».
Более всех других держав русским движениям в Стокгольме должна была сочувствовать Дания из страха перед усилением Швеции посредством самодержавия; но Дания была держава слабая и потому не могла действовать так решительно, как Россия, должна была поступать осторожно, озираться на все стороны. В конце января 1749 года сам король объявил Корфу, что сущность конвенции между Россиею и Даниею должна заключаться в двух пунктах: 1) Россия должна препятствовать прусскому королю в угоду шведов напасть на датские области, совершенно открытые; 2) должна быть лучше определена граница между Даниею и Швециею, ибо хотя императрица великодушно объявила, что никаких завоеваний для себя от Швеции не желает, но датские границы очень мало защищены от шведских нападений, а шведы такие соседи, которым никогда верить нельзя. После этого король с час разговаривал о шведском и прусском дворах. Корф писал, что из этого разговора можно было приметить в короле мало высокопочитания к прусскому двору, а против шведского, особенно против министерства, казался он очень раздраженным и, между прочим, сказал: «Удивительное дело, что шведский двор присылает сюда всегда таких министров, которые могут быть названы прямыми банкрутами честности, таков Тессин, таков Палмстерна, Гепкен и настоящий Флемминг, у которого такая злость и коварство на лице написаны, хотя неизвестно, умеет ли он говорить, потому что при всех случаях заставляет говорить за себя французского министра». При всем том, писал Корф, король не изъяснился ни о тех способах, какими здесь думают удержать прусского короля от вмешательства в шведские дела, ни о том, какую границу им хочется иметь со стороны Швеции.
На другой день после этого разговора министр Шулин прочел Корфу конвенцию: Россия и Дания согласились препятствовать всеми средствами введению в Швеции самодержавия и потому обязуются с обеих сторон выставить на шведских границах войско и вооружить флот; если бы Швеция вознамерилась передвинуть финляндский корпус к норвежским границам для действий против Дании, то Россия обязана сделать диверсию своими галерами в Швеции и тем поставить последнюю между двумя огнями; если прусский король соберет войско вблизи датских границ, то Россия выставляет сильный корпус на курляндских границах, датский король в таком случае сосредоточит наибольшую силу в Голштинии, а против Швеции воевать только оборонительно; если прусский король нападет на Данию, то Россия объявляет ему войну и не положит оружия прежде, чем Дания будет приведена в совершенную безопасность; Россия должна склонять кронпринца шведского, чтоб он за себя и за своих потомков отказался от Шлезвига и Голштинии; Дания должна получить все то, чего она лишилась по миру в Бремзебро. Все эти пункты должны содержаться в тайне.
Король, по уверению Корфа, желал тесного сближения с Россиею по шведскому делу; но министр Шулин был французской партии и хитрил: наружно не противился конвенции и притворялся, что совершенно согласен с намерениями королевскими, а между тем старался выиграть время, вымышляя всякие предлоги к остановке дела, и желал дождаться таких обстоятельств, которые были бы в состоянии ниспровергнуть всю машину и сохранить в Дании французскую систему.
В апреле у Корфа с Шулиным был разговор по поводу объявления, сделанного Франциею британскому двору, что Франция сама будет стараться сохранить настоящую правительственную форму в Швеции и потому согласна доставить всякое обеспечение державам, принимающим в этом участие. Корф заметил, могут ли Россиян Дания ожидать такого обеспечения от державы, которой приверженцы в Швеции приняли все меры для восстановления самодержавия; внутренняя слабость злонамеренной партии для успеха в таком трудном предприятии известна, и потому можно вывести естественное заключение, что вожди партии составили означенный план не без ведома и не без предварительного совета с Франциею. Корф подозревал, что Шулин сам принимал участие в декларации, сделанной Франциею, чтоб доставить ей свободнейшие руки в северных делах и усилить возможность возобновления французского субсидного договора. На замечание Корфа Шулин несколько помедлил ответом; потом, собравшись с мыслями, сказал, что и английский король считает такое обеспечение надежным и думает, что получит его от Франции. Корф не продолжал разговора, боясь подать повод заключить о каком-нибудь беспокойстве со стороны русского двора; по его мнению, некоторым равнодушием можно было в Копенгагене больше выиграть, чем усильным старанием. Вслед за тем Шулин пригласил Корфа на конференцию и прочел ему рескрипт короля к датскому министру в России Шезу, состоявший в следующем: король великобританский велел сообщить, что, видя опасные признаки беспокойства на Севере, он велел представить обоим императорским дворам, что Англия по окончании столь тяжкой войны с Франциею может помочь своим союзникам только в том случае, когда на них нападут в их собственных владениях; тем меньше он склонен принять участие в действиях против установленного в Швеции порядка наследства, ибо в таком случае начнется общая война на Севере, причем Франция и Пруссия, по всем вероятностям, получат верх. Вот почему английский король не может не отсоветовать таких намерений своим союзникам, в том числе и королю датскому. Необходимо смотреть неусыпно, чтоб нынешняя правительственная форма в Швеции была сохранена, но сделанные в Стокгольме русским и датским дворами декларации на первый раз достаточны. Французский король велел обнадежить английский двор, что и он сам будет стараться сохранять существующую правительственную форму в Швеции и готов доставить в этом отношении обеспечение всем державам, принимающим участие в деле. Король прусский также велел повестить, что, по сделанному ему объявлению от русской императрицы, вооружения с ее стороны производятся не для обиды кому-либо, но только для предосторожности, на случай, если б явилась опасность для спокойствия на Севере; хотя этим объявлением темное облако, нашедшее на Север, казалось, начало исчезать, однако недавно явилась в Стокгольме русская декларация, следовательно, опасность от непогоды еще не совсем миновалась; поэтому прусский король желает знать намерения датского короля относительно этого дела. И французский король, продолжал Шулин, велел здесь объявить, что из датских вооружений на норвежских границах и из тесной дружбы между Даниею и Россиею его король возымел подозрение, не клонятся ли датские вооружения против Швеции; король объявляет, что в таком случае он будет помогать Швеции.
Дания отвергла субсидный и оборонительный трактат с Англиею и заключила его с Франциею на том основании, что Англия требовала за свои деньги корпуса вспомогательных войск, а Франция не требовала. Шулин, объявляя об этом Корфу, уверял, что этим трактатом с Франциею король его никак не связывает себе рук относительно Швеции, ибо когда французский посланник допытывался, как поступит Дания в том случае, если самодержавие в Швеции будет восстановлено на сейме с согласия всех чинов, то ему отвечали: если будут хотя три человека в Швеции против перемены, то Дания будет их защищать. В августе Корф писал в Петербург, что Дания хотя немало опасается шведского переворота, однако не будет принимать серьезных мер прежде кончины шведского короля. Трудно ожидать, чтоб датский король в таком важном деле решил что-нибудь один, без министерства, ибо для этого требовались бы качества, которые даются опытностию и летами; английский посланник во время своей негоциации имел довольно тайных аудиенций, с которых уходил всегда с добрыми обнадеживаниями от короля, но Шулин умел обратить в ничто эти обнадеживания. Корф, чтоб выпытать у Шулина его мнение о шведских делах, завел речь о строении шведами крепости в Ландскроне, указывая, что это не может оставаться без опасных следствий для Дании, особливо когда восстановлено будет самодержавие. Шулин отвечал, что крепостные постройки в Ландскроне требуют долгого времени и громадных издержек, а впрочем, нельзя отвергать, что это предприятие не может быть приятно для Дании. Потом Корф склонил речь на слухи, что в конце года будет создан в Стокгольме чрезвычайный сейм для восстановления самодержавия – дело легкое при совершенном падении патриотической стороны. Корф спросил у Шулина, какие, по его мнению, нужно было бы принять меры в таком случае. Шулин отвечал, что между Россиею и Даниею еще не последовало по этому важному предмету никакого соглашения и потому он не имеет обязанности объявлять своих мнений: но так как дело идет об интересе одинакой важности как для России, так и для Дании, то он скажет свое мнение, но только как частный человек. Я думаю, продолжал Шулин, что сделанные со стороны России и Дании военные приготовления на шведских границах достаточны для удержания злонамеренной партии в ее замыслах, эти господа легко могут видеть, что рискуют потерять свои головы, и кронпринц рискует потерять престол и быть выгнанным из Швеции; злонамеренная партия очень хорошо знает, что от Франции, кроме некоторой суммы денег, она никакой помощи не получит. Король прусский, быть может, пришлет свое выговоренное в трактате вспомогательное войско, но нельзя думать, чтоб он далее захотел вмешаться в дело. Несмотря на то, надобно внимательно следить за движениями злонамеренной партии, и я уверен, что король, мой государь, в известном случае безотлагательно примется за оружие и вступит в Швецию, хотя бы конвенция с Россиею и не была заключена, в надежде, что императрица, соблюдая собственный интерес, сделает то же самое.
Корф выпросил себе тайную аудиенцию у короля, которая происходила 3 сентября. Корф представил, что тайный комитет прошлого шведского сейма уже подписал акт введения самодержавия, отложив исполнение до будущего сейма. Теперь надобен только удобный случай, который доставит позднее годовое время, когда злонамеренные не будут опасаться никакого препятствия со стороны иностранных держав и при совершенном утеснении патриотов безопасны и относительно внутреннего сопротивления; и в какое положение тогда были бы приведены интересованные дворы, если бы движения злонамеренных заблаговременно не были предупреждены, – это он предоставляет священнейшему проницанию его королевского величества. Императрица не намерена оставить без внимания такое важное дело и не сомневается, что и его величество также к нему внимателен и не откажет сообщить на его счет свои виды. Король отвечал, что он никак не может допустить перемены правительственной формы в Швеции и хочет сопротивляться этой перемене всеми своими силами, почему и сделал все нужные распоряжения в Норвегии; только он признает себя обязанным вследствие своей декларации не предпринимать ничего подобного наступательному движению до тех пор, пока злонамеренные действительно что-нибудь затеют; его цель – сохранить спокойствие на Севере, и потому никак не желает подать повод к войне каким-нибудь поступком, который бы мог быть истолкован как обида. Он надеется, что императрица совершенно согласна с ним в этом отношении, и он надеется, что дело не дойдет до войны, ибо извлеченная уже до половины на шведских границах шпага может привесть злонамеренных на другие мысли. Впрочем, он просит уверить императрицу, что всегда будет поступать как истинный союзник России, убежденный в пользе и естественности этого союза; начатые негоциации с Франциею и Швециею не содержат в себе ничего, что могло бы ослабить его: первая касается только получения хорошей суммы денег без связывания себе рук; вторая же состоит единственно в. возобновлении старого трактата. «Было бы несогласно с моим достоинством и интересом, – продолжал король, – если б я заключил новые договоры, которые были бы противны обязательствам моим с императрицею. Я не мог принять предложения Англии, во-первых, потому, что эта держава в мирные времена больших субсидий давать не привыкла, во-вторых, потому, что она выговаривала себе помощь войсками, а я не могу из моей армии отправить ни одного человека: мои норвежцы надобны мне против шведов; из голштинских войск мне нельзя ничего дать, ибо я не знаю, что окажется с той стороны». Корф заметил, что король относительно германских своих владений может опасаться только со стороны Пруссии и в этом отношении английский субсидный трактат доставил бы полную безопасность. Король отвечал, что этого можно достигнуть, если Англия вступит в союз, не требуя, чтоб Дания лишилась французских субсидий. «Это рассуждение чрезвычайно странное, – писал Корф, – хотят на Англию наложить обязанность заботиться о здешней безопасности в то самое время, как отвергают ее дружественные предложения и дают предпочтение другой державе; из этого видно, какие слабые правила старается внушить министерство этому молодому государю».
23 ноября Корф был приглашен на конференцию к министрам, которые объявили ему, что так как шведский наследный принц недавно публикованным актом в самых сильных выражениях высказался против перемены правительственной формы и так как императрица – королева венгерская обещала стараться о выдании со стороны шведского правительства другого подобного же акта, то датский двор признал излишним заключить по этому предмету особую конвенцию с Россиею: большая часть европейских держав тем или другим способом принимает участие в сохранении настоящей формы шведского правления, и если Россия с Даниею вступят в особые обязательства, зависящие от будущих и неподлинных случаев, то это может возбудить в других державах зависть и подозрение, что было бы более вредно, чем полезно, для сохранения тишины на Севере.
Корф приписывал такой оборот дела Шулину; канцлер Бестужев соглашался с ним, но советовал быть осторожнее относительно могущественного министра. «Принятые г. Шулином странные меры, – писал Бестужев, – меры, которые интересу короля навсегда останутся вредны, нимало не удивляют, ибо я имел случай познать с прежних еще времен превратные его мысли и совершенную преданность к Франции; почему я ему всегда не доверял, и с самого еще начала, когда тайная негоциация началась, невзирая на то что первое предложение учинено с датской стороны, никакого добра от него не надеялся. И действительно, в мнении своем не ошибся, ибо он внезапно уничтожил всю негоциацию и мнение свое в рассуждении теперешней формы правления основал только на чаянии и легко опровергаемых мнениях, в чем последовал предписанию французского двора с точностию. Я имею у себя достоверное известие, что г. Шулин испрашивал у французского двора совета, привести ли начатую негоциацию к желаемому концу, в чем ему непристойным образом отказано и запрещено. Из сего, следовательно, легко заключить можно, какую французский двор над ним имеет силу, когда рассудить, что он в угодность оному старался датский двор отщетить от нашего и возбудить между обоими несогласие… Я слышал также помощию некоей посторонней переписки, что ваше превосходительство изволили у некоторых тамошних ваших приятелей называть г. Шулина пенсионером Франции. Ваше превосходительство можете легко себе представить, что если сие дойдет до ушей г. Шулина, то он, спасая честь свою, подговорив двух свидетелей, потребует от вас отчета; и вашему превосходительству трудно будет доказать, поелику тот министр, который берет мзду, свидетелей удаляется; а между тем он, раздражен будучи вашим попреком, и при жалобе своей последует примеру графа Тессина. В тогдашнее время стоило мне несчетных трудов ваше превосходительство из бывших замешательств с честию освободить. Если же последуют теперь от датского министерства какие-либо жалобы, то ваше превосходительство можете себе представить ту досаду, которую я иметь буду за то, что вас на теперешнее ваше место рекомендовал, также и то, что я вас поддерживать не в состоянии буду. Сей случай подал бы зломыслящим шведам повод к оправданию своея бесполезныя на вас жалобы: Вашему превосходительству известна моя к вам искренняя дружба по многим обстоятельствам, для которой я вам теперь и открываюсь чистосердечно. Качество господина Шулина мне давно известно, род мыслей его не годится ни к чему, он исполнен коварства; однако ж влияние его при тамошнем дворе и кредит у короля в таком состоянии, что должно ему всевозможным образом уступить, чтоб противным чем-либо не огорчить его и чрез то не привести оба двора в расстройку. Я советую вашему превосходительству г. Шулину уступать, столько ласкать и подавать вид старания, войти к нему в приязнь, чтоб приятые им о вас худые намерения уничтожить и привесть в недоумение. Такими поступками всего лучше можно выиграть. Я уже найду способ за ваше превосходительство и за себя отмстить сему коварному министру, отмстить столь чувствительно, чтоб он вечно ощущал досаду, а может быть, удастся мне свергнуть его с места; но я сие сообщаю вашему превосходительству за сокровеннейшую тайну».
10 декабря Корф имел разговор с самим королем. «Я надеюсь, – сказал Фридрих V, – получить радостную ведомость о возвращении ее импер. величества в Петербург: хотя и эта столица довольно далеко от нас, однако когда императрица в ней находится, то мне кажется, что я ее особу больше в соседстве имею и что дела тем много выиграют, особенно при нынешних обстоятельствах на Севере. По крайней мере из декларации шведского наследного принца следовало бы заключить, что шведы сами нуждаются в сохранении мира, да и старания других дворов к тому же клонятся». Корф отвечал, что известия из Стокгольма удостоверяют его, что манифест коронного наследника надобно признать хитростию французской партии, употребленною для успокоения его датского величества и разъединения с русскою императрицею. Что же касается иностранных держав, старающихся при шведском дворе о соблюдении тишины на Севере, то между ними надобно отличить такие, которые имеют влияние на шведские дела, и такие, которые его не имеют: к последним принадлежат римско-императорский двор, которого представления имели мало успеха, также и великобританский, а к первым – Франция и Пруссия, которые согласились помогать злонамеренным шведам в перемене правительственной формы. «Если шведское министерство, – сказал король, – имело в виду при печатании известного манифеста разделить Данию с Россиею, то ошиблось, ибо я вполне признаю необходимость союза между обоими дворами и прошу вас удостоверить ее императ. величество, что я хочу способствовать всеми средствами сделать узел такой необходимой дружбы неразрывным, прошу и вас не переставать стараться об этом; что же касается французского и прусского дворов, то я не могу понять, какой им интерес в восстановлении самодержавия в Швеции». Корф писал, что он ясно доказал, что Франция и Пруссия имеют в этом сильный интерес, и король не мог ничего ему отвечать. Корф указал также королю на опасность, которая грозит Дании от укрепления шведами Ландскроны. Потом король разговаривал о разных предметах, о разных дворах; Корф нашел его рассуждения очень важными, нашел, что он французскому и прусскому дворам не доверяет, а к наследному принцу шведскому и его партии питает прямую ненависть.
В конце 1749 года Корф писал о ненависти, а в самом начале 1750 должен был писать о необыкновенных знаках благосклонности, которые оказывает король прусскому посланнику. В апреле Корф уведомил о внезапной смерти министра Шулина, причем писал: «Правда, этот министр был великий противник интересам вашего императ. величества, но переменятся ли дела вследствие его смерти, это зависит от назначения ему преемника».
Дела не переменились, потому что датская политика относительно шведского вопроса не была личным делом Шулина или партии, в челе которой стоял этот министр.
Державы, боровшиеся с Россиею дипломатическими средствами в Стокгольме и Копенгагене, разумеется, должны были также сильно бороться с нею и в Константинополе. Неплюев в начале 1749 года уведомил о слухе, распущенном в Константинополе, что Россия должна будет вести войну против Швеции, Пруссии, Дании и Польши, что 70000 прусского войска уже двинулось для занятия Курляндии. Тут же Неплюев сообщил записку, поданную Порте шведским поверенным в делах Сельценом. Сельцен домогался у Порты, чтоб она спросила у русского резидента, зачем его правительство делает такие сильные военные приготовления, сухопутные и морские, при шведских границах, и показала ему копию союзного договора, заключенного между нею и Швециею. Французский посланник Дезальер получил от своего двора приказание вразумлять Порту, что ее интересы требуют внимательного взора на северные события, ибо Россия имеет одну цель – овладеть Швециею, следовательно, турки, будучи с нею в союзе, должны ей помогать; да и без союзного обязательства должны всеми средствами препятствовать, чтоб русские не умножили своих сил. Эти внушения с шведской и французской сторон и беспрестанно подаваемые господарями молдавским и валахским ложные ведомости привели Порту в недоумение и заставили ее обратиться к английскому посланнику Портеру с просьбою объяснить причины русских вооружений: «Даром большие деньги на вооружения не тратятся; правда ли, что Россия хочет назначить другого коронного наследника в Швеции? Что такое Курляндия, что об ней в настоящих северных делах упоминается? Не остановится ли в Польше русское войско, зимовавшее в австрийских владениях, и правда ли, что польскую вольность хотят совершенно утеснить?» Портер обратился к Неплюеву и австрийскому интернунцию Пенклеру за советом, что ему отвечать. Те постарались ему внушить, что он должен воспользоваться благоприятным случаем и снова забрать в свои руки то влияние, которое морские державы имели при Порте до Белградского мира, что теперь время не только туркам глаза открыть, но и Дезальеру с Сельценом нанести чувствительный удар, показавши, что представления Сельцена делаются по внушениям Дезальера. Неплюев представлял Портеру, что злоба французов против России происходит за помощь, оказанную императрицею англичанам посылкою войска к Рейну; что шведско-французско-прусская интрига направлена против России и Англии вместе и что надобно за это отомстить; что Россия принуждена вследствие шведского недоброжелательства держать войско на севере; но так как на юге не прибавлено ни одного полка, то Турции беспокоиться решительно нечего. В этом смысле составлен был письменный ответ, который Портер и переслал рейс-ефенди.
22 июня Неплюев имел разговор с великим визирем, который встретил резидента чрезвычайно ласково и сказал, что русский двор не может и желать большей дружбы, чем та, которую Порта к нему имеет. По этой-то дружбе он, визирь, и желал засвидетельствовать ему, резиденту, как бы Порта охотно видела Россию в согласии с Швециею, ибо ничто не может быть приятнее для Порты, как доброе согласие между ее друзьями. Неплюев отвечал, что императрица одного только и желает, чтоб быть в добром согласии со всеми державами, и Порта знает сама это очень хорошо из того старания, с каким Россия поддерживает дружбу в отношении к ней. Потом резидент перешел к северным делам и прямо объявил, что некоторые неблагонамеренные шведские министры желают возбудить беспокойства на Севере переменою правительственной формы, чтоб избавиться ответственности пред чинами и в угоду чужим державам; но так как гарантия Петра Великого естественно перешла и на императрицу, то она и по собственному интересу, и для предупреждения неминуемых беспокойств велела своему министру объявить в Стокгольме, что она не может смотреть равнодушно на замышляемую перемену; и как скоро злонамеренная партия от своего умысла отстанет, то императрица не подаст ни малейшей причины к беспокойству, ибо она завоеваний не желает, не имея нужды в приращении земель. Визирь отвечал, что хотя Порта и слышит многое, но не обращает серьезного внимания (тут он показал рукою, что в одно ухо впускает, а из другого выпускает) и надеется, что все эти несогласия на Севере кончатся ничем. Тут Неплюев заметил, что если Порта сильно желает тишины на Севере, то ей бы следовало шведам советовать, чтоб они отстали от своих вредных замыслов и не слушали советов тех держав, которые стараются зажечь огонь на Севере. И визирь должен быть от их советов и внушений во всегдашней осторожности, потому что они не стыдятся в двух местах одинаково каверзить: здесь, при Порте, сообщают ложные известия о России, а в России о Порте.
В сентябре интернунций Пенклер сообщил Неплюеву и Портеру перехваченную депешу Дезальера, в которой тот хвастался, что визирь говорил с Неплюевым повелительно, что он, Дезальер, успел открыть турецкому правительству глаза насчет русских замыслов и что для воспрепятствования последним возможна конвенция между Франциею, Пруссиею, Швециею, Польшею и Турциею. Пенклер объявил при этом, что хотя его королева-императрица и не верит французскому хвастовству, однако считает нужным, чтоб они втроем приняли меры для воспрепятствования упоминаемой Дезальером конвенции. Три министра решили, что в этом деле особенного внимания заслуживает упоминание о Пруссии, ибо если бы Франция успела склонить прусского короля на проект Дезальера, то это немало нарушило бы европейское равновесие. Они решили внушать Порте с трех сторон о благонамеренности России относительно Швеции, но решили при этом действовать с крайнею осторожностию и не делать ни малейшего намека насчет плана Дезальера, ибо этот план мог остаться только в голове последнего, наполненной, по словам Неплюева, проектами: так, Дезальер постоянно твердил о поляках, преувеличивал их силы и в то же время указывал необходимость освободить их от русских притеснений, необходимость с будущего польского сейма отправить в Константинополь министра с жалобою на проход русских войск чрез Польшу. Неплюев пригласил к себе переводчика Порты и объявил ему, что злонамеренная партия в Швеции решила произвести в действие свой план тотчас по смерти королевской и потому императрица приказала своему послу в Стокгольме сделать вторичную декларацию, что будет защищать вольность утесненных шведов; но если шведское правительство даст надежное удостоверение, что форма правительственная изменена не будет, то Россия ничего более требовать не станет. Если шведы, говорил Неплюев, откажутся дать всякое удовлетворение, то все беспристрастные будут считать их нарушителями мира; надобно надеяться, что и Порта разделит также этот взгляд и будет советовать шведам не нарушать спокойствия на Севере.
Неплюев и Портер внушали, что Порта должна уговаривать шведов уступить русским требованиям; Дезальер внушал, что шведы правы, что декларацией наследного принца дано полное обеспечение и что Порта должна отговаривать русскую государыню от столь несправедливых требований. Турецкие министры не знали, что делать, посоветовались между собою и решили: шведов вполне не оставлять, на словах за них ходатайствовать, но русскому двору отнюдь не причинять неудовольствия. Уведомив об этом свой двор, Неплюев писал: «Мне же во опровержение тех шведско-французских здесь интриг собою директно ныне делать нечего по опасности каким-либо безвременным отзывом непристойного от турок объявления на себя навести; но под рукою при всех подавающихся случаях возможное чинить не оставляю».
В начале 1750 года Неплюев присылал своему двору все успокоительные известия, что, несмотря на усилия Франции и Швеции склонить Порту на принятие посредничества в северных делах, та не поддается их внушениям. Но от 18 мая получена была от него в Петербурге депеша другого рода: «Чрез посредство двух серальских фаворитов и, вероятно, благодаря сребролюбию рейс-ефенди (шведский переводчик трижды был у него в доме на рассвете), который по жадности своей со всех сторон берет, против всякого нашего ожидания испытали мы (т. е. Неплюев, Пенклер и Портер) турецкое непостоянство, удостоверились, что ни на какие здешние обнадеживания полагаться ненадобно; что здесь не следуют какой-нибудь принятой системе, но по прихотям самые важные решения отменяются». Дело состояло в том, что 14 мая Неплюев был позван на конференцию к визирю, который прочел ему записку; в ней было сказано, что так как по полученным из разных мест ведомостям известно, что шведский ответ на последнее русское требование основателен, то Порта надеется, что обе державы будут сохранять путь правый и прямой и что скоро уведомится она о восстановлении между ними дружбы и добрых сношений. Неплюев отвечал, что отдает на рассуждение визирю: при возникших между двумя государствами столкновениях дело решается одними ли словесными уверениями, или для этого требуются трактаты и конвенции. Шведы повсюду разглашали, будто Россия хочет свергнуть их коронного наследника, а Россия основательно доказывает, что они желают переменить форму своего правления; то чего же лучше, как заключить с обеих сторон конвенцию, что ни того ни другого не будет? И если это разумное средство не примется, то бесспорно, что шведы по французским и прусским наущениям стараются взволновать Север. Императрица не желает ни пяди шведской земли; но если шведы не отстанут от своего намерения переменить правительственную форму, то она не сдержится никакими представлениями и употребит все дарованные ей Богом способы для воспрепятствования этому злу. Российская держава никогда не позволит предписывать себе законов ни шведам, ни французам, ни какому-либо другому народу, устанавливая все свои поступки на весах правосудия с богоугодным намерением не допускать, чтоб от соседей и в ее государствах огонь загорелся. На эти слова визирь и рейс-ефенди твердили одно: что Порта высказалась единственно из дружбы к обеим северным державам. После Неплюев узнал, что рейс-ефенди сказал визирю: «Хотя нынешнее свидание так же мало принесет пользы, как и прошлогоднее, однако мы это дело с рук сбыли».
Было ясно, что с турецкой стороны России нельзя было ожидать никаких значительных неприятностей по северным делам; столкновение между крымцами и запорожцами также не могло повести ни к чему важному. В таком успокоительном положении находились дела, когда в конце года в Петербурге было получено известие о внезапной смерти Неплюева, последовавшей 8 ноября. Псковский архиепископ Симеон Тодорский получил от находившегося при миссии иеромонаха Иосифа любопытное письмо о болезни и кончине резидента: «Извещаю преосвященству вашему о смерти резидента, который Божиим смотрением наказован был многажды болезнию различною, первое – отнятием руки, потом желчию, что весь был желт, и тая желчь происходила ему от сердца лютости и продолжалась все лето; однажды с деревни приехал в Перу, не знаю, за что осердился на портного так жестоко, что обомлел. Сколько лекари увещевали его о том, не слушал и не могл отстать, навык всегда в лютости и в ярости. Случилось ему шестого числа сего ноября во вторник вечеру в немецкого резидента быть, и там сделалась ему апоплексия, которого в лектики (на носилках) в двор оттуду принесли, и страдал, по докторскому мнению; апоплексиею, а по-моему, от беса мучим, и все тое было ему от Бога в наказание, чего для в среду, бывшу ему в чувстве добром и в памяти, говорил хорошо, чисто; я пришел к нему; он не хотел сперва на меня смотреть, отворочался, як бес от креста, говорил ему за исповедь, отказал – пожди. Потом в среду ж пред полунощию мучило его четырми нападами, мало и дыхал, чего для я приобщил его Божественных тайн без исповеды, понеже не говорил; а после полунощи стало ему полегче, пил чай и поутру в четверток говорил с докторами; я приходил и хотел ему говорить и принудить к исповеды – ниже слово сказал; все удывлялись, с лекарами говорил и лекарства принимал, а ко мне ниже единого слова промолвил; после половины дня начало быть ему худше, ввечеру скончался без исповеды. И по приметам преждных лет жития его так в России, как и в Стамбуле, не был он совершен христианин: но или лютер, или совсем атеиста, понеже имел великое обхождение с аглицким послом, а той явный атеиста. В Стамбуле находятся различнии народы православнии и имеют резыдента в великом почтении яко от православного государства, а по теперешнем случаи все удивились и позорствуют на Россию, что едно православное государство в свете, и тое уже начинает колебатись в вере и развращатись, весь Стамбул атеистою покойного называл за его злые поступки, наипаче же теперь внушили, что не хотел исповедатись. О чем я прошу преосвященства вашего в случае внушить сие всемилостивейшей государыне, дабы доброго христианина избрали и прислали в Царьград».
ГЛАВА ВТОРАЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ. 1751 И 1752 ГОДЫ