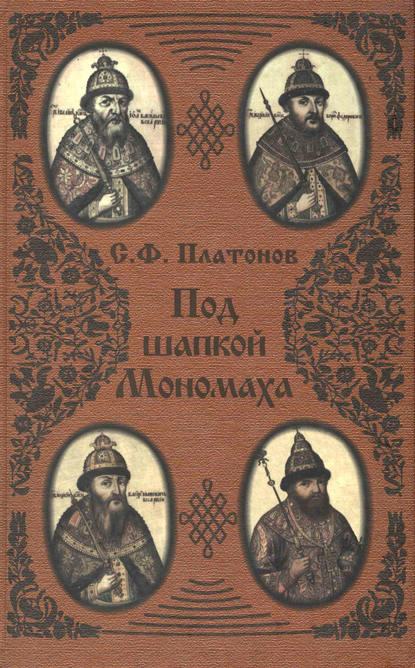По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Под шапкой Мономаха
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Грозный в русской историографии
Для подробного обзора всего того, что написано о Грозном историками и поэтами, потребна целая книга. От «Истории Российской» князя Михайлы Щербатова (1789 год) до труда РЮ. Виппера «Иван Грозный» (1922 год) понимание Грозного и его эпохи пережило ряд этапов и пришло к существенному успеху. Можно сказать, что этот успех – одна из блестящих страниц в истории нашей науки, одна из решительных побед научного метода. Автор надеется, что последующие строки достаточно раскроют эту мысль.
Главная трудность изучения эпохи Грозного и его личного характера и значения не в том, что данная эпоха и ее центральное лицо сложны, а в том, что для этого изучения очень мало материала. Бури Смутного времени и знаменитый пожар Москвы 1626 года истребили московские архивы и вообще бумажную старину настолько, что события XVI века приходится изучать по случайным остаткам и обрывкам материала. Люди, не посвященные в условия исторической работы, вероятно, удивятся, если им сказать, что биография Грозного не возможна, что о нем самом мы знаем чрезвычайно мало. Биографии и характеристики Петра Великого и его отца царя Алексея возможны потому, что от этих интересных людей остались их рукописи: деловые бумаги, заметки, переписка, словом, – их архив. От Грозного ничего такого не дошло. Мы не знаем его почерка, не имеем ни клочка бумаги, им самим написанного. Все старания известного археографа Н.П. Лихачева найти такой клочок и определить хотя бы строчку автографа Грозного не привели ни к чему. Осторожный исследователь ограничился тем, что опубликовал две кратких надписи, «не делая предположений» (как он выразился), но давая понять, что в одной из них он готов допустить факсимиле почерка Грозного[27 - Лихачев Н.П. Дело о приезде в Москву Антония Поссевина. СПб., 1893. С. 60, таблица IV. (СПб., 1903.)]. Тексты тех литературных произведений, которые приписываются Грозному, дошли до нас в копиях, а не в автографах, и мы не можем восстановить в них точного авторского текста. Знаменитое «послание» царя Иоанна к князю Андрею Курбскому 1564 года имеется в разных редакциях и во многих списках с существенными разночтениями, и мы не знаем точно, какую редакцию и какое чтение надлежит считать подлинными. То же можно сказать и о всех прочих «сочинениях» Грозного. Даже официальный документ – «Завещание» Грозного (1572 год) – не сохранился в подлиннике, а напечатан с неполной и неисправной копии XVIII столетия. Если бы нашелся ученый скептик, который начал бы утверждать, что все «сочинения» Грозного подложны, с ним было бы трудно спорить. Пришлось бы прибегать ко внутренним доказательствам авторства Грозного, ибо документальным способом удостоверить его нельзя. Исключением является только переписка Грозного с одним из его любимцев Василием Григорьевичем Грязным-Ильиным. Грязной попал в плен к крымским татарам, и по делу о выкупе Грозный «милостиво» вступил с ним в переписку. Тексты писем царя и Грязного внесены были в свое время в официальную книгу «Крымских дел» и потому могут рассматриваться как документ, как точная заверенная копия переписки. Этим самым переписка царя с Грязным получает особенную историческую важность, правильно определенную последним ее исследователем П.А. Садиковым.
Если так обстоит дело с личными сочинениями и письмами Грозного, то немногим лучше положение и всего летописного материала того времени. Московское летописание в XVI веке стало делом официальным, и летописи поэтому сдержанны и тенденциозны. Казенные летописатели, пользуясь частными летописными записями, или обезличивали их, или же переделывали на свой лад. Излагая по-своему происходящие события, они держались строго правительственной точки зрения. Много следов мелочной переработки летописей в духе Грозного царя можно видеть в так называемом «Лицевом своде». В XIII томе «Полного собрания русских летописей» дано несколько снимков со страниц этого свода, переделанных и дополненных, по-видимому, по указаниям самого Грозного. Понятно, что пользоваться такого рода источником историк должен крайне осмотрительно: иначе он станет жертвою одностороннего понимания событий. Но такая же опасность грозит ему и с другой стороны. Царь и его казенные летописцы излагали московские дела по-своему, но по-своему же их изображали и политические противники Грозного.
Пресловутый князь А.М. Курбский, убежавший от московского террора в Литву, там написал свою «Историю о великом князе Московском». Это очень умный памфлет, направленный на обработку общественного мнения в Литве. В нем много ценного и точного исторического содержания, и потому все тенденциозные выходки Курбского против Грозного получают особую силу. Но все-таки это памфлет, а не история, и верить его автору на слово нельзя. Еще в большей степени пристрастны иностранные сказания о Грозном. Их наиболее ярким образцом можно счесть «послание» лифляндцев Таубе и Крузе о «великого князя Московского неслыханной тирании». Даже сдержанный Флетчер, ученый англичанин, бывший в Москве лет пять спустя после кончины Грозного, не избег общего настроения: к памяти московского тирана он относится неспокойно, приписывая личной вине Грозного все неустройства московской жизни того времени.
Историк, вращаясь в круге подобных летописных известий и литературных сказаний, современных Грозному, должен ко всем данным своих источников относиться с сугубою осторожностью и учитывать возможность не только простой субъективности, но и страстной тенденции в каждом изучаемом памятнике. Для него нет твердой почвы и в произведениях тогдашней литературной письменности. Время жгучей борьбы, политической и социальной, налагало свою печать на все: литературный интерес современников Грозного был направлен на болевые темы переживаемого момента. Но младенческое состояние политической мысли не позволяло твердо и четко понять и обсудить эти темы, и в разного рода «беседах», «посланиях», «изветах», «челобитных» и «сказаниях» того времени исследователь напрасно ищет определенных идей и программ. Он находит лишь смутный лепет и неясные намеки на действительность, намеки непонятные и испорченные к тому же невежеством переписчиков. Литература эпохи, так же, как собственно исторические источники, дает историку очень мало не только толкований, но и просто объективных фактов для того, чтобы он сам мог создать толкование эпохи.
При таком состоянии исторического материала, конечно, невозможно составить серьезную, фактически полную биографию Грозного. Стоит дать себе труд припомнить, что и за какие годы жизни Грозного знаем мы о нем. Такое припоминание покажет, что за целые ряды лет у нас нет лично о Грозном никаких данных. Так, например, о первых годах его жизни не имеется никаких сведений, кроме трех-четырех упоминаний в письмах (1530–1533 годы) его отца великого князя Василия к его матери Елене Васильевне. Великий князь был в отъезде и беспокоился о здоровье своего первенца, «что против пятницы Иван сын покрячел»: именно «у сына у Ивана явилося на шее под затылком место высоко да крепко». Простой веред у малютки прошел благополучно, и затем до его 13-летнего возраста ни о его здоровье, ни о жизни вообще ничего не известно. В конце 1543 года тринадцатилетний государь-сирота впервые показал свой нрав – арестовал одного из виднейших бояр, князя Андрея Шуйского, и «велел его предати псарем, и псари взяша и убита его». «И от тех мест (замечает летопись) начали бояре от государя страх имети». До 1547 года, однако, ничего не известно о дальнейших поступках юноши – великого князя. В 1547 году Грозный женился и сменил титул великого князя на титул царя. Затем до 1549 года опять темный промежуток. В 1549–1552 годах Грозный законодательствует и воюет; в 155 3 году болеет тяжко и ссорится со своими боярами; и «от того времени бысть вражда промеж государя и людей». Вторая половина 50-х годов опять темна: о личной жизни Грозного не знаем; знаем кое-что лишь о его политике относительно Ливонии, о начале войны. В 1560 году умерла первая жена Грозного; в нем самом совершилась какая-то перемена настроения. Дальнейшая эпоха полна рассказов о его зверствах, о терроре опричнины. Рассказывают почти исключительно иностранцы и Курбский. Русские источники молчат, ограничиваясь краткими замечаниями вроде того, что в 1574 году «казнил царь на Москве, у Пречистой на площади в Кремле, многих бояр, архимандрита Чудовского, протопопа и всяких чинов людей много, а головы метали под двор Мстиславского». Но все эти рассказы и замечания противоречивы и малоопределенны, датируются с трудом и возбуждают много недоразумений, о которых можно читать и у Карамзина, и у позднейших историков. А документов мало: даже указ об учреждении опричнины не дошел до нас в подлинном виде. Ни точной хронологии, ни достоверного фактического рассказа о деятельности и личной жизни Грозного построить нельзя. Перед историком проходят целые вереницы лет без единого достоверного упоминания о самом Грозном. Какая «биография» тут возможна? И где тот материал, на котором было бы можно построить правильную «характеристику». В данных условиях мыслимы только догадки, более или менее вероподобные, более или менее соответствующие указаниям уцелевшего скудного материала.
Историк XVIII века князь М.М. Щербатов в своей «Истории Российской», «прошед историю сего государя», вынес впечатление, что Грозный «в столь разных видах представляется, что часто не единым человеком является». Порабощенный противоречиями своих источников, историк перенес их на характер своего героя. Он не удержался от того, чтобы не объяснить эти противоречия путем догадок и умозаключений, и попытался указать некоторые личные свойства Грозного. Не без остроумия замечал он о Грозном, что «в ком самовластие, соединенное с робостью и низостью духа находится, в том обыкновенно оно производит следствия непомерной горячности, недоверчивости и сурового мщения». Дальше этого Щербатов не шел. Указанные недостатки Грозного он противопоставил его «проницательному и дальновидному разуму» и в этом видел внутреннее противоречие и двойственность характера Грозного.
Тот же взгляд на Грозного, но с большим литературным искусством выразил Карамзин в своей «Истории государства Российского». Подходя к описанию времени Грозного, Карамзин предвкушал прелесть предстоявшей темы: «Какой славный характер для исторической живописи!» – писал он Тургеневу о Грозном. Мрачная драма той эпохи казалась Карамзину литературно-занимательной, и он изобразил ее с большим художественным эффектом. Но характера Грозного он не уловил так же, как Щербатов, хотя и пытался обнять его «умозрением». «Несмотря на все умозрительные изъяснения (писал он в своей «Истории»), характер Иоанна, героя добродетели в юности, неистового кровопийцы в летах, мужества в старости, есть для ума загадка».
Карамзин пытался разъяснить эту загадку, следуя тому толкованию Курбского, что Грозный всегда был умственно несамостоятелен и подчинялся посторонним влияниям. Он был добродетелен, когда «опирался на чету избранных – Сильвестра и Адашева», и нравственно пал, когда приблизил к себе развратных любимцев. Он представлял в себе «смесь добра и зла» и совмещал, казалось бы, несовместимые качества: «разум превосходный», «редкую память» с жестокостью «тигра» и с «бесстыдным раболепством гнуснейшим похотям». Постоянно ударяя в своих отзывах на противоречия природы Грозного, Карамзин, однако, не давал, так сказать, ключа к объяснению этих противоречий и оставлял неразгаданною свою для ума загадку. Образ несамостоятельного, подверженного влияниям монарха был бы целостным, если бы Карамзин допустил в своем умозрении умственное ничтожество Грозного. Но он этого не мог допустить, ибо Грозный всегда ему являлся «призраком великого монарха», «деятельным», «неутомимым» и «часто проницательным…»
«Загадка» Карамзина была изложена им замечательно картинно и красноречиво. Эпоха Грозного ожила под его искусным пером и читалась с большим увлечением. Естественно было попытаться на материале, данном в «Истории» Карамзина, построить более удачное и тонкое изображение личности Грозного, чем то, какое дал сам Карамзин. И такую попытку сделали московские славянофилы, обсуждавшие характер Грозного, по-видимому, всем своим кружком. То, что созрело в их суждениях, было вынесено в печать К. Аксаковым и Ю. Самариным. Последний в своем труде о Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче в нескольких словах дал указание, что «тайна (Иоанна) лежит в его собственном духе: чудно совмещались в нем живое сознание всех недостатков, пороков и порчи того века с каким-то бессилием и непостоянством воли». Это «страшное противоречие» в Грозном его умственного превосходства со слабостью воли есть основное его свойство, объясняющее весь характер.
Аксаков полнее судил о Грозном, стоя на той же точке зрения, как и Самарин. «Отсутствие воли и необузданная воля – это все равно», – говорит он по поводу Грозного, указывая, что «порча в Иоанне» и его нравственное падение произошли тогда, когда он «сбросил с себя нравственную узду стыда» и ударился в произвол, открыв дорогу дурным на себя влияниям. Ослабление воли в сочетании с силою острого ума – одно из основных свойств Грозного. Но столь же основною была и еще одна черта. «Иоанн IV был природа художественная в жизни», – говорит Аксаков. Образы и картины господствовали над душою Грозного, влекли его свой красотою, заставляли его осуществлять их в жизни, любоваться ими. Не трезвая мысль, а поиски красоты, «художественность» владела Грозным и увлекала его к самым диким и к самым низким поступкам. Таким образом, в Грозном «много было двигателей его духа», осложнивших его духовную природу.
Эти попытки славянофильского кружка развить карамзинский взгляд и сделать его более цельным положили начало длинному ряду художественных воспроизведений характера Грозного. За славянофилами, между прочим, пошел Костомаров, обращавшийся к Грозному не один раз в своих популярных произведениях. За ними же следовал граф Алексей Толстой в «Князе Серебряном» и «Смерти Иоанна Грозного». Представление, созданное ими, стало ходячим. И когда Антокольский, Репин и Васнецов воплотили этот взгляд в определенную фигуру, всем стало казаться, что Грозный понятен и ясен, что в нем все доступно психологу и патологу. Чрезвычайная утонченная жестокость Грозного, изменчивость его настроений, соединение острого ума с явною слабостью воли и склонностью подпадать посторонним влияниям – все эти усвоенные Грозным свойства манили к себе именно патологов, – и вот понемногу создалась значительная врачебная литература о Грозном. Она внимательно изучена и характеризована Н.П. Лихачевым[28 - Там же. С. 62 и след.]. Историку, обладающему научным критическим методом, вся эта литература кажется ненаучной, диагнозы – произвольными и построенными на смелых и совершенно беспочвенных догадках. Нет оснований верить медикам, когда они через триста лет по смерти пациента, по непроверенным слухам и мнениям, определяют у него «паранойю» (однопредметное помешательство), «дегенеративную психопатию», «неистовое умопомешательство» (mania furibunda), «бредовые идеи» и в общем ведут нас к тому, чтобы признать Грозного больным и совершенно невменяемым человеком. Такой вывод – естественный финал для того научно-литературного направления, которое в изучении эпохи Грозного ограничивает свой интерес центральною личностью и в характере лица ищет ключ к разумению исторического момента во всей его сложности. Человек вообще склонен объявить то, что ему непонятно, не имеющим смысла, и то, что ему кажется странным, считать за ненормальное. Отдавая дань этой человеческой слабости, Костомаров писал о Грозном, что «Грозный не был безусловно глуп», тогда как современники почитали Грозного «мужем чудного разумения». Медики сочли Грозного помешанным выродком, тогда как современные ему политики считали его крупной политической силой даже в самые последние годы его жизни. Здравый исторический метод ищет терпеливо разгадки того, что непонятно, и объяснения того, что странно, не решаясь на скорые бесповоротные заключения, а отыскивая новые пути к познанию явлений, не сразу поддающихся исследованию.
С правильным историческим методом впервые познакомили русскую публику представители так называемой «историко-юридической» школы – и во главе их С.М. Соловьев. К деятельности Грозного он подошел со своею основною мыслью, что историческая жизнь русского народа представляет собою цельный процесс развития патриархального быта в государственные формы. Ему хотелось определить, какова роль Грозного в этом процессе. И Грозный представился Соловьеву положительным деятелем, носителем государственного «начала» в жизни его народа и противником отживавшего уклада «удельно-вечевого». Задачи своего времени Грозный разумел лучше современных ему консерваторов; он стремился вперед, когда окружавшая его среда еще дышала старой традицией. У него была государственная программа и широкие политические цели. Нет нужды скрывать личные слабости, недостатки и пороки Грозного, но надо помнить, что не ими определяется его историческое значение. Внутренние реформы и внешняя политика Грозного делают его крупным историческим лицом, и иначе понимать его историк не может. Точка зрения Соловьева была принята всею его школой. Она была даже доведена до крайней, фальшивой идеализации Грозного в статье современника Соловьева К.Д. Кавелина, который представлял Грозного «великим», считал его предтечею Петра Великого и с сокрушением указывал на то, что Грозного погубила его среда – «тупая», «бессмысленная», «равнодушная и безучастная», лишенная «всяких духовных интересов». «Великие замыслы» Грозного были извращены в бесплодной борьбе с этою средою, и сам он пал морально от своей роковой неудачи. Конечно, гиперболы Кавелина не были усвоены всею школою историков-юристов, но мысль о том, что можно сопоставлять Грозного с Петром Великим, получила дальнейшее развитие. К.Н. Бестужев-Рюмин в обстоятельной статье «Несколько слов по поводу поэтических воспроизведений характера Ивана Грозного» решительно предложил это сопоставление и провел параллель между «двумя нашими великими историческими лицами: Петром Великим и Иоанном Васильевичем Грозным». По представлению Бестужева-Рюмина, это – «два человека с одинаковым характером, с одинаковыми целями, с одинаковыми почти средствами для достижения их». Главное различие в том, что один успел в своих стремлениях, а другой не успел. На внешней политике обоих строит Бестужев свою параллель, и главным образом на стремлении их к Балтийскому морю. Личные свойства и пороки Грозного мало занимают Бестужева, как и других историков этого направления: об этих свойствах надлежит упомянуть, но не должно на них строить изображение эпохи и оценку ее центрального лица.
Так к 80-м годам прошедшего столетия определились два способа отношения к Грозному, две манеры его оценок. Дальнейшее развитие историографии не упразднило ни одной из них, но, очевидно, дало торжество той, которая, пренебрегая целями личной характеристики, стремилась оценить Грозного как деятеля, как политическую силу.
Научный метод историко-юридической школы оказал могучее влияние на развитие науки русской истории. Труды русских историков стали расти и количественно, и качественно. Началась деятельная разработка архивных материалов, главным образом эпохи Московского государства. В последние десятилетия XIX века и в начале XX века был поставлен и научно разработан ряд тем, относящихся, в частности, ко времени Ивана Грозного. Темы эти ставились совершенно независимо от личных оценок самого Грозного. Они имели целью проникнуть в разумение правительственного механизма и общественного строя Москвы XVI века и создать ясное представление о том внутреннем кризисе, какой переживало тогда Великорусье в глубинах народной жизни. Успех этой научной работы был очень велик. Были изучены главные исторические источники эпохи – летописные своды, писцовый материал и актовый материал, уцелевший от пожаров и иных катастроф. Обозначилась постепенность и выяснились взаимная связь и результаты пресловутых «земских реформ» 1550-х годов. Вскрыта была финансовая система московского правительства XVI века. Определен был истинный характер опричнины. Была изучена деятельность московской власти по обороне южных границ государства в связи с колонизацией «дикого поля». Стали ясны состав, устройство и быт служилого класса. Выяснено было многое в процессе прикрепления крестьянства и в развитии различных видов холопства. Раскрылся в своих истинных размерах разброд населения и его последствие – запустение государственного центра. С другой стороны, был изучен «Балтийский вопрос» и все перипетии международной борьбы за Ливонию и Финское побережье. Историческое содержание эпохи стало настолько полнее и определеннее, что, можно сказать, все построение истории Ивана Грозного надлежало ставить заново. Можно удивляться тому громадному различию, какое на пространстве всего лишь одного поколения оказалось в университетском изложении этой эпохи. Как мало мог дать слушателям лектор конца (или, точнее, 70-80-х годов) XIX века об Иване Грозном, можно видеть в «Русской истории» К.Н. Бестужева-Рюмина, который был для своего времени первоклассным профессором. Как сравнительно много дается теперь, можно видеть из любого профессорского учебника русской истории и, конечно, из «Курса» В.О. Ключевского. Эпоха наполнилась новым и богатым содержанием – и это не могло не отразиться на понимании самого Грозного, его личной роли, его личных сил.
Теперь нет ни малейшего сомнения в том, что Грозный принадлежал к числу образованнейших людей своего века, получив свои знания и образовав умственные интересы в кружке митрополита Макария. Нет сомнения в том, что реформы 50-х годов XVI века представляли собою систему мероприятий, охвативших многие стороны московской ЖИЗНИ: местное управление в связи с различными формами самоуправления и с упорядочением служилого класса и поместного землевладения; податную организацию в связи с лучшим обеспечением служилых людей и с улучшением самой их службы; военное устройство, церковно-общественную жизнь, книжное дело и многое другое. Нет теперь спора о том, что Ливонская война Грозного была своевременным вмешательством Москвы в первостепенной важности международную борьбу за право пользования морскими путями Балтики. Упразднился старый взгляд на опричнину как на бессмысленную затею полоумного тирана. В ней видят применение к крупной земельной московской аристократии того «вывода», который московская власть обычно применяла к командующим классам покоренных земель. Вывод крупных землевладельцев с их «вотчин» сопровождался дроблением их владений и передачей земли в условное пользование мелкого служилого люда. Этим уничтожалась старая знать и укреплялся новый социальный слой «детей боярских», опричных слуг великого государя. Обнаружилась далее любопытная и важная черта в деятельности московского правительства в самую мрачную и темную пору жизни Грозного – в годы его политических неудач и внутреннего террора. Это – забота об укреплении южной границы государства и заселении «дикого поля». Под давлением многих причин правительство Грозного начало ряд согласованных мер по обороне своей южной окраины и как всегда проявило широкий почин, деловую энергию и уменье согласовать усилия администрации с содействием земских сил. Вместо старых представлений о последних годах жизни Грозного как о времени унылого бездействия и безумной жестокости пред историками развернулась картина обычной для Грозного широкой деятельности. Наконец, выяснение причин и проявлений социального кризиса, вызвавшего опустошение московского центра к 80-м годам XVI века, сняло лично с Грозного обвинение в том, что он по своей будто бы трусости и ничтожеству дал торжествовать над собою талантливому врагу Стефану Баторию. Выяснилось, что быстро развернувшийся кризис лишил Грозного всяких средств для продолжения борьбы и что его личное воздействие на ход событий вряд ли здесь допустимо.
Словом, всякий частичный успех в исследовании эпохи вел к тому, что личность Грозного как политика и правителя вырастала и вопрос о его личных свойствах и недостатках терял свою важность для общей характеристики его времени. Изучение правительственной деятельности Грозного развернуло перед историками широкую и сложную картину с одними и теми же чертами для начала и для конца царствования Грозного. Вокруг Грозного менялись лица и могли меняться их влияния, сам Грозный мог жить добродетельно или порочно – все равно свойства московской политики оставались при нем одинаковыми. Это была политика большого размаха, отмеченная всегда отважным почином, широтою замыслов и энергией выполнения задуманных мер. Очевидно, что эти черты вносились в жизнь самим Грозным; они не приходили с Сильвестром и не уходили с Басмановым и Малютой Скуратовым. И Грозный во втором периоде своих реформ, в опричной ломке аграрно-классового строя, совершенно тот же, как и в первом периоде церковно-земских преобразований. Он – крупная политическая сила.
Именно это впечатление вырастает в каждом, кто знакомится с новыми исследованиями по истории русского XVI века во всей их совокупности. С таким именно впечатлением приступил к своему труду об Иване Грозном и последний его историк профессор Р.Ю. Виппер. Но, воспользовавшись всем тем, что дала ему новая русская историография, он со своей стороны внес и нечто свое. Он дал в начале своего труда общую характеристику «XVI века» как поворотного момента в вековой борьбе «кочевой Азии» и «европейцев», момента, когда успех в мировой борьбе стал переходить на сторону последних. С этой всемирно-исторической точки зрения профессор Виппер представил оценку как московской политики XVI века, так, в частности, и самого Грозного. «Среди нового политического мира Европы (говорит он) московскому правительству приходилось развернуть не только военно-административные таланты, но также мастерство в кабинетной борьбе. Грозный-царь, его сотрудники и ученики с достоинством выдержали свою трудную роль». Следя за деятельностью Москвы XVI века в связи с общим ходом политической жизни Европы и Азии, наш автор не скупится на похвалы русскому политическому и военному искусству того времени и смотрит на Грозного как на крупнейшего исторического деятеля. Книгу профессора Виппера можно назвать не только апологией Грозного, но его апофеозом. Выведенный из рамок национальной истории на всемирную арену, Грозный показался и на ней весьма крупным деятелем.
Таково последнее слово нашей исторической литературы о Грозном. Думаем, что оно навсегда упразднило возможность презрительного отношения к личности Грозного. Но быть может, оно несколько перетянуло весы в другую сторону, и дальнейшая задача исследователей – найти точное равновесие между крайностями субъективных оценок.
Предлагаемый очерк отнюдь не претендует на эту роль суперарбитра в суждениях о Грозном. Его целью было дать такой «образ» Грозного, какой сложился в уме автора при знакомстве с наиболее характерным историческим материалом данной эпохи. В кратком очерке о многом пришлось говорить бегло, иногда же и просто умалчивать. Но автор будет удовлетворен, если из его очерка читатель вынесет определенное представление о главных моментах жизни и деятельности Грозного и о некоторых бесспорных, достоверных чертах его характера и ума. Цельную же характеристику Грозного, его законченный «образ» воссоздать автор не надеялся, ибо не верит в то, чтобы это сделать было вообще возможно.
Глава первая
Воспитание Грозного
1. Общие условия эпохи
Грозному пришлось жить и действовать в один из важных периодов бытия великорусского племени. Судьба бросила это племя на волнистую равнину, покрытую лесами и изрезанную реками, пустынную и легкодоступную для заселения. Поселенцы свободно растекались на этой равнине, как растекается вода на гладкой поверхности. Общий процесс колонизации переносил народную массу с запада и юга на север и восток, от старых Днепровских гнезд русского славянства к Поморью и к Уральским горам. На пути к северу препятствиями были только лесные пустыни «волока» – водораздела между Волжскими и Поморскими реками, где леса и болота одолевали людскую энергию. На пути же к востоку препятствовал движению инородческий мир – народцы, вошедшие в состав татарского Казанского царства, главным образом черемисы на реках Унже и Ветлуге и мордва на реке Суре. Идущая с севера на юг линия рек Ветлуги и Суры долго служила восточным пределом русской колонизации, шедшей из Владимиро-Суздальского центра, точно также, каклиния Белоозера и Вологды была ее северным пределом. Далее на север, в «Заволочье», простиралась область колонизации новгородской, имевшей иной характер, чем колонизация среднерусская. В отличие от подвижного промышленника и хищника новгородца, владимирцы и суздальцы, крестьяне и монахи, медленно и прочно осваивали «новую землицу» и не спеша переносили с одной заимки на другую свою пашню или подсобный лесной промысел, оставляя выпаханную «пустошь» ради нового «починка».
Тот момент, когда волна колонизации докатилась до своих преград и безудержный разлив населения был ими несколько сдержан, тот момент оказался существенным переломом не только в хозяйственной, но и в политической жизни страны. При текучем (как выразился С.М. Соловьев) состоянии населения политическая власть не имела силы сдержать и прикрепить к месту народную массу, организовать ее в своих целях и видах и подчинить своей воле. Удельные князья поневоле ставили свое хозяйство и администрацию в зависимость от бродячести населения. Прибыль «приходцев» на их земли делала их сильными и богатыми; убыль отнимала у них их политическое значение и делала их «худыми». Перелив населения с Клязьмы на Волжские верховья после Батыева погрома ослабил Владимир и Суздаль и поднял Тверь и Москву. Накопление народа в Галиче Морском, на плоскогорье между реками Костромой и Унжею, позволило галицким князьям в XV веке встать против Москвы и выдержать долгую и упорную с нею борьбу за главенство в Восточном Великорусье. Эта зависимость князей от случайностей колонизационного движения ослабла тогда, когда движение масс было временно остановлено на рубежах Поморья и Понизовья. Природные трудности дикого лесистого волока и сопротивление новгородцев не пускали на север; черемисская война не пускала на восток. В массе своей в XV веке пашня стала устойчивой, и пахари осели в своих волостях крепче, чем прежде. Московские великие князья получили поэтому некоторую возможность учесть население и начали крепить его к тому или иному роду государственных повинностей. Вторая половина XV и первая половина XVI столетия характеризуется именно этою работою прикрепления. Московские князья, захватившие под свою власть всю Низовскую землю и покорившие Великий Новгород, спешат и там и здесь «описать» свои владения, водворить на «поместья» тысячи служилых помещиков «детей боярских», закрепить за ними в поместьях крестьянское население, а на свободных крестьянских землях образовать за круговой порукою податные общины, которые бы из-за себя тяглецов не выпускали. Одновременно и в высших социальных слоях шла такая же работа по закреплению за государем его «вольных» слуг. Лишались своих исконных вольностей и прав не только бояре, потерявшие возможность «отъехать» от московского государя к иному владетелю, но и удельные владетельные князья, поддавшиеся Москве и «бившие челом в службу волею» московским государям. Эти «княжата» были все более и более стесняемы в праве распоряжения своими удельными землями, «вотчинами», были сравнены в порядке службы с простыми боярами и, так же как бояре, лишены возможности уйти с московской службы и снять с себя московское подданство. Вся московская жизнь стала строиться на идее государственной «крепости»: одних она прикрепляла к государевой службе, которую отбывали с земли; других прикрепляла к «тяглу», которое «тянули» тоже с земли. Одни служили или с вотчин (наследственных земель), или с поместий (казенного надела); другие платили или с «пашни паханые земли доброй или середней или худой», или же с двора на «посаде» и с лавки на «торгу».
Грозный родился именно в это время торжества нового государственного строя, когда исчезла самостоятельность уделов, когда Новгород и Псков утратили последнюю тень своей политической особности, когда московский великий князь на деле стал «всея Русские земли государям государь», когда, наконец, все население объединенной страны стало сознавать себя «крепким» государством. Торжество государственного объединения и прикрепления было в ту эпоху злобою дня, очередным вопросом, занимавшим умы и возбуждавшим чувства и мысль. Все те, кто понимал значение происходившего процесса, обсуждали его смысл; одни ему сочувствовали, другие же осуждали, жалея исчезавшую старинную вольность. Поклонники и почитатели народившегося государства создавали, так сказать, его теорию, представляя московского великого князя высшею политическою силою – «царем православия», наследником вселенских византийских монархов, а Москву – преемницею Рима, средоточием всего христианского мира. Настроение писателей этого направления было очень приподнятым, торжественным и ликующим. В обращениях своих к московским великим князьям они не скупились на высокие эпитеты и чрезмерную хвалу, яркими красками рисуя чрезвычайные успехи Москвы в деле «собирания» Русской земли и в борьбе с внешними врагами. С самого детства Грозный должен был слышать и впитать в себя эти радостные гимны национального торжества, так как они были усвоены правящею средою и ею обращены в официальную теорию московской власти и созданного этою властью государства. Гораздо позже Грозный узнал другое направление современной ему общественной мысли – то, которое можно назвать реакционным и оппозиционным. Были люди, страдавшие от условий, народившихся с новым государственным порядком. Они жалели отошедшую старину и негодовали на новые обычаи, называя их «нестроениями». «Дотоле земля наша Русская жила в тишине и в миру», – говорили они о старых временах великого князя Ивана III; о времени же его сына Василия III они прибавляли: «…которая земля переставливает обычаи свои, и та земля недолго стоит; а здесь у нас старые обычаи князь великий переменил, – ино на нас которого добра чаяти?» Грозному, росшему в понятиях политического оптимизма, такие настроения были, конечно, чужды и враждебны. Все, что пришло в Москву, в дворцовый и государственный обиход, с его бабкою великою княгиней Софьей, с ее греками и итальянцами, должно было ему представляться «добром», а вовсе не «нестроением». Наплыв в Москву иностранных мастеров и дипломатов для его деда и отца был естественным и неизбежным следствием того политического роста, который поставил Московское княжество в положение преемницы Царьграда, первенствующей на востоке Европы державы. Какое в этом было «нестроение»?
Таков был духовный корень, на котором вырос ум и воспиталась душа Грозного. Апология абсолютизма и национального единства, сознание вселенской роли Москвы и в связи с ним стремление к общению с другими народностями – вот те идеи и стремления века, которыми определились основы миросозерцания Грозного. Но раньше, чем Грозный осознал и усвоил эти идеи и стремления, ему пришлось пережить тяжелое время сиротского детства и связанной с ним нравственной порчи.
2. Время регентства
Великий князь Иван Васильевич Грозный родился 25 августа 1530 года. В это время его отцу, великому князю Василию Ивановичу, было более 50 лет. Не имея детей от первого брака с Соломонией Сабуровой, он в ноябре 1525 года расторг этот брак к большому соблазну правоверных москвичей и, к еще большему соблазну, 21 января 1526 года женился на выезжей литовской княжне из рода князей Глинских. Дядя этой княжны Елены Васильевны князь Михаил Львович Глинский вырос «у немцев», был воспитан в их обычаях и служил у Саксонского герцога; в Литве он пользовался громкою славою за свои воинские подвиги. Поссорясь с литовским великим князем, он направился в Москву, где был принят с почетом. Туда он вывез и своего брата Василия Львовича с его многочисленной семьей. Сам князь Михаил не ужился и в Москве: он был взят под стражу по подозрению в том, что хочет «отъехать» из Москвы обратно в Литву. А во время его заточения, когда подросла его племянница, осиротевшая княжна Елена Васильевна, великий князь выбрал ее себе в жены. Елена была привезена в Москву ребенком, лет за двадцать до своего замужества, выросла и воспиталась в московских нравах; но все-таки происходила она из семьи иноземной с культурными традициями не московскими. Этим современники объясняли поведение великого князя, который, вопреки добрым московским нравам, в угоду молодой жене, «обрил себе бороду и пекся о своей приятной наружности» (слова Карамзина).
Но и второй брак великого князя Василия не сразу был осчастливлен потомством. Первенец монарха родился только на пятый год его супружества, что дало повод злым языкам предполагать, что он, подобно Святополку Окаянному, был «от двою отцю». Последующая близость великой княгини к князю Ивану Федоровичу Оболенскому-Телепневу указывала и то лицо, на которое метила сплетня. Но великий князь Василий не имел сомнений. Он с большим церемониалом крестил сына Ивана в Троице-Сергиевом монастыре, а через год по его рождении в день его ангела «Иоанна – Усекновение главы», 29 августа 1531 года, торжественно построил, по вековому русскому обычаю, в один день «обыденку» – церковь на Старом Ваганькове в Москве (где ныне Ваганьковский переулок). Это была благодарственная за рождение сына «обетная» церковь: великий князь «совершил обет свой и прия дело своима царскима рукама первие всех делателей, и по нем начата делати, и сделаша ее (церковь) единым днем; того же дни и священа бысть». На этом торжестве присутствовал и его годовалый виновник «князь Иван».
Желанная «благородная отрасль царского корене» малютка Иван стал тогда же предметом чудесных рассказов. Говорили, будто в час его рождения внезапно разразилась сильная гроза, будто какой-то юродивый предсказал ожидавшей ребенка великой княгине, что у нее родится «Тит – широкий ум[29 - Память апостола Тита чествуется 25 августа – день рождения Грозного; в этом смысл предсказания. По отзыву Иоанна Златоуста, Тит был наиболее искусный из учеников апостола Павла: в этом, быть может, объяснение слов «широкий ум».], будто инок Ферапонтова монастыря Галактион за четверть века до рождения Грозного предвещал, что великому князю Василию не удастся взять Казань, но что овладеет ею его «благодатный сын» (имя «Иоанн» переводилось «Божья благодать»). Сам Грозный читал эти и подобные им рассказы в официальных летописных сводах и от них мог заключать о «грозе» своего нрава, о широте своего ума и о своем высоком предназначении завоевателя и политика. Но московские пророки не смогли предугадать тех осложнений и неприятностей, какими было исполнено детство, а отчасти и юность Грозного.
Грозный потерял отца, не имея и четырех лет от роду. Василий умирал в тяжких страданиях: «болячка» на ноге мучила его два месяца и вызвала общее заражение крови. Предчувствуя роковой исход, Василий стал заблаговременно строить свою Думу и приказывать «о устроении земском и како бы правити после его государство». Он много занимался составлением завещания и беседами с избранными боярами. По-видимому, мысль его остановилась на том, чтобы, передав великое княжение малютке сыну Ивану, образовать около него как бы регентство – боярский совет из доверенных лиц. Таким были его «сестричичи», князья Вельские (сыновья его двоюродной сестры), князь Михаил Львович Глинский (ему «по жене племя»), князья Шуйские, их родич князь Борис Иванович Горбатый-Суздальский, Михаил Семенович Воронцов и некоторые другие. Особо от этой коллегии душеприказчиков великий князь доверил князю Михаилу Глинскому, боярину Михаилу Юрьевичу Захарьину и своему приближенному дьяку Шигоне охрану великой княгини Елены и опеку над тем, «како ей без него быть и како к ней бояром ходити». С ними же он интимно поговорил и вообще о своих желаниях: «…и обо всем им приказа, како без него царству строитися». Тяжкую заботу, даже страх, внушали великому князю его братья, удельные князья Юрий и Андрей Ивановичи, которые могли «искать царства под его сыном и погубить Ивана». Когда великому князю уже не стало возможности утаивать от братьев свою болезнь, он всячески убеждал их крепко стоять на том, на чем они договорились и крест целовали, именно – чтобы сын его учинился на государстве государем, чтобы была в земле правда и чтобы в их среде розни никоторые не было. Они ему это обещали, но, конечно, не уничтожили его тяжких сомнений. Василий скончался (4 декабря 1533 года) в тревоге за свою семью и за судьбу государства.
Действительно, едва успели похоронить великого князя, как уже начались в правительстве смуты. По доносу на удельного князя Юрия его арестовали правившие бояре по соглашению с великой княгиней. Месяца через два другого удельного князя Андрея выслали на его удел в город Старицу и взяли с него «запись» о полном подчинении московскому правительству. Вскоре после этого великая княгиня Елена при содействии ее любимца князя Ивана Федоровича Оболенского-Телепнева освободила себя от установленной над нею опеки и совершила правительственный переворот. Она арестовала своего знаменитого дядю Михаила Глинского и князей И.Ф. Вельского и И.М. Воротынского. Другой Вельский (Семен) и родственник Захарьина Иван Ляцкий скрылись от опасности опалы в Литву. Во время этого переворота Шуйские уцелели[30 - За исключением князя Андрея Михайловича, который сидел в тюрьме, по-видимому, по прикосновенности к делу удельного князя Юрия.] и остались в правительстве, но главная сила и власть сосредоточились в руках временщика Телепнева, который действовал именем Елены. С конца 1534 и до начала 1538 года продолжалось это правление великой княгини. В 1537 году ей удалось заманить в Москву удельного князя Андрея и заточить его в оковах в тюрьме, где он вскоре и умер, жену его и сына Владимира арестовать и держать под стражей. Это было в начале лета 1537 года, а всего через несколько месяцев, 3 апреля 1538 года, самой Елены не стало. Ее, по возникшему тогда упорному слуху, извели бояре отравою. Прошла с ее смерти какая-нибудь неделя, и «боярским советом князя Василия Шуйского и брата его князя Ивана и иных единомысленных им» любимец Елены Телепнев был взят: «…и посадиша его в палате за дворцом у конюшни и умориша его гладом и тягостию железною». Тогда же освободили из-под стражи И.Ф. Вельского и А.М. Шуйского. Таким образом, с падением Телепнева восстановился при великом князе Иване тот состав регентства, какой был намечен умиравшим Василием. Только не было в нем Михаила Львовича Глинского: он умер в тюрьме года через два после своего ареста (15 сентября 1536 года).
При оценке правительственного порядка, действовавшего в Москве в малолетство Грозного после смерти его матери, необходимо помнить, что власть была в руках тех фамилий, которым ее доверил великий князь Василий. Все это были близкие Василию семьи: или его «племя» (Вельские), или «племя» его жены (Глинские), или же родовитейшие князья Рюриковичи, которым, при доверии к ним государя, неизбежно принадлежало первенство в Думе и администрации (Шуйские). Если бы в этой среде дворцовых вельмож сохранилось согласие, они явились бы обычным регентством, династическим советом, действовавшим в интересах опекаемого монарха. Но эти люди перессорились и превратили время своего господства в непрерывную смуту, от которой терпели одинаково и государь, и подданные. Изучая немногие дошедшие до нас сведения об этой смуте, не видим никаких принципиальных оснований боярской взаимной вражды. Вельские и Глинские выступают всегда как великокняжеская родня, дворцовые фавориты, живущие в полной солидарности с главою их «племени». Действия Шуйских имеют вид дикого произвола, за которым не видать никакой политической программы, никакого определяющего начала. Поэтому все столкновения бояр представляются результатом личной или семейной вражды, а не борьбы партий или политических организованных кружков. Современник по-своему определяет этот неизменный, своекорыстный характер боярских столкновений: «…многие промежь ихбяше вражды о корыстех и о племянех их; всяк своим печется, а не государьским, не земским». Около виднейших и влиятельнейших сановников группировались их друзья и клиенты и, пользуясь удачею своего патрона, принимались из его торжества извлекать свою пользу, «корысть». На доставшихся им должностях были они «свирепи, аки Львове, и люди их, аки зверие дикии, до крестьян». Политическими притязаниями или классовыми вожделениями ни на минуту нельзя объяснять этого позорного грабительского поведения временщиков, овладевавших властию в стране при малолетнем великом князе.
Ему приходилось страдательно наблюдать, как через полгода после смерти его матери и восстановления боярского регентства Шуйские упрятали в тюрьму Ивана Вельского и убили дьяка Федора Мишурина; «не любя того, что он за великого князя дела стоял»; а затем (в начале 1539 года) вынудили московского митрополита Даниила оставить сан и уйти в монастырь «за то, что он был в едином совете с князем Иваном Вельским». На его место был поставлен митрополитом Троицкий игумен Иоасаф. Он оказался человеком независимым и, выбрав время (летом 1540 года), настоял на освобождении Вельского. Благодаря этому диктатура Шуйских прекратилась и как будто бы восстановилась деятельность регентства. Покушения татар на московские границы от Казани (зимою в конце 1540 года) и от Крыма (летом 1541 года) погасили было боярские ссоры и напрягли энергию московского правительства на защиту государства. Но когда опасность миновала, Шуйские взялись за старое. Князь Иван Васильевич Шуйский всю вторую половину 1541 года находился во Владимире с войсками против татар. Там он и подготовил переворот, опираясь на преданные ему отряды войска. Его отряд в ночь на 3 января 1542 года ворвался в Москву и произвел ряд насилий. Князь Иван Вельский был схвачен и сослан на Белоозеро в тюрьму, где вскоре потом убит. Его друзья были разосланы по городам. Митрополит Иоасаф от страха ночью прибежал в покои великого князя, но бояре с Шуйским нашли его и там, при государе подвергли оскорблениям и, вытащив оттуда, сослали в Кириллов монастырь. Вместо него митрополитом был наречен и поставлен Новгородский архиепископ Макарий. В Москве опять настало засилье Шуйских; но самый видный из них князь Иван Васильевич теперь сошел со сцены, по-видимому пораженный болезнью. Вместо него действовали Шуйские старшей линии этого рода – князья Андрей и Иван Михайловичи и князь Федор Иванович Скопин-Шуйский. Первенствовал Андрей (дед будущего московского царя Василия Шуйского). Прошло года полтора под властью Шуйских, пока не назрел решительный перелом в московской смуте. В сентябре 1543 года Шуйские при государе и митрополите «у великого князя на совете» учинили насилие над Федором Семеновичем Воронцовым «за то, что его великий князь жалует и бережет». Его чуть не убили и пощадили только «для государева слова», потому что Иван очень просил за него. Но все-таки Воронцова с сыном против государевой воли сослали на Кострому. При этом случае бояре во дворе оскорбили митрополита Макария, порвав на нем мантию. Насилие над Воронцовым переполнило меру терпения Ивана. Ему было уже тринадцать лет. Он ненавидел Шуйских как своих постоянных обидчиков и решился на мщение за их обиды, вероятно подстрекаемый и со стороны – боярами. Прошло три-четыре месяца после случая с Воронцовым, и около 1 января 1544 года Иван вдруг «велел поимати первосоветника их» князя Андрея Михайловича и «велел его предати псарем, и псари взяша и убита его, влекуще к тюрьмам». Люди, которые не верили, чтобы такое деяние могло исходить от малолетнего государя, говорили о князе Андрее, что «убили его псари у Куретных ворот повелением боярским, а лежал наг в воротех два часа».
Смертью князя Андрея окончилось время Шуйских. Официальная московская летопись говорит, что, погубив «первосоветника», великий князь сослал его брата князя Федора Ивановича и других членов их правящего кружка – «и от тех мест начали бояре от государя страх имети и послушание». Регентство окончилось, все главнейшие лица, введенные в него великим князем Василием, уже сошли с земного поприща. Не было в живых ни Михаила Глинского, ни Ивана Вельского, ни Василия и Ивана Шуйских. Оставались только второстепенные или недеятельные сановники вроде князя Дмитрия Федоровича Вельского и М.Ю. Захарьина. Они не владели волею Ивана. Ближе всех к Ивану были его дяди Юрий и Михаил Глинские с их матерью, бабушкой Ивана, княгинею Анною. Эта семья и получила влияние на дела при великом князе, еще не созревшем для управления. Скрываясь за подраставшим государем и не выступая официально, Глинские совершили много жестокостей и насилий и очень дурно влияли на самого государя.
Годы 1544–1546 были временем Глинских, и об этом времени в народе сохранилась плохая память. О Глинских говорили, что «от людей их черным людям насильство и грабеж, они же их от того не унимаху». Выросший и физически окрепший Иван выказывал дурные склонности, мучил животных, «бесчинствовал, собравши четы юных около себя детей», и даже покушался «всенародных человеков, мужей и жен, бити и грабити, скачуще и бегающе всюду неблагочинне». Окружавшие его «ласкатели», то есть Глинские, не только не унимали его, но и похваливали, говоря, что «храбр будет сей царь и мужествен». Пользуясь его склонностью к озорству, они «подучали» его на опалы и казни. Так говорят нам современники. И действительно, в эти годы Иван с чрезвычайной легкостью ссылает и казнит людей, по-видимому, за малые вины, и притом не разбирая, к какому кругу боярскому они принадлежат. Страдают люди стороны Шуйских в той же мере, как их недруги и противники. Всего показательнее судьба Федора Семеновича Воронцова. Выше было сказано, что в 1543 году Ф. Воронцова государь «жаловал и берег», Шуйские же его сослали. По смерти Андрея Шуйского государь «опять его в приближении у себя учинил»; а в 1546 году Федор Воронцов был казнен вместе со сторонником Шуйских князем Иваном Кубенским по общему на них обоих доносу, к тому же доносу лживому. Таковы были первые шаги Грозного после уничтожения гласной опеки Шуйских под негласной опекой Глинских. Нет ничего удивительного в том, что кровь и грабежи сверху вызвали бунт и кровь снизу. В 1547 году после больших московских пожаров толпа погорельцев убила одного из Глинских, князя Юрия, и, пришедши «скопом ко государю» в село Коломенское, пыталась требовать выдачи государевой бабки княгини Анны и другого дяди Ивана князя Михаила. Государь их не выдал, и они уцелели. Но имущество Глинских было погромлено и их людей «бесчисленно побита»; «много же и детей боярских незнакомых побита из Северы, называючи их Глинского людьми». Этим погромом ненавистной семьи закончилось время Глинских и вместе с тем завершился первый период юности Грозного. Иван перешел в другую полосу своей жизни.
Мы с некоторою подробностью остановились на боярской смуте, чтобы показать, что именно видел Иван в своем детстве. Не идейную борьбу, не крупные политические столкновения, а мелкую вражду и злобу, низкие интриги и насилия, грабительство и произвол – все это ему приходилось изо дня в день наблюдать и терпеть на себе[31 - Грозный в письме к Курбскому рассказывал, что его с братом бояре плохо кормили и «одевали, с ними дерзко обращались («многажды поздно ядох не по своей воли»), оскорбляли память его отца; крали казну, золото, серебро и меха, и «вся по мзде творяще и глаголюще». Эти обвинения были главным образом направлены на Шуйских.]. На этом образовались его первые понятия, на этом воспиталась душа. И все лучшее, что приходило к Ивану в эту пору, мешалось с нездоровыми инстинктами, возбужденными средою. А лучшее несомненно приходило: оно пришло во дворец Грозного, например, с митрополитом Макарием. Макарий явился из Новгорода в Москву в ореоле литературной известности. Будучи архиереем в Новгороде, он достиг там необыкновенной популярности: его почитали «учительным» и «святым» человеком. Он «беседовал к народу повестьми многими» так понятно, что все «чюдишася, яко от Бога дана ему бысть мудрость в божественном писании – просто всем разумети». С его появлением в Новгороде «бысть людем радость велия не только в Великом Новгороде, но и во Пскове и повсюде: и бысть хлеб дешев, и монастырем легче в податех, и людем заступление велие, и сиротам кормитель бысть». Эти достоинства пастыря, очевидные всем, сопрягались у Макария с подвигом, недоступным разумению толпы. Он задумал собрать в один сборник все «чтомые книги яже в Русской земле обретаются». Для такого сборника новгородская почва была наиболее пригодной, потому что на Руси она была наиболее культурна. Десяток лет провел Макарий в этом труде. Он соединил вокруг себя многих деятелей, собиравших литературный материал и работавших над его редакцией: в их числе были дьяки (Д.Г. Толмачев), дети боярские (В.М. Тучков), священники (знаменитый Сильвестр). В результате к 1541 году были готовы «Минеи-Четьи» – громадный сборник (более 13 500 больших листов) произведений «божественных»: житий, поучений, книг Ветхого Завета и тому подобного. Одних житий было в сборнике около 1300. Перейдя на митрополичий стол в Москву Макарий перевел туда своих сотрудников и продолжал там привычную работу, дополняя и совершенствуя свой материал. Работа шла около молодого государя, бывшего в непосредственном общении с митрополитом, и государь знакомился со всем кругом тогдашнего чтения, входил в литературные интересы митрополита, подпадал под его влияние, учился под его руководством и приучался ценить и уважать нравственные его достоинства. Не склонный к политической борьбе, далекий от интриг, спокойный и преданный умственному труду, Макарий остался чист от грязи боярских столкновений и злоупотреблений и для молодого государя явился человеком как бы иного мира. Способный и умный юноша охотно и легко поднимался на высоты Макарьева миросозерцания и вместе с литературными знаниями усвоил себе и национально-политические идеалы, которым веровала окружавшая митрополита среда. Теория единого вселенского православного государства с самодержавным монархом, «царем православия» во главе, овладела умом Ивана. Риторика макарьевской школы пришлась ему по вкусу, и чтение стало любимым его занятием. К своему «возрасту», то есть совершеннолетию, Иван стал образованным, «книжным» человеком, для того времени передовым. «Муж чудного рассуждения, в науке книжного поучения доволен, и многоречив зело» – так отзывались о нем его современники.
Таковы обстоятельства, создавшие двойственность в натуре Грозного. Если бы влияние Макария всецело подчинило себе Ивана, оно бы его пересоздало. Но оно действовало в атмосфере дворца, насквозь отравленной произволом, насилием и развратом. Шуйские и Глинские достаточно позаботились о том, чтобы познакомить Грозного с отрицательными сторонами тогдашнего быта. Грабя и насильничая на его глазах, они и его увлекали за собою к произволу и жестокости. Немногие по числу известия летописей о молодом Иване красноречивы по характеру. Они говорят о его жестокостях, пустых забавах и даже грабительстве. Так, описывая путешествие Ивана с его младшим братом Юрием в Новгород и Псков осенью 1546 года, местные летописцы не скрывают своего неудовольствия. Псковичи жалуются, что великий князь в их области дела не делал, а «все гонял на месках» (то есть скакал на лошадях), «быв немного» в самом Пскове: также и брат его недолго побыл в городе, «а не управив своей отчины ничего». Оба они спешили к Москве, «а христианам много протор и волокиты учинили». Высочайшее посещение рассматривалось как бедствие. В это же путешествие, в конце ноября 1546 года, Грозный в Новгороде, по местному известию, ограбил Софийский собор. Он в соборе «неведомо какуведа казну древнюю, сокровенну в стене». Явившись ночью, стал «он пытати про казну» ключаря и пономаря и, «много мучив их», ничего не допытался, но все-таки вскрыл стену «на всходе» (лестнице), «куда восхождаху на церковные полати», и нашел там «велие сокровище» – серебряные слитки – и «насыпав возы и посла к Москве». Не получив управы у себя в городе, псковичи вслед за Иваном послали в Москву весною 1547 года семьдесят ходоков «жаловатися на наместника» их князя Турунтая Пронского. Жалобщики нашли великого князя в коломенском сельце Островке, куда он, по обычаю, выехал «на прохлад поездити потешитися». Государь остался недоволен тем, что его обеспокоили, «опалился на псковичь, их бесчествовал, обливаючи вином горячим, палил бороды и волосы да свечею зажигал и повелел их покласти нагих по земли». И все это делалось в те же месяцы, когда под руководством Макария Иван торжественно с умильными речами обращался к митрополиту и боярам и совет держал с ними, «восхоте бо великий государь женитися и о благословении еже сести на царстве на великом княжении». Осенью 1546 года совершилось легкомысленное путешествие в Новгород и Псков; в декабре Иван объявил Макарию и всем боярам, даже тем, «которые в опале были, что он женится и хочет венчаться царским венцом»; в январе 1547 года произошло торжественное принятие царского титула; в феврале состоялась свадьба Ивана с дочерью окольничего Романа Юрьевича Захарьина и благочестивое пешее хождение новобрачных в Троице-Сергиев монастырь; а около 1 июня псковские жалобщики испытали на себе глумливую милость и ласку нового царя. Очевидно, высокие слова и пышные идейные церемонии отлично уживались в Грозном с низкими поступками и распущенностью. Воспринятые умом благородные мысли и широкие стремления не облагородили его души и не исцелили его от моральной порчи. Красивым налетом легли они на поверхности, не проникнув внутрь, не сросшись с духовным существом испорченного юноши.
Глава вторая
Первый период деятельности Грозного. – Реформы и татарский вопрос
1.1547 год; образование «Избранной рады»
Пышными церемониями венчания на царство и свадьбы начинается новый период в жизни Ивана. Торжества во дворце по времени почти совпали с рядом больших пожаров в Москве и с народным бунтом и погромом на Глинских. На Пасхе 1547 года выгорел Китай-город; через неделю сгорели кварталы за Яузой; в июне произошел тот громадный пожар, который вызвал погром и получил историческую известность в связи с нравственным «перерождением» Грозного. Выгорел Кремль весь и почти все «посады» Москвы: можно сказать, пострадал весь город целиком «и всякие сады выгореша и в огородах всякий овощ и трава»; считали, что сгорело 1700 человек. Царь уехал в село Воробьево, где и «стоял» до возобновления города. На пожарище же народная толпа искала виновников происшедшего бедствия и нашла их в лице Глинских и их дворни. Одного из Глинских убили и пошли к царю в Воробьево, требуя выдачи других. Царь ответил казнями, и движение улеглось после многих жертв.
Все это полугодие 1547 года для Ивана было рядом сильных переживаний, и немудрено, что современники именно к этому периоду относили начало внутренней перемены в молодом царе. Очень изобразительно князь А.М. Курбский в своей «Истории о великом князе Московском» рассказывал, что после пожара и бунта Бог чудесно «руку помощи подал отдохнуть земле христианской»: тогда к царю «прииде един муж, презвитер чином, именем Сильвестр, пришелец от Новаграда Великого, претяще ему от бога священными писаньми и срозе (то есть строго) заклинающе его страшным божиим имянем, еще к тому и чудеса и акибы явление от бога поведающе ему… и последовало дело: иже душу его от прокаженных ран исцелил и очистил был, и развращенный ум исправил». Еще изобразительнее Карамзин представил «перерождение» Ивана. Воспользовавшись рассказом Курбского, он понял начальное в нем слово «прииде» в том смысле, что Сильвестр внезапно откуда-то проник к царю, не будучи ему ранее известен. Когда, по словам Карамзина, «юный царь трепетал в Воробьевском дворце своем, а добродетельная (его супруга) Анастасия молилась, явился там какой-то удивительный муж, именем Сильвестр, саном иерей, родом из Новагорода, приблизился к Ивану с подъятым, угрожающим перстом, с видом пророка, и гласом убедительным возвестил ему, что суд Божий гремит над главою царя легкомысленного и злострасного… потряс душу и сердце, овладел воображением, умом юноши и произвел чудо: Иван сделался иным человеком…» Но в сущности, чуда никакого не было, как не было и внезапного появления Сильвестра, столь «усиленного в колорите» (по выражению Д.П. Голохвостова) красноречивым историком. Известно, что Сильвестр был в Москве задолго до событий 1547 года; он прибыл туда, вероятно, в 1542 году вместе с его патроном митрополитом Макарием. С другой стороны, ни по летописям, ни по иным документам не видно крутой перемены в самом Иване после пожара 1547 года. Один Курбский (и то, если его понять так, как понял Карамзин) изображает внезапный переворот в душе и поведении молодого царя. Но именно благодаря Курбскому, если сопоставить его слова с официальной летописью, можно догадаться, что народный бунт 1547 года действительно повел к существенной перемене – только не в царе, а в правительстве московском.
После бунта окончилось время Глинских и прекратилось их влияние на дела. Народ убил Юрия Глинского, а его брат Михаил Васильевич Глинский, который, по словам Курбского, «был всему злому начальник», убежал из Москвы, как «и другие человекоугодницы сущие с ним». Но и там, куда скрылся Глинский, в ржевских его селах, он не чувствовал себя безопасным. Вместе с видным сторонником кружка Шуйских князем Иваном Ивановичем Турунтаем-Пронским он пытался бежать в Литву. Оба они начали побег по первому зимнему пути, в ноябре 1547 года, но запутались «в великих тесных и непроходимых теснотах» глухой ржевской украйны и не достигли цели. Укрываясь от погони, они сами добрались до Москвы, где и были арестованы. Свой поступок они объяснили боязнью: «…от неразумия тот бег учинил, обложася страхом княже Юрьева убийства Глинского». Однако в ту минуту нечего было бояться погрома – Москва давно успокоилась: царь праздновал свадьбу своего младшего брата Юрия с княжной Палецкой; в те же дни (ноябрь 1547 года) выступил из Москвы авангард московского войска, собранного против Казани, и сам царь собирался ехать к войску. Словом, жизнь московская шла уже обычным порядком. А родной государев дядя бежит в Литву вместо того, чтобы веселиться на свадьбе своего младшего племянника, и с ним бежит крупный боярин, принадлежавший к стороне Шуйских, то есть к тому кругу дворцовой знати, который был далек от Глинских, даже им враждебен, и вовсе не был жертвою народного погрома. Очевидно, не боязнь мятежной толпы гнала беглецов в Литву, а перемена в московском правящем кругу. Около царя вместо компрометированных и низверженных Глинских стали другие доверенные лица. Они были настроены так, что «всему злому начальник» Михаил Глинский и псковский наместник Турунтай, при Глинских угнетавший псковичей, могли ожидать на себя гонения и надумали от заслуженного возмездия спастись бегством. Курбский со своим обычным риторическим приемом освещает для читателя вопрос о том, как образовался около Грозного правящий кружок. Рассказав, как «прииде» к царю Сильвестр, он продолжает: «С ним же (Сильвестром) соединяется во общение един благородный тогда юноша ко доброму и полезному общему, имянем Алексей Адашев; цареви ж той Алексей в то время зело любим был и согласен». Вдвоем Сильвестр и Адашев, склонявших Ивана на зло «прежде бывших» правителей, «яже быша зело люты», удаляют или «уздают и воздержат страхом бога живаго». А вместо удаленных и сосланных правителей, «оных предреченных прелютейших зверей», Адашев и Сильвестр, во-первых, «присовокупляют себе в помощь» митрополита Макария, который призывает царя к покаянию и ко внутреннему обновлению, а во-вторых, собирают к нему советников – мужей разумных и совершенных, во старости маститей сущих… других же аще и во среднем веку, такоже предобрых и храбрых… и сице ему их в приязнь и в дружбу усвояют, яко без их совету ничего же устроити или мыслити». Ясен происшедший дворцовый переворот: народный бунт сверг опеку Глинских; духовным сиротством «злострастного» царя воспользовались приближенные к нему случайные люди, не входившие в состав ранее правившей знати. Они построили свое влияние на личной приязни и моральном подчинении царя и удалили от него всех прежних опекунов и советников, от дяди Глинского до сторонников Шуйских. Воодушевленные желанием общего блага, они поставили своей задачей нравственное исправление самого Грозного и улучшение управления. В митрополите Макарии они получили помощника и нередко вдохновителя. Так около Грозного, видевшего до той поры вокруг себя только зло и произвол, образовалась впервые идейная среда. Она оказала могучее влияние не только на ход государственных дел, но и на развитие личных правительственных способностей, которыми бесспорно был одарен Грозный. Но ей не под силу было истребить в нем укоренившиеся с детства дурные инстинкты и привычки.
Можно думать, что образование нового правящего кружка около Грозного совершилось не сразу, а шло исподволь. Адашеву и Сильвестру удалось сразу сокрушить Глинских и самим укрепить свое влияние при царе, привыкшем к опеке и сотрудничеству в делах управления; но собрать «мужей разумных и совершенных» и образовать из них согласованный и спевшийся кружок необходимо было время. По летописям и разрядам 1547–1549 годов можно установить, что к осени 1547 года режим Глинских пал; но признаки новых веяний в правительственной практике становятся заметны только в начале 1549 года. Весь же 1548 год проходит для царя в привычной рутине: зимний поход на Казань без особого результата, богомольные «походы» летом по монастырям, осенью «объезд» на охоту, «на свою царскую потеху», и по далеким «святым местам» Замосковья. Не видно, чтобы государственные дела более чем прежде занимали Грозного. По-видимому, в это время за его спиною формировалась постепенно «Избранная рада» из людей, привлеченных временщиками Сильвестром и Адашевым, вырабатывалась программа действия, слагались отношения, понемногу связавшие Грозного полною зависимостью пред «собацким собранием» (так он по-своему называл впоследствии «Избранную раду»). Состав этого собрания, к сожалению, точно не известен; но ясно, что он не совпадал ни с составом Думы «бояр всех», исконного государева совета, ни с ближней думою, интимным династическим советом[32 - Личный состав Боярской думы «бояр всех» и ближней думы тех лет нам известен. Ближними боярами были в те годы князь И.Ф. Мстиславский, князь В.И. Воротынский, И.В. Шереметев «большой», князь Д.И. Курлятев, М.Я. Морозов, князь Д.Ф. Палецкой, Д.Р. Юрьев-Захарьин, В.М. Юрьев-Захарьин. Из них один Курлятев принадлежал к «Избранной раде».]. Это был частный кружок, созданный временщиками для их целей и поставленный ими около царя не в виде учреждения, а как собрание «доброхотающих» друзей. Во главе этого кружка стоял поп Сильвестр, о котором со всех сторон идут согласные отзывы, что это был всемогущий временщик. Официальная летопись говорит: «Бысть же сей священник Селивестру государя в великом жаловании и в совете в духовном и в думном и бысть яко всемогий, вся его послушаху и никтоже смеяше ни в чем же противитися ему… И всеми владяше обема властми, и святительскими и царскими, якоже царь и святитель, точию имени и образа и седалища не имеяше святительского и царского, но поповское имеяше, но токмо чтим добре всеми и владеяше всем со своими советники». Сам царь признавался, что как младенец пребывал во всей воле и хотении Сильвестра, которому «покорился без всякого рассуждения». Сильвестр с Адашевым, по словам Грозного, всю власть от него отняли и так угнетали и гнали его, что ему «властию ничим же лучше быти раба». Почин в этом царь приписывал Сильвестру: это Сильвестр подобрал в одно «собацкое собрание» и Адашева и других своих «угодников». Со своей стороны и Курбский считает Сильвестра тем «блаженным льстецом истинным», который первый задумал перевоспитать царя и взять его под опеку «разумных и совершенных» советников. Рядом с ним молодой сверстник Грозного Алексей Адашев, конечно, занимал второе место, хотя, быть может, по служебной близости к царю (он был «комнатным» спальником и стряпчим, то есть жил при царе) именно Адашев и был проводником того влияния, которое шло от «Избранной рады». Не принадлежал Адашев в 1547–1548 годах ни к боярству, ни к думным чинам; он был из высшего слоя провинциального (костромского) дворянства и ко двору попал случайно, всего вероятнее, в числе тех «потешных робяток», которые были взяты во дворец для игр к маленькому великому князю Ивану. Это и дало повод Грозному сказать, что он не знает, как около него оказался «собака Алексей» еще в дни его детства: «…в нашего царствия дворе в юности нашей, не вем каким обычаем из батожников[33 - Батожник – служитель с батогом (палкой), идущий впереди царского или боярского поезда и расчищающий путь; на севере – церковный сторож с батогом (по Далю).] водворился». По сообщению Грозного, он приблизил к себе Адашева, «взяв сего от гноища», потому что ждал от него «прямой службы» и думал, что он заменит царю изменных «вельмож». По-видимому, на придворную карьеру Адашева повлияли его личные качества. Курбский отзывается о нем очень хвалебно, говоря, что он был «отчасти при некоторых нравех ангелам подобен» и настолько совершенен, что «воистинну вере не подобно было бы пред грубыми и мирскими человеки». Когда Адашев был в войсках в Ливонии, то, по словам Курбского, немало градов лифляндских готово было сдаться ему «его ради доброты». Много спустя после кончины Адашева, в 1585 году, при начале карьеры Бориса Годунова, в Польше Гнезненский архиепископ Станислав Карнковский, расспрашивая московского посланника Лукьяна Новосильцова о Борисе, сравнил его с Адашевым, отозвавшись об Адашеве очень лестно, как о человеке разумном, милостивом и «просужем» (дельном), который «государство Московское таково же правил», каково было правление Годунова. Таким образом, личные свойства Адашева нашли себе широкую популярность даже за пределами его родины.
Из остальных членов «Избранной рады» по имени точно (со слов самого Грозного) известен только князь Дмитрий Курлятев, старый слуга великого князя Василия Ивановича, в 1548 или 1549 году пожалованный в бояре; да почти наверное можно причислить к раде князя Андрея Михайловича Курбского. О других лицах можно лишь гадать. Можно утверждать, однако, что, судя по общей тенденции рады, в ней преобладал княжеский элемент и, вероятно, княжата из разных удельных линий составляли в ней большинство. Сам Грозный сделал на это намеки в письме к Курбскому, указывая на главные вожделения членов рады. Во-первых, в одном месте своего письма[34 - Русская Историческая библиотека. СПб., 1914. Т. XXXI: (Сочинения князя А.М. Курбского). С. 28, 30,55.] он определенно под «изменниками» разумеет «княжат», когда говорит, что эти изменники прочили престол мимо его сына удельному князю Владимиру Андреевичу. Для него Курбский есть «рождение изчадия ехиднова», княжеского рода, и потому сам «яд отрыгает», то есть изменяет царю; «вы, злые суще, – говорит царь, разумея удельных князей, – извыкосте от прародителей своих измену чинити». Известно, что в 1553 году именно «Избранная рада» отошла от Грозного, держалась Владимира Андреевича и не желала воцарить малютку сына Грозного. Во-вторых, по сообщению Грозного, как только укрепилось влияние Сильвестра и образовалась «Избранная рада», Сильвестр «почал» восстановлять свободу «княжеского землевладения», стесненную распоряжениями великого князя Ивана III; «которые вотчины у вас (то есть князей) взимали, – писал Грозный, – и которым вотчинам еже несть потреба от вас даятися, и те вотчины, ветру подобно, роздал (Сильвестр) неподобно». В переводе на наш язык это значит, что «Избранная рада» поспешила возвратить потомкам удельных князей конфискованные у них родовые вотчины и восстановить свободу отчуждения и завещания этих вотчин, уничтоженную московскими государями. Конечно, этот акт имел вид классовый и обличал чисто княжескую тенденцию рады. К этим определенным намекам Грозного надо прибавить то общее впечатление от его письма, что для царя главными его врагами, стеснявшими его личную свободу и волю, представляются именно князья. «Поп» Сильвестр и Алексей Адашев первые не князья, которые вместе с князьями пытаются продолжить опеку над Грозным.
Так с полной вероятностью выясняется характер создавшихся вокруг Грозного отношений. Молодой государь подпал личному влиянию «попа» и своего близкого сверстника Адашева. Они были проникнуты желанием оздоровить правительство и подобрать годных к этому людей. Наиболее пригодную для государственного управления среду они видели в потомстве удельных князей, сохранившем правительственные навыки и династические воспоминания, и в этой именно среде они подыскивали своих советников (по-видимому, предпочитая Рюриковичей Гедиминовичам). Составленная ими «Избранная рада», стоявшая вне привычных московских учреждений, с большою свободою обдумала план реформ, предназначенных к водворению порядка в расшатанном во время регентства государстве. Осуществление этого плана началось в первые месяцы 1549 года.
2. Приступ к реформам