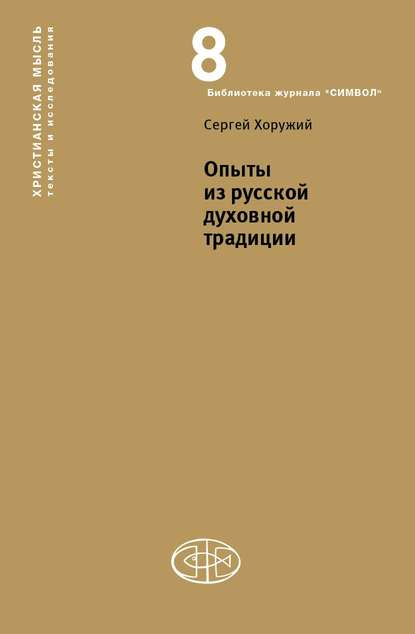По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Опыты из русской духовной традиции
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Такая позиция обнаруживает глубокое духовное чутье, ибо вполне соответствует установкам изначального христианства, как их описывает, например, Ханна Арендт: «Христианская концепция политической свободы… выросла из подозрения и вражды ранних христиан ко всей публичной сфере как таковой, от забот которой они требовали избавления ради свободы»[65 - X. Арендт. Что такое свобода? // Точки – Puncta. 2007, № 1–2. С. 196.]. Согласно Арендт, в основе этой позиции лежит «определение политической свободы как потенциальной свободы от политики», и в истории политической мысли можно выделить целую линию, следующую подобному пониманию свободы и политических прав. К этой линии и принадлежат славянофилы. Поскольку неприкосновенная сфера «свободы жизни и духа» трактуется ими весьма широко, то их позиция, хотя и утверждает необходимость самодержавия, но в то же время парадоксально сближается с политическими теориями сокращения, минимизации прерогатив государства. Так выражал эту позицию Иван Аксаков: «Русский народ не политический… а народ социальный, имеющий задачей внутреннюю жизнь, жизнь земскую. Его идеал не государственное совершенство, а создание христианского общества… Для нас же забота та, чтобы государство давало как можно более простора внутренней жизни и само бы понимало свою ограниченность, недостаточность»[66 - И.С. Аксаков. Письмо графине А.Д. Блудовой от 15.01.1862. Цит. по: Ранние славянофилы. Сост. Н.Л. Бродский. М., 1910. C.LIV–LV.]. Сюда же можно добавить, что «правовой нигилизм» славянофилов можно понимать и значительно мягче, как утверждение своего рода имплицитного права, содержащегося в сфере религии и веры. В.В. Бибихин напоминает: «Поскольку религия понималась как закон, старославянская вhра имела сильный правовой смысл, он сохранился в верный, в смысле надежный»[67 - В.В. Бибихин. Ранний Хайдеггер. М., 2009. С.507.]. Однако и признавая все эти аргументы, нельзя не признать, с другой стороны, справедливость весьма взвешенной критики Б.Кистяковского, который указывал в «Вехах», что правовой нигилизм славянофилов был затем унаследован интеллигенцией и привел к «притупленности правосознания» у нее и к тому, что она отнюдь не стремилась преодолевать «застарелое зло – отсутствие какого бы то ни было правопорядка в повседневной жизни русского народа»[68 - Б.А. Кистяковский. В защиту права // Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909.С.130.]. И сегодня мы можем констатировать, что «застарелое зло» благополучно дожило до наших дней.
Возвращаясь же к личности, мы видим, что, хотя «Земля» К. Аксакова, вслед за его общиной, – тоже идеализированный чисто этический конструкт (ср.: «Сила нравственная… есть элемент, в котором живет и движется Земля»), но концепция Земли несет в себе важные, опять-таки обще-славянофильские, идеи о правах личности. По учению славянофилов, эти права отнюдь не относятся к политике, они входят во «внутреннюю жизнь», в сферу Земли, и потому – неприкосновенны, неотчуждаемы. Вследствие этого, пафос свободы, достоинства и прав личности – никак не монополия западников. Славянофилы активно настаивали на свободе слова и мысли, и едва ли их заявления по резкости требований уступали протестам западников. Белинский представил свою сокрушительную критику в частном письме Гоголю; но Константин Аксаков писал в Записке, поданной императору: «Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестною ложью… всё обняла ложь, везде обман… Всё зло происходит от угнетательной системы нашего правительства… Эта система, если б могла… то обратила бы человека в животное, которое повинуется, не рассуждая»[69 - К.С. Аксаков. Записка о внутреннем состоянии России // Ранние славянофилы. С. 89–91.]. Брат же его, в передовице, открывавшей первый нумер основанной им газеты «День», вносил такое предложение в Свод Законов: «Прежде всего необходимым кажется нам постановить твердое правило, которое и внести в 1 Том Свода Законов… [как] главу 1 следующего содержания:
Свобода печатного слова есть неотъемлемое право каждого подданного Российской империи, без различия звания и состояния»[70 - И.С. Аксаков. Передовая газеты «День», 19 мая 1862. Цит. по: Ранние славянофилы. С. 129.].
Но при всем том, концепция личности у Константина Аксакова оказывается довольно фантастической. Как мы уже видим, личность, по его мысли, никак не отсутствует в русском социуме, однако реализуется она в очень своеобразной форме, которую трудно не признать ирреальной. Аксаковский человек, член общины или Земли, самоотверженный, отказывающийся не только от эгоизма, но и от самой своей личности, чтобы в «нравственном хоре» обрести ее «в высшем и очищенном виде», – есть также чисто этический конструкт, всецело этицизированный человек, и потому – лишь антропологическая утопия. Можно только добавить, что сам Константин Аксаков, по свидетельствам, в жизни был крайне близок к этому несуществующему человеку…
Другие славянофилы видят общинное и земское устройство, а равно и личность в нем, более реалистично. Хомяков был главным создателем учения об общине, но он, тем не менее, не разделяет этического утопизма К. Аксакова, замечая трезво: «Личные добродетели далеко не развивались в сельских мирах в той степени, в какой развивались добродетели общежительные»[71 - А.С. Хомяков. По поводу статьи И.В. Киреевского… С.243.]. На его взгляд, «высокие личные добродетели в сельском быту» – только «прекрасные исключения», а еще, к тому же, форма западная, дружина, «стояла бесспорно на высшей степени личной добродетели», – откуда легко сделать вывод, что судьба личности в общине видится ему, в сущности, почти также как западникам. И тем не менее, в главном, в положительном своем содержании, позиции Хомякова в проблеме личности нисколько не приближаются к западническим. Эти позиции развиваются им уже не в рамках учения об общине, а совсем независимо от него – в его знаменитом учении о соборности.
Учение о соборности Хомякова и историко-философские идеи Ивана Киреевского – два самых значительных религиозно-философских плода славянофильства. Оба они несут заметные отличия от прочей литературы славянофильского движения (в моем очерке о Хомякове, следующем ниже в этой книге, я даже отношу учение о соборности к особому, уже не-славянофильскому этапу его творчества). Принадлежащие уже не 40-м, а 50-м годам, они по зрелости, творческому уровню выходят за рамки «кружковой философии», создававшейся в эпоху споров двух партий. Отходят они и от тематики этих споров, не касаясь ни сакраментальной общины, ни вообще национальной истории (у Киреевского историческая рефлексия имеет своим предметом, по существу, не столько «русское просвещение», сколько Восточнохристианский дискурс). В центре их – не национальная, а религиозная проблематика, более глубокая и универсальная. Этот сдвиг важен и для проблемы личности: славянофильское видение личности имело религиозные корни, и без их раскрытия не могло обрести прочного основания и даже простой отчетливости.
Сегодня, в ретроспективе, позиции двух партий в проблеме личности видятся не столь сложными. Как сказано выше, утверждавшаяся западниками «свободная, разумная и сознательная личность» соответствует антропоцентрической парадигме, в которой личность трактуется как автономный самодовлеющий индивидуум, сближаясь с метафизическим понятием субъекта. В отличие от этого, славянофильская позиция соответствует теоцентрической парадигме (см. Введение), согласно которой полнота наделенности личным бытием принадлежит не человеку, а Богу. Человеческая же личность формируется в приобщении, причастии человека Богу, причем в этом приобщении человек участвует не только интеллектуально, а целостно, всем своим существом. Поэтому цельность – ключевой предикат личности человека, и весь славянофильский дискурс личности строится как утверждение «цельной личности», представляющей собой согласную собранность всех уровней и способностей человека в единство, открытое к соединению с Богом. Однако на этом этапе раскрытие философского и религиозного содержания, заключенного в концепте цельной личности, еще только начиналось. Решающую роль в нем предстояло сыграть философии Серебряного века и шедшему за ней православному богословию личности.
Первоначально, в пору создания славянофильской доктрины, мысль Хомякова была преимущественно социальной философией, сосредоточенной на дескрипции определенного типа человеческого сообщества, который характеризовался целым рядом совершенств, идеальных свойств («общежительных добродетелей»). Две главные особенности отличали эту философию: во-первых, специфическая природа данного совершенного сообщества передавалась в органической парадигме, посредством понятия организма; во-вторых, принималось (краеугольный камень доктрины!), что это сообщество реализуется в истории в форме русской общины. Но, в отличие от Константина Аксакова, Хомяков мыслил не утопически. Смотря достаточно трезво на общинное устройство в его истории и современности, он приходил к выводу, что община не может быть воплощением совершенного органического сообщества. Новый этап его мысли рождается тогда, когда к этому негативному выводу присоединяется позитивный: действительная, единственно адекватная реализация совершенного сообщества есть – Церковь.
В основе этого этапного вывода – простая логика. Тип совершенного сообщества, в силу его совершенных, идеальных качеств, принципиально не может быть воплощен никаким эмпирическим обществом. Такое сообщество должно быть сверх-эмпирично, иметь сверх-эмпирические измерения в своей природе; и Церковь, в отличие от обычного социума, подобные измерения имеет. Далее, еще на «общинном» этапе мысли у Хомякова сформировался набор основных признаков, предикатов, характеризующих совершенное сообщество; главным, определяющим из них было гармоническое сочетание, и даже точнее, тождество, полного единства и полной свободы. Но новом этапе все эти характеристики, которые не удавалось найти в общине, Хомяков обнаруживает наличествующими в Церкви. Эта концептуализация церковного бытия осуществляется путем детального анализа одного определенного свойства, которым обладает Церковь согласно Символу веры христиан: свойства соборности. Точней, в Символе стоит «соборная Церковь», и Хомяков сам образует от этого прилагательного существительное – неологизм, который со временем занял прочное место в русской – да и не только русской – религиозной и социальной мысли.
«Соборная» – третий атрибут Церкви из четырех («едина, святая, соборная и апостольская Церковь»), выражаемый в греческом оригинале термином catholicos – по смыслу, всецелое, всеобщее, универсальное. Важная особенность русского термина – отсутствующее в оригинале сближение с понятием собора, собрания верующих. Усиленно опираясь на нее, Хомяков развивает учение о соборности как «соборном единстве», в котором полнота единства и полнота свободы его элементов не только совместимы, но предполагают друг друга. Этот синтез свободы и единства он настойчиво утверждает как главное определение природы Церкви: «Церковь – свобода в единстве»[72 - Он же. Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу одного послания Парижского архиепископа // Он же. Соч. в 2-х тт. Т.2. М., 1994. С.66.], «Единство Церкви есть не что иное как согласие личных свобод»[73 - Он же. Еще несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу разных сочинений латинских и протестантских о предметах веры. Цит. изд. С.209.] и т. п. Но сам Хомяков не применяет к этому сочетанию двух начал слова «синтез» и не дает вообще ему спекулятивной трактовки, гегелевской или иной. Как особенно подчеркивал Георгий Флоровский, дискурс соборности Хомякова развивается в элементе описания и свидетельства, это – опытный дискурс, передача его собственного церковного опыта, который был живым и глубоким («Хомяков жил в Церкви», как сказал Юрий Самарин). В горизонте же опыта, сочетание свободы и единства в Церкви является не диалектическим, а благодатным, достигаемым с помощью Божественной энергии, благодати. В соборном единстве, по Хомякову, свобода принимает особую форму – это соборная свобода, «просвещенная благодатью свобода», как и само соборное единство созидается «по благодати Божией, а не по человеческому установлению». Аналогичная связь с благодатью, «преображенная благодатью» форма отличает и все основные атрибуты церковного бытия, проявления жизни Церкви. Поскольку же благодать, Божественная энергия – принадлежность Божественного бытия, иного онтологического горизонта, то этому горизонту принадлежит и соборное единство, соборность. Флоровский, пожалуй, самый авторитетный исследователь учения о соборности, четко закрепляет: «Соборность в понимании Хомякова – это не человеческая, а Божественная характеристика»[74 - Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. Изд. З. Париж, 1983. С.277.]. Этот тезис важен, ибо позволяет сразу отбросить все многочисленные, продолжающиеся до сего дня покушения представить соборность как социальный (а часто и национальный) идеал, отнести ее не к Церкви, а к обычному социуму.
Как явствует отсюда, в учении о соборности мысль Хомякова выходит в область онтологии, причем этот выход совершается не в русле гегельянства или какого-либо иного направления западной метафизики, а неким своим путем, более богословским, но отчасти и философским. Для русской мысли это был важный шаг. Сразу в нескольких направлениях открывались новые перспективы, которые в дальнейшем постепенно осмысливались и осваивались как философией, так и богословием. Эта рецепция учения о соборности описывается в следующем разделе книги[75 - См. ниже раздел «Алексей Хомяков и его дело», II.6–7.], здесь же я укажу только ее главные вехи. В русской философии налицо, по крайней мере, три линии развития и влияния этого учения: 1) в онтологии, в связи с концепцией всеединства, 2) в теории познания, в построениях так называемой «онтологической гносеологии», 3) в социальной философии, в попытках эксплуатировать соборность как принцип социального устройства. Особняком стоит прихотливо-личное видение соборности Вяч. Ивановым: в 1910-е годы он развивал понимание ее как некоего «хорового начала», принципа единения-слияния народной стихии в фольклорно-сакральных действах. Эти его теории имели влияние, войдя в идейный фонд русского символизма и получив развитие, в частности, в концепции «культового действа» в философии культа П.Флоренского.
Родство соборности с всеединством очевидно: оба принципа коренятся в той же исходной интуиции единства и связности бытия, выражая способ конституции или принцип внутренней формы совершенного единства множества, которое, по дефиниции Хомякова, есть «единство всех и единство по всему». Но тем не менее близость их ограничена: всеединство – чисто философский концепт, принадлежащий традиции христианского платонизма, тогда как соборность имеет опытную и экклезиологическую природу, восходя к видению Церкви как мистического Тела в Посланиях Павла. Поэтому в системах всеединства русской религиозной философии онтология обязана Соловьеву несравненно больше, чем Хомякову. Иная ситуация – в концепциях «онтологической гносеологии», которые доказывали зависимость акта познания от онтологических предпосылок. Эти концепции, развивавшиеся многими философами Серебряного века (С. и Е. Трубецкими, Лосским и Франком, Флоренским, Аскольдовым и др.), были довольно различны, но большинством из них разделялись два положения:
1) Сознание имеет соборную природу. Оно не принадлежит индивидууму как таковому, но только реализуется, осуществляет свою работу через индивидуума и в индивидууме. Само же по себе оно определяется трансиндивидуальными предикатами, являясь родовым и вселенским сознанием.
2) Познание базируется на нравственных предпосылках. Оно является не чисто рассудочною, но холистической и синтетической активностью, в которую вовлекаются купно мысль, воля, чувство; и ключевым сверх-рассудочным слагаемым когнитивного акта служит любовь.
Оба эти положения прямо восходят к Хомякову, что вполне ясно из следующего важного философского пассажа: «Ясность разумения поставляется в зависимость от закона нравственного. Общение любви не только полезно, но вполне необходимо для постижения истины… Недоступная для отдельного мышления, истина доступна только совокупности мышлений, связанных любовью»[76 - А.С. Хомяков. По поводу отрывков, найденных в бумагах И.В. Киреевского // Он же. Поли. собр. соч., изд. 3. Т.1. С.283.]. Легко признать близость этих суждений также и позициям современного западного «коммунологического» мышления, утверждающего примат общения и сообщества (community and communication). Наконец, что касается социальной философии, то мы говорили уже о необоснованности переноса хомяковского концепта в эту сферу. Тем не менее, такой перенос совершался систематически, как правило, в учениях с консервативным или националистическим уклоном, от поздних славянофилов до постсоветских коммунистов и (нео)евразийцев. Исключением служит лишь теория Франка, развитая им в книге «Духовные основы общества» (1930) и пытающаяся сочетать экклезиологический статус соборности с приданием ей роли «идеально направляющей силы общественной жизни».
Развитие богословского учения о соборности было рано оборвано смертью Хомякова. Понятно, что это развитие должно было неизбежно вести к вытеснению органической парадигмы: поскольку эта парадигма, связанная биологическими коннотациями, ограничена горизонтом здешнего бытия, то онтологический дискурс должен был войти в конфликт с органическим. Можно заметить, как в поздних трудах Хомякова применение к Церкви и ее жизни понятия организма и примыкающих к нему становится более осторожным и ограниченным – и всё в большей мере в дескрипции церковного бытия выходят на первый план принципы личности, любви и общения, которые не связаны с органическою парадигмой, сверх-органичны. Дискурс соборности продвигался в сторону богословия личности и, тем самым, – к теоцентрической персонологической парадигме. Явное появление концепции личности как Божественной Ипостаси должно было бы стать решающим шагом в преодолении органицизма; но такое появление предполагало еще одну важную ступень, которая достигнута не была: углубленное развитие, вслед за экклезиологией, – христологии. Далее, усиленно подчеркивая конститутивную роль благодати в бытии Церкви, учение о соборности сближается, пускай имплицитно, и с богословием энергий, основательно забытым в ту пору. Указанные два рода православного богословия стали в 20 в. основой нового этапа православной мысли, который часто именуют этапом неопатристики и неопаламизма и который осуществил плодотворное современное возрождение Восточнохристианского дискурса. Его зачинатели Вл. Лосский и Г. Флоровский создали обновленную современную редакцию учения о соборности, которая стала существенной частью данного этапа. Поэтому Хомякова можно считать по праву одним из ранних его предтеч.
С возрождением Восточнохристианского дискурса тесно связана и мысль Ивана Киреевского. В его поздних статьях, и особенно, в программном и предсмертном труде «О возможности и необходимости новых начал для философии», намечается сам концепт Восточнохристианского дискурса, ставится и анализируется проблема создания аутентичной философии, стоящей на его основаниях (и, тем самым, вне русла европейской метафизики). С большой философской зоркостью, Киреевский (как думают многие, включая меня, сильнейший философский ум в России своего времени) выстраивает идейный контекст такой философии и указывает ее определяющие черты. Как им подчеркивается, она должна быть не новой понятийной системой, согласуемой с положениями веры как внешними требованиями (путь схоластики), а новым способом мышления, таким, который способен дать выражение духовного опыта в адекватном этому опыту философском дискурсе. Он точно указывает, что, в отличие от западной мысли, Восточнохристианский дискурс отводит духовному опыту (опыту веры, Богообгцения) ведущую роль: «Особенность православного мышления, исходящая из особенного отношения разума к вере, должна определить… господствующее направление самобытной образованности»[77 - И.В. Киреевский. О возможности и необходимости новых начал для философии // Он же. Избранные статьи. М., 1984. С.262.]. И, как он далее подмечает, эта опытная ориентация должна выражаться в своеобразной и тонкой организации мышления: «в мышлении православно верующего совокупляется всегда двойная деятельность: следя за развитием своего разумения, он вместе с тем следит и за самым способом своего мышления, постоянно стремясь возвысить разум до того уровня, на котором он мог бы сочувствовать вере»[78 - Там же.].
Еще существеннее, однако, что все его описания и характеристики верующего мышления развиваются не в русле спекулятивной метафизики, но под знаком начал личности и цельности человека. Он не оставил систематических разработок этих начал, но даже беглые его высказывания дают важный вклад в славянофильские концепции «цельной личности». Так, Киреевский писал: «Вера есть… сознание об отношении живой божественной личности к личности человеческой… Она обнимает всю цельность человека и является только в минуты этой цельности и соразмерно ее полноте… Главный характер верующего мышления заключается в стремлении собрать все отдельные части души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум и воля, и чувство и совесть… и весь объем ума сливаются в одно живое единство и таким образом восстановляется существенная личность человека в ее первозданной неделимости»[79 - Он же. Отрывки // Он же. Критика и эстетика. М., 1979. С.333–334.]. Как ясно показывают эти тезисы, позиции философа принадлежат теоцентрической персонологической парадигме, и в них определенно намечаются представления о том, что личность человека конституируется в своем устремлении к Божественной личности – в акте верующего мышления, собирающего в живую цельность все силы и способности человеческого существа. Найдем мы у него и противопоставление этих представлений западной антропоцентрической парадигме: «Все здание западной общественности стоит на развитии… личного права собственности, так что и самая личность в юридической основе своей есть только выражение этого права собственности. В устройстве русской общественности личность есть первое основание, а право собственности только ее случайное отношение»[80 - Он же. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России // Он же. Избранные статьи. С.228.].
В историко-философском контексте, намечаемая Киреевским философия должна сопрягать два полюса: она должна быть безусловно актуальной и современной, «соответствовать вопросам своего времени», и в то же время, «живительным зародышем и светлым указателем пути» должна для нее служить «философия святых отцов православной церкви»; так что, в итоге, ее задача – «согласить со святоотеческим преданием все начала современной образованности». В утверждении имманентной, непреходящей роли греческой патристики, обращение к которой может и должно питать не архаизирующую и консервативную мысль, а творческое постижение современности, идеи Киреевского прямо предвосхищают концепцию неопатристического синтеза Флоровского. Именно это – та идейная нить, следуя которой русская мысль 20 в. успешно двигалась к преодолению конфликта духовной и культурной традиций, ключевого конфликта русской культуры.
И всё же ни у Киреевского, ни у Хомякова не было создано той философии, к которой они стремились: современной, строящейся на собственных основаниях русской духовной традиции и потому отличной от классической европейской метафизики. Учение о соборности Хомякова развивалось в стихии вольного рассуждения, более богословского, чем философского, отрывочного и часто – публицистически-полемического. Комплекс идей Киреевского носил характер намечаемого проекта, к осуществлению которого ему не суждено было приступить. Задача создания русской философии осталась будущему. Однако ледоход русской мысли уже был неостановим. Начатая работа продумывания этой философии была подхвачена и продолжена.
IV. Заключение
В восприятии славянофильства и западничества в культурном сознании давно сложился симметричный стереотип, оба движения рассматриваются как однотипные, аналогичные, хотя и противостоящие друг другу; как две взаимно подобные фигуры идейных противников. В действительности, однако, они вовсе не симметричны во многих важных аспектах. Насущные потребности мысли, общества виделись им по-разному, и поэтому в центр у них ставились разные задачи: у западников – развитие, эмансипация общественного и, прежде всего, личного, индивидуального сознания, культивация свободной личности; у славянофилов – самоопределение русского сознания, его отчет себе в собственных основаниях, осмысление собственных начал, собственного исторического и духовного опыта. Видно, что эти задачи – разной природы. Первый круг, где к тому же предполагалось принятие готовых западных концепций личности и моделей общества, сводился, в основном, к проблемам социальной педагогики и просвещения, тогда как второй круг принадлежал топосу самосознания, глубоко философской проблематике. Именно поэтому Густав Шпет, стоявший сам на крайне западнических позициях, со всей определенностью утверждал: «Славянофильские проблемы… – единственные оригинальные проблемы русской философии»[81 - Г.Г. Шпет. Очерк развития русской философии. С.37.], из всех западников признав некоторое философское значение лишь за Герценом («Герцен вместе со славянофилами заправлял тесто русской философии»[82 - Он же. Философское мировоззрение Герцена. С.75.]). Мысль западников питает общественный, гражданский пафос, «религия великого общественного перевоплощения» (Герцен), и для их биографий типичен уход от философии «в общественность», как тогда говорили, – в публицистику, политику. Славянофилы никогда не пренебрегают «общественностью», но мысль их питает философский пафос, и никуда, никогда эта мысль не может уйти из топоса русского самосознания.
В итоге, в идейной жизни и культуре России надолго сложилось «разделение труда»: славянофильские тенденции преобладают в философском процессе, сфере творческой мысли; влияние западничества – в общественном движении и развитии. Напротив, покушаясь на философию, западники обыкновенно достигали лишь посредственных результатов (Шпет – исключение, подтверждающее правило), славянофилы же никогда не могли «увлечь массы» или предложить обществу реалистическую социальную программу. В этом свидетельстве истории отражается искусственность обеих доктрин, опирающихся на условные идеологические конструкты. Понятое как догма, как полнота истины, каждое из учений тут же обнаруживает явные несообразности, оказывается несостоятельным и устаревшим. Недаром все лучшие интеллектуальные достижения в обоих руслах – учение о соборности Хомякова, философский проект Киреевского, концепцию личности у Герцена – мы находили выходящими за рамки доктрин, не отвечающими догматическому западничеству или славянофильству. Но в то же время, каждое русло оказывается вовсе не устаревшим, а непреходящим, необходимым всегда – в качестве составляющего момента, одной из тенденций, граней всякой полноценной стратегии развития российской культуры.
Однако беда русской истории была в том, что оба учения не умели и не желали взглянуть на себя таким образом – как на необходимые, но частичные моменты самореализации культурного организма – живого целого, не охватываемого никакою догмой. Как выражались в старину, они не желали «признать правду друг друга» – отказаться от шор идеологизма, признать относительность своих догм и достичь «синергии», соработничества друг с другом. (Лишь ненадолго элементы такой синергии возникнут в культуре Серебряного века, мелькнут в идее Славянского возрождения…) Дальнейшее углубление поляризации общественного сознания было в порядке дня, оно с легкостью предвиделось и с неизбежностью надвигалось.
Алексей Хомяков и его дело
Введение: контекст и методология изучения русского славянофильства
«Как символ, славянофильство вечно, ибо оно есть символическое выражение русского самосознания», – писал Павел Флоренский. Едва ли можно увидеть преувеличение в этих словах. С самого своего зарожденья, славянофильство всегда и в первую очередь занималось именно этим: задачей выражения русского самосознания. Алексей Степанович Хомяков трудился во множестве областей науки, искусства, жизни общественной и практической; долгие годы он погружался в изыскания по всемирной истории и сравнительной лингвистике – писал знаменитую «Семирамиду», казалось бы, далекую от русских тем. При всем том – вот что писал о задачах этого труда Юрий Самарин, младший друг автора, впервые публикуя его отрывки после смерти Хомякова в 1860 г.: в глубинах истории и языка философ хотел «отыскать славян и живые следы православного вероучения… выделить из разных примесей народные и религиозные стихии и назвать их по имени»[83 - Ю.Ф. Самарин. От редакции // Русская беседа, 1860, т.2. (Цит. по: А.С. Хомяков. Соч. в 2-х тт. Т.1. М., 1994.С.535.).]. Это явно – проблема самосознания; но дальше Самарин любопытным образом уточняет ее. Он говорит, что у Хомякова, как и в славянофильстве вообще, вопрос вставал так: «К чему предназначено это долго не признанное племя [славяне – С.Х.], по-видимому осужденное на какую-то страдательную роль в истории? Чему приписать его изолированность и непонятный строй его жизни… тому ли, что оно по природе своей неспособно к самостоятельному развитию и только предназначено служить как бы запасным материалом для обновления оскудевших сил передовых народов, или тому, что в нем хранятся зачатки нового просвещения, которого пора наступит не прежде как по истощении начал, ныне изживаемых человечеством?»[84 - Там же.]. Эти выразительные слова показывают, что проблема была для славянофилов отнюдь не академической. Ситуация России виделась им в ключе противостояния, противопоставления, конфликта; она представлялась экзистенциально напряженной, насыщенной негативными эмоциями, а то и невротическими моментами: оба толкования этой ситуации у Самарина рисуют резкое неравновесие, по одному из них Россия гораздо ниже, по другому – гораздо выше «передовых народов». Первичным фактом для осмысления служило глубокое неравенство России и этих народов; и задача самосознания переходила тут же в задачу самоутверждения: преодолеть неравенство, обосновать, что мы – не ниже, не хуже… Первичный факт оказывался и первичной травмой: неравенство воспринималось как несправедливость, в судьбе и положении православного славянства читались непризнанность, осужденность, страдательность…
Поэтому построения славянофилов – не чистый научно-философский или богословский дискурс. Их философия и богословие, их исторические и социокультурные теории всегда включают специфические побочные мотивы – полемические, идеологические, эмоциональные, даже “психоаналитические”, выражающие определенные комплексы. Чтобы оценить роль их, надо еще учесть, что Самарин, чьи тексты дали нам их пример, – самый уравновешенный и объективный из всех ранних славянофилов; у Хомякова, у Константина Аксакова эти «окрашивающие» факторы куда сильнее и резче. Итогом же служит сложный, меняющийся баланс, сочетание зорких наблюдений, смелых гипотез, порой – содержательных решений проблем истории, культурфилософии – и этих привходящих мотивов. Последние снижают творческое значение славянофильства, толкая его к роли чисто идеологического явления или же некоего выражения этнической психологии. Пропорции трудно уловимы, и естественно, что взгляд изнутри, из России склонен смещать их в пользу творческого, оригинального, тогда как взгляд с Запада рискует не уйти дальше внешнего – антизападной идеологии и национальных комплексов.
Чтобы избежать смещений и произвола, надо задать некоторый большой контекст, или «мир» (в смысле феноменологии, die Welt), в котором конституируется и весь процесс русской мысли, и его отдельные феномены. Как мы аргументируем[85 - С.С. Хоружий. О старом и новом. СПб., 2000. См. также: S.S. Horujy. Breaks and links. Prospects for Russian religious philosophy today // Studies in the East-European Thought, 2001. V.53. 269–284. О понятии Восточнохристианского дискурса см. также в первом и последнем разделах книги.], роль такого контекста выполняет «Восточнохристианский дискурс» (духовный, концептуальный, эпистемологический фонд, служащий порождающим ядром Восточнохристианского менталитета), отличный от дискурса Западного христианства и ясно намеченный уже в VII в., в писаниях прей. Максима Исповедника. Восточнохристианский дискурс возникает как синтез патристики и аскетики (в форме православного исихазма), закрепляемый в общем для обеих сфер верховном понятии обожения. За счет аскетической составляющей, он сохраняет непрерывную связь с духовной практикой, опытом молитвенного Богообщения и представляет собой дискурс не отвлеченно-теоретического, но сугубо опытного мышления. Как следствие этого, его основные категории являются не эссенциальными (каковы сущности, субстанции, формы, причинно-следственные отношения…), но энергийными, выражающими различные активности и описывающими бытие как бытие-действие. В частности, и сам ключевой концепт или парадигма обожения также трактуется энергийно: как совершенное соединение энергий человека с Божественной энергией, благодатью, осуществляемое путем синергии — координации, согласованности, соработничества человеческих энергий и благодати. Поэтому ядро Восточнохристианского дискурса – дискурс энергии, связанный с исихастской аскезой и парадигмой обожения.
Наряду, однако, с этим энергийным ядром, Восточнохристианский дискурс включает в свой состав и эссенциалистские элементы, которые большей частью примыкают к общей бытийной установке или парадигме сакрализации реальности. Последняя отлична от установки обожения и в разные периоды истории нередко потесняла и заслоняла ее. Если установка обожения является специфически христианской и говорит о сугубо личностной энергийной связи тварного и Божественного бытия, актуализуемой во всецелой преображающей устремленности первого ко Второму, то установка сакрализации, что утверждает сущностное присутствие Божественной реальности в тех или иных эмпирических явлениях, характерна для языческой религиозности и, в частности, римской государственной религии. В православное сознание эта языческая установка пришла впервые в форме сакрализации Империи и Императора, в составе имперской идеологии, заимствованной Византией из Рима; и в этом смысле, будет верным сказать, что Империя поганила Православие, в точном древнем значении русского глагола: паганизировала, объязычивала. Она стала преобладающей в сфере отношения к власти и государству, а также и в ряде других областей религиозного сознания. (Надо только отметить здесь, что парадигма сакрализации никак не тождественна установке освящения, составляющей неотъемлемый элемент православного литургического сознания: глубокое различие в том, что освящение – органическая часть таинственной жизни Церкви и как таковое, оно восходит к Евхаристии, коренится в ней).
Понятие Восточнохристианского дискурса существенно, прежде всего, при анализе сакраментальной проблемы «Россия и Запад», ставшей в центре всей мысли славянофилов. Рассматривая славянофильские построения в этой теме, как и противостоящие им теории западников, мы констатируем, что оба движения видели в проблеме бинарную оппозицию, противостояние двух миров, двух типов духовного и общественного уклада, расходясь лишь в характеристике и оценке этих миров. Восточнохристианский дискурс – фактор, который делает возможной – и, следственно, необходимой – деконструкцию такого подхода и выход, освобождение из горизонта бинарного мышления. Он – третье начало, которое опосредует отношение Россия – Запад и притом так, что его собственные отношения и с Россией, и с Западом заведомо не представляют бинарных оппозиций. Отношения Восточнохристианского и Западнохристианского дискурсов включают общую скриптуральную и патристическую основу и структурируются на множество предметных сфер – догмат, богословие, литургика, экклезиология и церковная политика и т. д. Происходящее в каждой из этих сфер – отнюдь не полярное противостояние, но долгий, содержательный диалог, в котором лишь иногда элементы конфронтации берут верх. И можно, уточняя, сказать, что «мир», в котором конституируется феномен русской мысли, – это не только Восточнохристианский дискурс, но и все пространство этого бесконечного христианского диалога.
Итак, славянофилы и западники, чьи споры стали основой всей идейной истории России XIX столетия, суть две симметричные идеологические позиции, равно пребывающие в плену стереотипов бинарного мышления. Точней, они дали новый толчок этому мышлению, создав два упрощенных идеологических конструкта, «образ России» и «образ Запада»: Россия – патриархальный традиционалистский мир, живой, но а-историчный, статичный, обращенный к ценностям прошлого; Запад – мир динамики, развития, совершенствования, устремленный к будущему и безжалостный к настоящему. Эти конструкты – общее изделие враждовавших сторон. Тут они расходились скорей в деталях; а все острия полемики касались лишь оценок и выводов. Сообща выстроив бинарную оппозицию, оба движения заняли места на ее противоположных полюсах: славянофилы восхваляли конструкт «Россия», обличая конструкт «Запад»; западники же делали обратное.
Но в некоторых важных аспектах позиции все же не были столь симметричны и равноценны. Возникал любопытный парадокс: позиция западников, выдвигая ценности прогресса, творчества, созидания нового, в то же время на практике оказывалась подражательной, означала заимствование и перенос, следование в готовых руслах. Напротив, славянофилы, призывая вовсе не к творчеству, а к патриархальному консерватизму, к восстановлению исконной традиции и модели, оказывались перед необходимостью эксплицировать, предъявить въявь эти традицию и модель, а равно доказать их достоинство и превосходство. И это были задачи творческие и даже новаторские, если еще учесть, что хвалимая традиция гораздо более была умозрительным идеалом, нежели историческою реальностью Древней Руси. Поэтому нельзя согласиться с мнением Анджея Балицкого, считающего славянофильскую мысль всего лишь «утопией восстановления утраченной традиции»[86 - A. Walicki. W kregu konserwatiwnej utopii: Struktura i przemiany rosyiskiego slowianofilstwa. Warszawa 1964. S.367.]. Традиция, рисуемая славянофилами – и уж тем паче ее восстановление – могли быть утопией; но их идейные разработки были реальным творчеством. Логикою вещей, именно традиционалисты – славянофилы, а не прогрессисты – западники оказывались призваны к новой постановке философских, религиозных, историософских проблем, к созданию моделей и парадигм российского исторического и духовного процесса. В этом и коренится их особая роль в развитии русского самосознания, прочно признанная сегодня и русской, и западной наукой. «Славянофильские проблемы – единственные оригинальные проблемы русской философии, как бы ни решались они»[87 - Г.Г. Шпет. Очерк развития русской философии. Пг., 1922. С.37.], – утверждал даже Густав Шпет, диаметрально противоположный славянофилам в оценках русского исторического бытия.
Реконструкция «славянской традиции», будь то реальной или утопической, должна была включать многообразные факторы – материальные (этногенез, исторический процесс, социальное и государственное устройство), психические (этническая психология, национальный характер), духовные (фольклор, искусство, религия). В отношении к ним славянофильство проделало крупную эволюцию. Со сменой его периодов, с переходом от ранних славянофилов к поздним (Данилевский, Страхов, Леонтьев и др.) и от них далее, вплоть до современного евразийства, все больший перевес получают материальные факторы. Решающее значение в стихии, в судьбах славянства придается географии и геополитике, борьбе этносов, наций, и самое славянство понимается не как духовное начало, даже не как «культура», а как органическое образование, этноисторический тип. Но раннее славянофильство, во многих аспектах справедливо сближаемое с европейским романтизмом, отдает безусловное первенство духовным факторам – царское место среди которых занимает, разумеется, религия. Определением славянства в его духовной природе служит православие. В силу этого, именно религиозные концепции необходимо считать определяющим ядром во всем комплексе воззрений раннего славянофильства. На львиную долю эти концепции были созданы Хомяковым. Богословские тексты Хомякова, где им развивается учение о соборности и Церкви, признаны центральною и ценнейшей частью не только в его творчестве, но и во всем славянофильском наследии. Их обсуждение – основная цель нашего очерка; но чтобы правильно понять их, необходимо вглядеться в мир, из которого они возникают.
Глава 1
Жизненный мир Хомякова и славянофильский этап его творчества
1.
Всегда и во всем, славянофильские позиции – это не позиции изолированного индивидуального сознания или одинокого рассуждающего разума. Напротив, это позиции сознания, многосторонне и прочно социализированного, имеющего за собой традицию, среду, почву: недаром одно из позднейших ответвлений славянофильства прямо именовалось «почвенничеством». У Хомякова эта социальная укорененность отразилась во всем – в личности, жизненном поведении, творчестве, включая и учение о соборности. Поэтому надо пристально рассмотреть: в какой же почве хомяковская укорененность? Мы увидим, что эта почва – не что-то одно и узкое, она – полна, ибо располагается целым последовательным рядом сфер, как в классической античной модели космоса. Есть самый тесный, внутренний круг кровной близости – семья, род; затем следует круг сословный, идентификация с поместным дворянством; далее же эти круги объемлет народная стихия, объединяющая и крестьянскую общину, «мiр», и землевладельцев – бар, и саму землю, которой они все связаны и обязаны. Это единство органически входит в следующую сферу, которой служит единство общенациональное, Россия. И наконец, завершающая сфера, превосходящая уже эмпирический мир, – мистическое и сакраментальное единство Церкви.
Опишем этот хомяковский космос – начиная с ядра. Ядро довольно обширно: старинный дворянский род Хомяковых, известный уже в XV в., был многочислен и разветвлен. К XVIII в. Хомяковы большею частью были помещиками Калужской и, главным образом, Тульской губернии; в царствие Екатерины Великой среди землевладельцев только одного из тульских уездов было 10 Хомяковых. Из них, крупнейшие владения были у прадеда славянофила, Федора Степановича Хомякова, но достались они ему необычно: некий хозяин крупных имений, Кирилл Хомяков, не имея наследников, предоставил самим крестьянам своим выбрать себе будущего помещика – любого из фамилии Хомяковых; и выбран был Федор, до того вовсе небогатый. Все биографы Алексея Хомякова непременно приводят эту историю: в ней очень естественно видеть корни будущей «органической социологии» философа, его идей о единстве, почти кровной связи народа, помещика и земли – единстве, в котором крестьянская община, народ – главная и решающая инстанция, источник особой системы права, чуждой формальным кодексам. Хомяков хранил в памяти, ценил, рассказывал множество поучительных историй о своих предках, и эти предания патриархального дворянского бытия входили прочно в основу его внутреннего мира.
Известным отклонением от патриархальной модели было то, что в детском опыте Хомякова доминирующее присутствие и определяющее влияние принадлежали матери, не отцу. Образ отца был подточен: Степан Александрович Хомяков, богатейший помещик, человек с недурным образованием и способностями, страстный англоман и один из основателей знаменитого Английского Клуба в Москве, был еще более страстным игроком – и в клубе, что он основал на свою беду, он проиграл почти все семейное состояние, больше миллиона рублей. После чего в семействе произошла гендерная революция: мать философа, Мария Александровна Киреевская, дама сильного, властного, гордого характера, отстранила мужа от ведения дел и стала сама главою дома. Она сумела поднять вновь благополучие семейства до уровня, приличного их кругу и позволяющего дать детям – их было трое, Федор, Анна и Алексей – наилучшее воспитание и образование.
Алексей Хомяков родился 1 мая[88 - Здесь и далее, все даты – по старому (юлианскому) календарю.] 1804 г. в Москве. Его ранние годы, его молодость вполне следовали классической модели Erziehung-Romane его эпохи: как у Вильгельма Майстера, шли Schuljahre, за ними – Wanderjahre. Учение проходило по домашней системе – приглашались учителя, лучшие в тогдашней Москве, и будущий философ получил у них отличную подготовку не только в языках и гуманитарных науках, но также и в математике и в занятиях спортом (по математике он даже получил поздней степень в Московском Университете). Успехи его были блестящи во всем – уже в детстве ярко обнаружилось то, чем он поражал потом всех: редкостная, почти небывалая универсальность дарований и интересов. Но едва ли не важнее наук были другие плоды Schuljahre: прочные религиозные и нравственные основы, заложенные тогда же и с тех пор неизменные. «Я знал Хомякова 37 лет, и основные его убеждения 1823 г. остались те же и в 1860 г.»[89 - А.И. Кошелев. Воспоминания о Хомякове // А.С. Хомяков. Полное собр. соч., изд. З. Т.8.М.Д900. С.129.], – пишет один из его ближайших друзей, славянофил А.И. Кошелев. Здесь жизнь философа уже не следует образцам эпохи: в отличие от романтического канона, мы не найдем в ней никакого резкого кризиса или переворота, «обращения», «сжигания старых богов»… Из первых свойств его личности всегда называют цельность. Стержнем же этой цельности была нерушимая православная вера.
Немаловажны и качества этой веры. Это никак не была обычная в образованной среде «просвещенная вера, пренебрегающая условностями и обрядами». Вера Хомякова была всегда, всю жизнь – строгой, молитвенной и церковной. Даже в пору своих Wanderjahre, живя один в Петербурге и Париже, служа в гвардии, сражаясь на войне, он не отступал от церковных обрядов и постов. и в этой особенности – прямая связь с учением, что он разовьет поздней, с его идеей соборности. Христианская вера для Хомякова – отнюдь не индивидуальный акт, но проявление Церкви, акт соборный. Она не может измышлять себе какие-то формы по индивидуальному произволу, ибо жизнь по вере – не что иное как выражение принадлежности к Церкви. Так говорит Кошелев: «Для Хомякова вера Христова была не доктриною и не каким-либо установлением: для него она была жизнью, всецело обхватывавшею все его существо… Он говорил, что содержит посты потому что Церковь их установила, что не считает себя вправе становиться выше ее и что дорожит этою связью с народом. В Церковь он ходил очень прилежно… Молился он много и усердно, но старался этого не показывать и даже это скрывать»[90 - Там же. С.131.]. Еще яркая черта хомяковской религиозности – ревность о вере, постоянная бдительная готовность к ее отстаиванью и защите (что близко и к отмечаемой всеми воинственности, полемичности его натуры). Вот две иллюстрации из детства. В 1815 г. семья приехала в Петербург, и европейское обличье столицы так поразило обоих братьев, Федора и Алексея, что они решили, будто попали в страну язычников, где будут принуждаемы переменить веру; и твердо положили между собой не делаться вероотступниками даже под страхом мук. Другой случай как бы предваряет будущую антиримскую полемику: на уроке латыни Алексей усмотрел опечатку в тексте папской буллы – и немедля вопросил своего учителя-аббата: как может быть папа непогрешим, если он делает грамматические ошибки?
В 1822 Хомяков вступает в кавалерийский (кирасирский) полк и в 1823–1825 гг. служит в конной гвардии в Петербурге. Петербург этих лет – живейшая интеллектуальная кухня, где стряпается духовная пища для России на многие следующие годы. Культурный процесс включает целый ряд русл: религиозно-мистическое течение (масонство и мистицизм Александровской эпохи), различные чисто литературные движения, литературно-философские кружки (хотя здесь первенство было за Москвой с кружком любомудров) и, разумеется, литературно-политическая активность декабристского круга. Хомяков начинает творческую жизнь как поэт, сочиняя лирические стихи и поэмы из русской истории (трагедию «Ермак» он написал тогда же, когда Пушкин – «Бориса Годунова», и оба автора одновременно прочитали свои пьесы в Москве, в доме поэта Дмитрия Веневитинова, 12 и 13 октября 1826 г.). Талант его здесь был признанным. В 20-е годы поэзия – преобладающая сфера его творчества; лишь постепенно в 30-е и 40-е годы она уступает первенство философской и религиозной мысли. При этом, она нередко служит как бы начальной формой выражения его идей, их лирическим предвосхищением; так что многие мотивы и мысли славянофильства были впервые им высказаны в его стихах. Он бывает и в среде декабристов, участвует в политических спорах – и удивляет своею необычной позицией, включавшей два антидекабристских тезиса: во-первых, Хомяков осуждал идею военного переворота, утверждая, что войско ответственно пред народом и не должно вершить его судьбы по своей воле; во-вторых, он отвергал и возможные плоды такого переворота, расценивая их как «замену единодержавия тиранством вооруженного меньшинства». И здесь опять ясна связь с его главными убеждениями, с идеей народа как единственного законного источника власти. Парадоксальным образом, эта идея совмещалась с другой, почти противоположной: что народ русский не желает сам осуществлять политическую власть и отчуждает, почти отталкивает ее от себя; но, целиком передавая ее особому институту – а именно, абсолютной монархии – он зато оставляет себе всю полноту нравственной и духовной свободы.
Но он еще нескоро придет к зрелому выражению этих и других своих убеждений. Годы странствия еще длятся. В 1825–1826 гг. Хомяков, уволившись со службы, путешествует по Европе, живет в Париже, занимается живописью и, по некоторым сведениям, также иконописью. Затем возвращается в Петербург, примыкает к перебравшимся туда любомудрам (В.Ф. Одоевскому, Дм. Веневитинову, А.И. Кошелеву) и в долгих беседах и спорах с ними, философские и религиозные интересы выходят у него наконец на первый план. Эти беседы заслуживают особого замечания: в них перед нами предстает характерный, важный феномен и механизм русской культуры: кружок. Это – ведущий механизм русского идейного развития в XIX в.: культурные явления зачинались – а порою и ограничивались – длительными и интенсивными, эмоциональными дискуссиями, “русскими разговорами” в тесном кругу дружески связанных людей. Примерами служат кружок любомудров в 20-е годы, кружки славянофилов и западников в 30-е и 40-е годы, позднее – «нигилистов», народников, ранних марксистов, мирискусников… Уже в нашем веке, в 20-е годы так же начинается евразийство. Так описывает Кошелев типичные будни кружка: «Мы толковали и спорили о философии вообще и о Шеллинге в особенности, о христианстве и других жизненных вопросах… не забуду одного спора, окончившегося самым комическим образом. Проводили мы вечер у князя Одоевского, спорили о конечности и бесконечности мира, и незаметно беседа наша продлилась до трех часов ночи. Тогда хозяин дома нам напомнил, что уже поздно… мы встали, начали сходить с лестницы, продолжая спор; сели на дрожки и все-таки его не прерывали. Я завез Хомякова на его квартиру, он слез, я оставался на дрожках, а спор шел своим чередом. Вдруг какая-то немка, жившая над воротами, у которых мы стали, открывает форточку и громко говорит: Mein Gott und Herr, was ist denn dass?»[91 - Там же. С Л 25.] Немецкий вопрос кстати: очевидно, что близкую параллель этому русскому кружку – как по характеру явления, так и по темам, позициям – дают кружки немецких романтиков.
В 1827–1828 гг. шла русско-турецкая война, и Хомяков снова поступил в полк. Он участвует в сражениях на Балканах, проявляя «холодную блестящую храбрость», по воспоминаниям сослуживцев, награждается тремя орденами, но с окончанием кампании выходит опять в отставку. С тех пор и до конца жизни он нигде не служил, оставаясь лишь помещиком и частным лицом (как ниже увидим, и это – знаковая деталь, такая роль отвечала его социальной философии). Внешняя биография его становится мало событийна; годы странствия завершились. Обычно Хомяков жил летом в имениях, всего чаще – в Липицах, Смоленской губернии, и в Богучарове, Тульской, зимами же – в Москве. В 1836 г. он женится на Екатерине Михайловне Языковой, сестре поэта Н.М. Языкова. Семейная жизнь и помещичье хозяйство занимали его всерьез, он посвящал им много времени и внимания. И вместе с тем, как бы по закону контраста, с уходом внешней событийности начинаются решающие события его внутренней и творческой жизни.
2.
Годы с середины тридцатых – время, когда у Хомякова и Ивана Киреевского (1806–1856) складываются общие очертания системы славянофильских воззрений. Тем лоном, где они зарождались, был дом Авдотьи Петровны Елагиной (1789–1877), в первом браке Киреевской, матери Ивана Киреевского. «С тридцатых годов дом и салон Авдотьи Петровны были одним из наиболее любимых и посещаемых средоточий русских литературных и научных деятелей. Все, что было в Москве интеллигентного, просвещенного и талантливого, съезжалось сюда по воскресеньям»[92 - К.Д. Кавелин. Авдотья Петровна Елагина // Русское общество 30-х годов XIX в. М., 1989. С.139.]. В числе постоянных посетителей бывали равно и будущие западники и будущие славянофилы – Хомяков, Чаадаев, Гоголь, Кавелин, Языков; в 40-х годах к ним прибавились Герцен, Самарин, Аксаковы, Огарев – пока в 1845 г. не настало разделение двух лагерей. Любопытным образом, первым, кто в доме Елагиных начинает высказывать элементы славянофильских идей, был не Хомяков и не Иван Киреевский, но брат последнего Петр (1805–1856), что стал известен поздней как собиратель песенного фольклора. «Первым представителем этого направления [славянофильства] был Петр Васильевич Киреевский, которому сперва сочувствовали только Хомяков и Языков. Иван Васильевич Киреевский не разделял сначала мнений брата и присоединился к ним лишь впоследствии»[93 - Там же.].
После периода кружковых бесед, к концу тридцатых годов появляются наконец первые славянофильские тексты – статья Хомякова «О старом и новом» (1839) и, откликом на нее, «В ответ А.С. Хомякову» Ивана Киреевского. Оба основателя движения были знакомы еще с 1824 г. и сделались коротко дружны в годы после запрета журнала «Европеец», два нумера которого выпущены были Киреевским в 1832 г. Тексты не предназначались для печати и не публиковались при жизни авторов; статья Хомякова была прочитана в одном из собраний кружка, ответ Киреевского расходился в списках. По традиции, они признаются программными документами славянофильства – и этот взгляд справедлив, хотя никакой систематичной или полной программы тут вовсе нет. Тексты программны в ином смысле: говоря о русской истории и культуре, они не предлагают их научного анализа, но хотят дать оценку их сегодняшнего момента, найти должный вектор их развития, указать их насущную задачу. Чтобы достичь этих целей, они выдвигают определенные тезисы о сути, о движущих началах исторического и культурного процесса в России, набрасывают схемы и парадигмы этого процесса. При этом, схемы двух авторов дополняют друг друга: мысль Хомякова движется в диахронии, выстраивая оппозицию Старое – Новое (противоположность древнего и современного общественного уклада), мысль же Киреевского – в синхронии, выстраивая оппозицию Россия – Запад (противоположность российского и западного типов культуры).
Точно так же (что замечали уже не раз) дополняли друг друга и сами фигуры лидеров будущего движения. По всей натуре и поведению, Хомяков и Киреевский были полною противоположностью: как экстраверт и интроверт, решительный практик и колеблющийся мечтатель, поборник живого опыта и философ спекулятивной складки… За этим лежит более глубокий пласт: как ниже увидим, у двух соратников различным был и характер их религиозности, духовный тип, причем это различие можно в точности сопоставить с изначальным различием двух направлений православной духовности – общежительного (киновийного) и уединенного (исихастского) монашества. Хомяков ярко, определенно представляет первый, общежительный тип, Киреевский столь же определенно – второй, исихастский. И для развития славянофильского движения – как прежде для развития православной аскезы – подобное апорийное сочетание было плодотворным. «Столь явное различие в натурах и действиях двух основателей учения свидетельствовало о живости и естественности самого учения. Ибо славянофильство не было и не могло быть индивидуальным делом, а должно было создаться только коллективными усилиями»[94 - В.А. Кошелев. Алексей Степанович Хомяков, жизнеописание в документах, в рассуждениях и разысканиях. М., 2000. С.211.].
Текст Хомякова – яркое выражение черты, что станет классическим признаком славянофильского мышления, порой доводясь до гипертрофии: идеализации прошлого Руси. В этом прошлом он видит «первый, чистый и патриархальный состав общества», «вольности городов», «грамотность и организацию в селах», начала особого права и общественного самоуправления в формах сельской сходки, городского веча, мирского приговора, «равенство, почти совершенное, всех сословий», «дружбу власти с народом» и т. п. Напротив, в дальнейшем, начиная с Московского Царства, «все обычаи старины, все права и вольности городов и сословий были принесены на жертву для составления плотного тела государства… язва безнравственности общественной распространилась безмерно и все худшие страсти человека развились на просторе»[95 - А.С. Хомяков. О старом и новом. //Полное собр. соч., изд.4.Т.3.М., 1914.С.27.]. При такой картине, желаемая цель неизбежно принимает форму ретроутопии: «нам довольно воскресить, уяснить старое, привести его в сознание и жизнь… Мы будем продвигаться вперед, воскрешая древние формы жизни русской… Тогда, в просвещенных и стройных размерах… воскреснет древняя Русь, но уже сознающая себя»[96 - Там же. С.20, 29.]. С учетом центрального места, какое поздней у Хомякова займет церковно-богословская тема, любопытно заметить, что в этом первом наброске его теорий она еще далеко на втором плане.
Возвращаясь же к личности, мы видим, что, хотя «Земля» К. Аксакова, вслед за его общиной, – тоже идеализированный чисто этический конструкт (ср.: «Сила нравственная… есть элемент, в котором живет и движется Земля»), но концепция Земли несет в себе важные, опять-таки обще-славянофильские, идеи о правах личности. По учению славянофилов, эти права отнюдь не относятся к политике, они входят во «внутреннюю жизнь», в сферу Земли, и потому – неприкосновенны, неотчуждаемы. Вследствие этого, пафос свободы, достоинства и прав личности – никак не монополия западников. Славянофилы активно настаивали на свободе слова и мысли, и едва ли их заявления по резкости требований уступали протестам западников. Белинский представил свою сокрушительную критику в частном письме Гоголю; но Константин Аксаков писал в Записке, поданной императору: «Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестною ложью… всё обняла ложь, везде обман… Всё зло происходит от угнетательной системы нашего правительства… Эта система, если б могла… то обратила бы человека в животное, которое повинуется, не рассуждая»[69 - К.С. Аксаков. Записка о внутреннем состоянии России // Ранние славянофилы. С. 89–91.]. Брат же его, в передовице, открывавшей первый нумер основанной им газеты «День», вносил такое предложение в Свод Законов: «Прежде всего необходимым кажется нам постановить твердое правило, которое и внести в 1 Том Свода Законов… [как] главу 1 следующего содержания:
Свобода печатного слова есть неотъемлемое право каждого подданного Российской империи, без различия звания и состояния»[70 - И.С. Аксаков. Передовая газеты «День», 19 мая 1862. Цит. по: Ранние славянофилы. С. 129.].
Но при всем том, концепция личности у Константина Аксакова оказывается довольно фантастической. Как мы уже видим, личность, по его мысли, никак не отсутствует в русском социуме, однако реализуется она в очень своеобразной форме, которую трудно не признать ирреальной. Аксаковский человек, член общины или Земли, самоотверженный, отказывающийся не только от эгоизма, но и от самой своей личности, чтобы в «нравственном хоре» обрести ее «в высшем и очищенном виде», – есть также чисто этический конструкт, всецело этицизированный человек, и потому – лишь антропологическая утопия. Можно только добавить, что сам Константин Аксаков, по свидетельствам, в жизни был крайне близок к этому несуществующему человеку…
Другие славянофилы видят общинное и земское устройство, а равно и личность в нем, более реалистично. Хомяков был главным создателем учения об общине, но он, тем не менее, не разделяет этического утопизма К. Аксакова, замечая трезво: «Личные добродетели далеко не развивались в сельских мирах в той степени, в какой развивались добродетели общежительные»[71 - А.С. Хомяков. По поводу статьи И.В. Киреевского… С.243.]. На его взгляд, «высокие личные добродетели в сельском быту» – только «прекрасные исключения», а еще, к тому же, форма западная, дружина, «стояла бесспорно на высшей степени личной добродетели», – откуда легко сделать вывод, что судьба личности в общине видится ему, в сущности, почти также как западникам. И тем не менее, в главном, в положительном своем содержании, позиции Хомякова в проблеме личности нисколько не приближаются к западническим. Эти позиции развиваются им уже не в рамках учения об общине, а совсем независимо от него – в его знаменитом учении о соборности.
Учение о соборности Хомякова и историко-философские идеи Ивана Киреевского – два самых значительных религиозно-философских плода славянофильства. Оба они несут заметные отличия от прочей литературы славянофильского движения (в моем очерке о Хомякове, следующем ниже в этой книге, я даже отношу учение о соборности к особому, уже не-славянофильскому этапу его творчества). Принадлежащие уже не 40-м, а 50-м годам, они по зрелости, творческому уровню выходят за рамки «кружковой философии», создававшейся в эпоху споров двух партий. Отходят они и от тематики этих споров, не касаясь ни сакраментальной общины, ни вообще национальной истории (у Киреевского историческая рефлексия имеет своим предметом, по существу, не столько «русское просвещение», сколько Восточнохристианский дискурс). В центре их – не национальная, а религиозная проблематика, более глубокая и универсальная. Этот сдвиг важен и для проблемы личности: славянофильское видение личности имело религиозные корни, и без их раскрытия не могло обрести прочного основания и даже простой отчетливости.
Сегодня, в ретроспективе, позиции двух партий в проблеме личности видятся не столь сложными. Как сказано выше, утверждавшаяся западниками «свободная, разумная и сознательная личность» соответствует антропоцентрической парадигме, в которой личность трактуется как автономный самодовлеющий индивидуум, сближаясь с метафизическим понятием субъекта. В отличие от этого, славянофильская позиция соответствует теоцентрической парадигме (см. Введение), согласно которой полнота наделенности личным бытием принадлежит не человеку, а Богу. Человеческая же личность формируется в приобщении, причастии человека Богу, причем в этом приобщении человек участвует не только интеллектуально, а целостно, всем своим существом. Поэтому цельность – ключевой предикат личности человека, и весь славянофильский дискурс личности строится как утверждение «цельной личности», представляющей собой согласную собранность всех уровней и способностей человека в единство, открытое к соединению с Богом. Однако на этом этапе раскрытие философского и религиозного содержания, заключенного в концепте цельной личности, еще только начиналось. Решающую роль в нем предстояло сыграть философии Серебряного века и шедшему за ней православному богословию личности.
Первоначально, в пору создания славянофильской доктрины, мысль Хомякова была преимущественно социальной философией, сосредоточенной на дескрипции определенного типа человеческого сообщества, который характеризовался целым рядом совершенств, идеальных свойств («общежительных добродетелей»). Две главные особенности отличали эту философию: во-первых, специфическая природа данного совершенного сообщества передавалась в органической парадигме, посредством понятия организма; во-вторых, принималось (краеугольный камень доктрины!), что это сообщество реализуется в истории в форме русской общины. Но, в отличие от Константина Аксакова, Хомяков мыслил не утопически. Смотря достаточно трезво на общинное устройство в его истории и современности, он приходил к выводу, что община не может быть воплощением совершенного органического сообщества. Новый этап его мысли рождается тогда, когда к этому негативному выводу присоединяется позитивный: действительная, единственно адекватная реализация совершенного сообщества есть – Церковь.
В основе этого этапного вывода – простая логика. Тип совершенного сообщества, в силу его совершенных, идеальных качеств, принципиально не может быть воплощен никаким эмпирическим обществом. Такое сообщество должно быть сверх-эмпирично, иметь сверх-эмпирические измерения в своей природе; и Церковь, в отличие от обычного социума, подобные измерения имеет. Далее, еще на «общинном» этапе мысли у Хомякова сформировался набор основных признаков, предикатов, характеризующих совершенное сообщество; главным, определяющим из них было гармоническое сочетание, и даже точнее, тождество, полного единства и полной свободы. Но новом этапе все эти характеристики, которые не удавалось найти в общине, Хомяков обнаруживает наличествующими в Церкви. Эта концептуализация церковного бытия осуществляется путем детального анализа одного определенного свойства, которым обладает Церковь согласно Символу веры христиан: свойства соборности. Точней, в Символе стоит «соборная Церковь», и Хомяков сам образует от этого прилагательного существительное – неологизм, который со временем занял прочное место в русской – да и не только русской – религиозной и социальной мысли.
«Соборная» – третий атрибут Церкви из четырех («едина, святая, соборная и апостольская Церковь»), выражаемый в греческом оригинале термином catholicos – по смыслу, всецелое, всеобщее, универсальное. Важная особенность русского термина – отсутствующее в оригинале сближение с понятием собора, собрания верующих. Усиленно опираясь на нее, Хомяков развивает учение о соборности как «соборном единстве», в котором полнота единства и полнота свободы его элементов не только совместимы, но предполагают друг друга. Этот синтез свободы и единства он настойчиво утверждает как главное определение природы Церкви: «Церковь – свобода в единстве»[72 - Он же. Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу одного послания Парижского архиепископа // Он же. Соч. в 2-х тт. Т.2. М., 1994. С.66.], «Единство Церкви есть не что иное как согласие личных свобод»[73 - Он же. Еще несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу разных сочинений латинских и протестантских о предметах веры. Цит. изд. С.209.] и т. п. Но сам Хомяков не применяет к этому сочетанию двух начал слова «синтез» и не дает вообще ему спекулятивной трактовки, гегелевской или иной. Как особенно подчеркивал Георгий Флоровский, дискурс соборности Хомякова развивается в элементе описания и свидетельства, это – опытный дискурс, передача его собственного церковного опыта, который был живым и глубоким («Хомяков жил в Церкви», как сказал Юрий Самарин). В горизонте же опыта, сочетание свободы и единства в Церкви является не диалектическим, а благодатным, достигаемым с помощью Божественной энергии, благодати. В соборном единстве, по Хомякову, свобода принимает особую форму – это соборная свобода, «просвещенная благодатью свобода», как и само соборное единство созидается «по благодати Божией, а не по человеческому установлению». Аналогичная связь с благодатью, «преображенная благодатью» форма отличает и все основные атрибуты церковного бытия, проявления жизни Церкви. Поскольку же благодать, Божественная энергия – принадлежность Божественного бытия, иного онтологического горизонта, то этому горизонту принадлежит и соборное единство, соборность. Флоровский, пожалуй, самый авторитетный исследователь учения о соборности, четко закрепляет: «Соборность в понимании Хомякова – это не человеческая, а Божественная характеристика»[74 - Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. Изд. З. Париж, 1983. С.277.]. Этот тезис важен, ибо позволяет сразу отбросить все многочисленные, продолжающиеся до сего дня покушения представить соборность как социальный (а часто и национальный) идеал, отнести ее не к Церкви, а к обычному социуму.
Как явствует отсюда, в учении о соборности мысль Хомякова выходит в область онтологии, причем этот выход совершается не в русле гегельянства или какого-либо иного направления западной метафизики, а неким своим путем, более богословским, но отчасти и философским. Для русской мысли это был важный шаг. Сразу в нескольких направлениях открывались новые перспективы, которые в дальнейшем постепенно осмысливались и осваивались как философией, так и богословием. Эта рецепция учения о соборности описывается в следующем разделе книги[75 - См. ниже раздел «Алексей Хомяков и его дело», II.6–7.], здесь же я укажу только ее главные вехи. В русской философии налицо, по крайней мере, три линии развития и влияния этого учения: 1) в онтологии, в связи с концепцией всеединства, 2) в теории познания, в построениях так называемой «онтологической гносеологии», 3) в социальной философии, в попытках эксплуатировать соборность как принцип социального устройства. Особняком стоит прихотливо-личное видение соборности Вяч. Ивановым: в 1910-е годы он развивал понимание ее как некоего «хорового начала», принципа единения-слияния народной стихии в фольклорно-сакральных действах. Эти его теории имели влияние, войдя в идейный фонд русского символизма и получив развитие, в частности, в концепции «культового действа» в философии культа П.Флоренского.
Родство соборности с всеединством очевидно: оба принципа коренятся в той же исходной интуиции единства и связности бытия, выражая способ конституции или принцип внутренней формы совершенного единства множества, которое, по дефиниции Хомякова, есть «единство всех и единство по всему». Но тем не менее близость их ограничена: всеединство – чисто философский концепт, принадлежащий традиции христианского платонизма, тогда как соборность имеет опытную и экклезиологическую природу, восходя к видению Церкви как мистического Тела в Посланиях Павла. Поэтому в системах всеединства русской религиозной философии онтология обязана Соловьеву несравненно больше, чем Хомякову. Иная ситуация – в концепциях «онтологической гносеологии», которые доказывали зависимость акта познания от онтологических предпосылок. Эти концепции, развивавшиеся многими философами Серебряного века (С. и Е. Трубецкими, Лосским и Франком, Флоренским, Аскольдовым и др.), были довольно различны, но большинством из них разделялись два положения:
1) Сознание имеет соборную природу. Оно не принадлежит индивидууму как таковому, но только реализуется, осуществляет свою работу через индивидуума и в индивидууме. Само же по себе оно определяется трансиндивидуальными предикатами, являясь родовым и вселенским сознанием.
2) Познание базируется на нравственных предпосылках. Оно является не чисто рассудочною, но холистической и синтетической активностью, в которую вовлекаются купно мысль, воля, чувство; и ключевым сверх-рассудочным слагаемым когнитивного акта служит любовь.
Оба эти положения прямо восходят к Хомякову, что вполне ясно из следующего важного философского пассажа: «Ясность разумения поставляется в зависимость от закона нравственного. Общение любви не только полезно, но вполне необходимо для постижения истины… Недоступная для отдельного мышления, истина доступна только совокупности мышлений, связанных любовью»[76 - А.С. Хомяков. По поводу отрывков, найденных в бумагах И.В. Киреевского // Он же. Поли. собр. соч., изд. 3. Т.1. С.283.]. Легко признать близость этих суждений также и позициям современного западного «коммунологического» мышления, утверждающего примат общения и сообщества (community and communication). Наконец, что касается социальной философии, то мы говорили уже о необоснованности переноса хомяковского концепта в эту сферу. Тем не менее, такой перенос совершался систематически, как правило, в учениях с консервативным или националистическим уклоном, от поздних славянофилов до постсоветских коммунистов и (нео)евразийцев. Исключением служит лишь теория Франка, развитая им в книге «Духовные основы общества» (1930) и пытающаяся сочетать экклезиологический статус соборности с приданием ей роли «идеально направляющей силы общественной жизни».
Развитие богословского учения о соборности было рано оборвано смертью Хомякова. Понятно, что это развитие должно было неизбежно вести к вытеснению органической парадигмы: поскольку эта парадигма, связанная биологическими коннотациями, ограничена горизонтом здешнего бытия, то онтологический дискурс должен был войти в конфликт с органическим. Можно заметить, как в поздних трудах Хомякова применение к Церкви и ее жизни понятия организма и примыкающих к нему становится более осторожным и ограниченным – и всё в большей мере в дескрипции церковного бытия выходят на первый план принципы личности, любви и общения, которые не связаны с органическою парадигмой, сверх-органичны. Дискурс соборности продвигался в сторону богословия личности и, тем самым, – к теоцентрической персонологической парадигме. Явное появление концепции личности как Божественной Ипостаси должно было бы стать решающим шагом в преодолении органицизма; но такое появление предполагало еще одну важную ступень, которая достигнута не была: углубленное развитие, вслед за экклезиологией, – христологии. Далее, усиленно подчеркивая конститутивную роль благодати в бытии Церкви, учение о соборности сближается, пускай имплицитно, и с богословием энергий, основательно забытым в ту пору. Указанные два рода православного богословия стали в 20 в. основой нового этапа православной мысли, который часто именуют этапом неопатристики и неопаламизма и который осуществил плодотворное современное возрождение Восточнохристианского дискурса. Его зачинатели Вл. Лосский и Г. Флоровский создали обновленную современную редакцию учения о соборности, которая стала существенной частью данного этапа. Поэтому Хомякова можно считать по праву одним из ранних его предтеч.
С возрождением Восточнохристианского дискурса тесно связана и мысль Ивана Киреевского. В его поздних статьях, и особенно, в программном и предсмертном труде «О возможности и необходимости новых начал для философии», намечается сам концепт Восточнохристианского дискурса, ставится и анализируется проблема создания аутентичной философии, стоящей на его основаниях (и, тем самым, вне русла европейской метафизики). С большой философской зоркостью, Киреевский (как думают многие, включая меня, сильнейший философский ум в России своего времени) выстраивает идейный контекст такой философии и указывает ее определяющие черты. Как им подчеркивается, она должна быть не новой понятийной системой, согласуемой с положениями веры как внешними требованиями (путь схоластики), а новым способом мышления, таким, который способен дать выражение духовного опыта в адекватном этому опыту философском дискурсе. Он точно указывает, что, в отличие от западной мысли, Восточнохристианский дискурс отводит духовному опыту (опыту веры, Богообгцения) ведущую роль: «Особенность православного мышления, исходящая из особенного отношения разума к вере, должна определить… господствующее направление самобытной образованности»[77 - И.В. Киреевский. О возможности и необходимости новых начал для философии // Он же. Избранные статьи. М., 1984. С.262.]. И, как он далее подмечает, эта опытная ориентация должна выражаться в своеобразной и тонкой организации мышления: «в мышлении православно верующего совокупляется всегда двойная деятельность: следя за развитием своего разумения, он вместе с тем следит и за самым способом своего мышления, постоянно стремясь возвысить разум до того уровня, на котором он мог бы сочувствовать вере»[78 - Там же.].
Еще существеннее, однако, что все его описания и характеристики верующего мышления развиваются не в русле спекулятивной метафизики, но под знаком начал личности и цельности человека. Он не оставил систематических разработок этих начал, но даже беглые его высказывания дают важный вклад в славянофильские концепции «цельной личности». Так, Киреевский писал: «Вера есть… сознание об отношении живой божественной личности к личности человеческой… Она обнимает всю цельность человека и является только в минуты этой цельности и соразмерно ее полноте… Главный характер верующего мышления заключается в стремлении собрать все отдельные части души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум и воля, и чувство и совесть… и весь объем ума сливаются в одно живое единство и таким образом восстановляется существенная личность человека в ее первозданной неделимости»[79 - Он же. Отрывки // Он же. Критика и эстетика. М., 1979. С.333–334.]. Как ясно показывают эти тезисы, позиции философа принадлежат теоцентрической персонологической парадигме, и в них определенно намечаются представления о том, что личность человека конституируется в своем устремлении к Божественной личности – в акте верующего мышления, собирающего в живую цельность все силы и способности человеческого существа. Найдем мы у него и противопоставление этих представлений западной антропоцентрической парадигме: «Все здание западной общественности стоит на развитии… личного права собственности, так что и самая личность в юридической основе своей есть только выражение этого права собственности. В устройстве русской общественности личность есть первое основание, а право собственности только ее случайное отношение»[80 - Он же. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России // Он же. Избранные статьи. С.228.].
В историко-философском контексте, намечаемая Киреевским философия должна сопрягать два полюса: она должна быть безусловно актуальной и современной, «соответствовать вопросам своего времени», и в то же время, «живительным зародышем и светлым указателем пути» должна для нее служить «философия святых отцов православной церкви»; так что, в итоге, ее задача – «согласить со святоотеческим преданием все начала современной образованности». В утверждении имманентной, непреходящей роли греческой патристики, обращение к которой может и должно питать не архаизирующую и консервативную мысль, а творческое постижение современности, идеи Киреевского прямо предвосхищают концепцию неопатристического синтеза Флоровского. Именно это – та идейная нить, следуя которой русская мысль 20 в. успешно двигалась к преодолению конфликта духовной и культурной традиций, ключевого конфликта русской культуры.
И всё же ни у Киреевского, ни у Хомякова не было создано той философии, к которой они стремились: современной, строящейся на собственных основаниях русской духовной традиции и потому отличной от классической европейской метафизики. Учение о соборности Хомякова развивалось в стихии вольного рассуждения, более богословского, чем философского, отрывочного и часто – публицистически-полемического. Комплекс идей Киреевского носил характер намечаемого проекта, к осуществлению которого ему не суждено было приступить. Задача создания русской философии осталась будущему. Однако ледоход русской мысли уже был неостановим. Начатая работа продумывания этой философии была подхвачена и продолжена.
IV. Заключение
В восприятии славянофильства и западничества в культурном сознании давно сложился симметричный стереотип, оба движения рассматриваются как однотипные, аналогичные, хотя и противостоящие друг другу; как две взаимно подобные фигуры идейных противников. В действительности, однако, они вовсе не симметричны во многих важных аспектах. Насущные потребности мысли, общества виделись им по-разному, и поэтому в центр у них ставились разные задачи: у западников – развитие, эмансипация общественного и, прежде всего, личного, индивидуального сознания, культивация свободной личности; у славянофилов – самоопределение русского сознания, его отчет себе в собственных основаниях, осмысление собственных начал, собственного исторического и духовного опыта. Видно, что эти задачи – разной природы. Первый круг, где к тому же предполагалось принятие готовых западных концепций личности и моделей общества, сводился, в основном, к проблемам социальной педагогики и просвещения, тогда как второй круг принадлежал топосу самосознания, глубоко философской проблематике. Именно поэтому Густав Шпет, стоявший сам на крайне западнических позициях, со всей определенностью утверждал: «Славянофильские проблемы… – единственные оригинальные проблемы русской философии»[81 - Г.Г. Шпет. Очерк развития русской философии. С.37.], из всех западников признав некоторое философское значение лишь за Герценом («Герцен вместе со славянофилами заправлял тесто русской философии»[82 - Он же. Философское мировоззрение Герцена. С.75.]). Мысль западников питает общественный, гражданский пафос, «религия великого общественного перевоплощения» (Герцен), и для их биографий типичен уход от философии «в общественность», как тогда говорили, – в публицистику, политику. Славянофилы никогда не пренебрегают «общественностью», но мысль их питает философский пафос, и никуда, никогда эта мысль не может уйти из топоса русского самосознания.
В итоге, в идейной жизни и культуре России надолго сложилось «разделение труда»: славянофильские тенденции преобладают в философском процессе, сфере творческой мысли; влияние западничества – в общественном движении и развитии. Напротив, покушаясь на философию, западники обыкновенно достигали лишь посредственных результатов (Шпет – исключение, подтверждающее правило), славянофилы же никогда не могли «увлечь массы» или предложить обществу реалистическую социальную программу. В этом свидетельстве истории отражается искусственность обеих доктрин, опирающихся на условные идеологические конструкты. Понятое как догма, как полнота истины, каждое из учений тут же обнаруживает явные несообразности, оказывается несостоятельным и устаревшим. Недаром все лучшие интеллектуальные достижения в обоих руслах – учение о соборности Хомякова, философский проект Киреевского, концепцию личности у Герцена – мы находили выходящими за рамки доктрин, не отвечающими догматическому западничеству или славянофильству. Но в то же время, каждое русло оказывается вовсе не устаревшим, а непреходящим, необходимым всегда – в качестве составляющего момента, одной из тенденций, граней всякой полноценной стратегии развития российской культуры.
Однако беда русской истории была в том, что оба учения не умели и не желали взглянуть на себя таким образом – как на необходимые, но частичные моменты самореализации культурного организма – живого целого, не охватываемого никакою догмой. Как выражались в старину, они не желали «признать правду друг друга» – отказаться от шор идеологизма, признать относительность своих догм и достичь «синергии», соработничества друг с другом. (Лишь ненадолго элементы такой синергии возникнут в культуре Серебряного века, мелькнут в идее Славянского возрождения…) Дальнейшее углубление поляризации общественного сознания было в порядке дня, оно с легкостью предвиделось и с неизбежностью надвигалось.
Алексей Хомяков и его дело
Введение: контекст и методология изучения русского славянофильства
«Как символ, славянофильство вечно, ибо оно есть символическое выражение русского самосознания», – писал Павел Флоренский. Едва ли можно увидеть преувеличение в этих словах. С самого своего зарожденья, славянофильство всегда и в первую очередь занималось именно этим: задачей выражения русского самосознания. Алексей Степанович Хомяков трудился во множестве областей науки, искусства, жизни общественной и практической; долгие годы он погружался в изыскания по всемирной истории и сравнительной лингвистике – писал знаменитую «Семирамиду», казалось бы, далекую от русских тем. При всем том – вот что писал о задачах этого труда Юрий Самарин, младший друг автора, впервые публикуя его отрывки после смерти Хомякова в 1860 г.: в глубинах истории и языка философ хотел «отыскать славян и живые следы православного вероучения… выделить из разных примесей народные и религиозные стихии и назвать их по имени»[83 - Ю.Ф. Самарин. От редакции // Русская беседа, 1860, т.2. (Цит. по: А.С. Хомяков. Соч. в 2-х тт. Т.1. М., 1994.С.535.).]. Это явно – проблема самосознания; но дальше Самарин любопытным образом уточняет ее. Он говорит, что у Хомякова, как и в славянофильстве вообще, вопрос вставал так: «К чему предназначено это долго не признанное племя [славяне – С.Х.], по-видимому осужденное на какую-то страдательную роль в истории? Чему приписать его изолированность и непонятный строй его жизни… тому ли, что оно по природе своей неспособно к самостоятельному развитию и только предназначено служить как бы запасным материалом для обновления оскудевших сил передовых народов, или тому, что в нем хранятся зачатки нового просвещения, которого пора наступит не прежде как по истощении начал, ныне изживаемых человечеством?»[84 - Там же.]. Эти выразительные слова показывают, что проблема была для славянофилов отнюдь не академической. Ситуация России виделась им в ключе противостояния, противопоставления, конфликта; она представлялась экзистенциально напряженной, насыщенной негативными эмоциями, а то и невротическими моментами: оба толкования этой ситуации у Самарина рисуют резкое неравновесие, по одному из них Россия гораздо ниже, по другому – гораздо выше «передовых народов». Первичным фактом для осмысления служило глубокое неравенство России и этих народов; и задача самосознания переходила тут же в задачу самоутверждения: преодолеть неравенство, обосновать, что мы – не ниже, не хуже… Первичный факт оказывался и первичной травмой: неравенство воспринималось как несправедливость, в судьбе и положении православного славянства читались непризнанность, осужденность, страдательность…
Поэтому построения славянофилов – не чистый научно-философский или богословский дискурс. Их философия и богословие, их исторические и социокультурные теории всегда включают специфические побочные мотивы – полемические, идеологические, эмоциональные, даже “психоаналитические”, выражающие определенные комплексы. Чтобы оценить роль их, надо еще учесть, что Самарин, чьи тексты дали нам их пример, – самый уравновешенный и объективный из всех ранних славянофилов; у Хомякова, у Константина Аксакова эти «окрашивающие» факторы куда сильнее и резче. Итогом же служит сложный, меняющийся баланс, сочетание зорких наблюдений, смелых гипотез, порой – содержательных решений проблем истории, культурфилософии – и этих привходящих мотивов. Последние снижают творческое значение славянофильства, толкая его к роли чисто идеологического явления или же некоего выражения этнической психологии. Пропорции трудно уловимы, и естественно, что взгляд изнутри, из России склонен смещать их в пользу творческого, оригинального, тогда как взгляд с Запада рискует не уйти дальше внешнего – антизападной идеологии и национальных комплексов.
Чтобы избежать смещений и произвола, надо задать некоторый большой контекст, или «мир» (в смысле феноменологии, die Welt), в котором конституируется и весь процесс русской мысли, и его отдельные феномены. Как мы аргументируем[85 - С.С. Хоружий. О старом и новом. СПб., 2000. См. также: S.S. Horujy. Breaks and links. Prospects for Russian religious philosophy today // Studies in the East-European Thought, 2001. V.53. 269–284. О понятии Восточнохристианского дискурса см. также в первом и последнем разделах книги.], роль такого контекста выполняет «Восточнохристианский дискурс» (духовный, концептуальный, эпистемологический фонд, служащий порождающим ядром Восточнохристианского менталитета), отличный от дискурса Западного христианства и ясно намеченный уже в VII в., в писаниях прей. Максима Исповедника. Восточнохристианский дискурс возникает как синтез патристики и аскетики (в форме православного исихазма), закрепляемый в общем для обеих сфер верховном понятии обожения. За счет аскетической составляющей, он сохраняет непрерывную связь с духовной практикой, опытом молитвенного Богообщения и представляет собой дискурс не отвлеченно-теоретического, но сугубо опытного мышления. Как следствие этого, его основные категории являются не эссенциальными (каковы сущности, субстанции, формы, причинно-следственные отношения…), но энергийными, выражающими различные активности и описывающими бытие как бытие-действие. В частности, и сам ключевой концепт или парадигма обожения также трактуется энергийно: как совершенное соединение энергий человека с Божественной энергией, благодатью, осуществляемое путем синергии — координации, согласованности, соработничества человеческих энергий и благодати. Поэтому ядро Восточнохристианского дискурса – дискурс энергии, связанный с исихастской аскезой и парадигмой обожения.
Наряду, однако, с этим энергийным ядром, Восточнохристианский дискурс включает в свой состав и эссенциалистские элементы, которые большей частью примыкают к общей бытийной установке или парадигме сакрализации реальности. Последняя отлична от установки обожения и в разные периоды истории нередко потесняла и заслоняла ее. Если установка обожения является специфически христианской и говорит о сугубо личностной энергийной связи тварного и Божественного бытия, актуализуемой во всецелой преображающей устремленности первого ко Второму, то установка сакрализации, что утверждает сущностное присутствие Божественной реальности в тех или иных эмпирических явлениях, характерна для языческой религиозности и, в частности, римской государственной религии. В православное сознание эта языческая установка пришла впервые в форме сакрализации Империи и Императора, в составе имперской идеологии, заимствованной Византией из Рима; и в этом смысле, будет верным сказать, что Империя поганила Православие, в точном древнем значении русского глагола: паганизировала, объязычивала. Она стала преобладающей в сфере отношения к власти и государству, а также и в ряде других областей религиозного сознания. (Надо только отметить здесь, что парадигма сакрализации никак не тождественна установке освящения, составляющей неотъемлемый элемент православного литургического сознания: глубокое различие в том, что освящение – органическая часть таинственной жизни Церкви и как таковое, оно восходит к Евхаристии, коренится в ней).
Понятие Восточнохристианского дискурса существенно, прежде всего, при анализе сакраментальной проблемы «Россия и Запад», ставшей в центре всей мысли славянофилов. Рассматривая славянофильские построения в этой теме, как и противостоящие им теории западников, мы констатируем, что оба движения видели в проблеме бинарную оппозицию, противостояние двух миров, двух типов духовного и общественного уклада, расходясь лишь в характеристике и оценке этих миров. Восточнохристианский дискурс – фактор, который делает возможной – и, следственно, необходимой – деконструкцию такого подхода и выход, освобождение из горизонта бинарного мышления. Он – третье начало, которое опосредует отношение Россия – Запад и притом так, что его собственные отношения и с Россией, и с Западом заведомо не представляют бинарных оппозиций. Отношения Восточнохристианского и Западнохристианского дискурсов включают общую скриптуральную и патристическую основу и структурируются на множество предметных сфер – догмат, богословие, литургика, экклезиология и церковная политика и т. д. Происходящее в каждой из этих сфер – отнюдь не полярное противостояние, но долгий, содержательный диалог, в котором лишь иногда элементы конфронтации берут верх. И можно, уточняя, сказать, что «мир», в котором конституируется феномен русской мысли, – это не только Восточнохристианский дискурс, но и все пространство этого бесконечного христианского диалога.
Итак, славянофилы и западники, чьи споры стали основой всей идейной истории России XIX столетия, суть две симметричные идеологические позиции, равно пребывающие в плену стереотипов бинарного мышления. Точней, они дали новый толчок этому мышлению, создав два упрощенных идеологических конструкта, «образ России» и «образ Запада»: Россия – патриархальный традиционалистский мир, живой, но а-историчный, статичный, обращенный к ценностям прошлого; Запад – мир динамики, развития, совершенствования, устремленный к будущему и безжалостный к настоящему. Эти конструкты – общее изделие враждовавших сторон. Тут они расходились скорей в деталях; а все острия полемики касались лишь оценок и выводов. Сообща выстроив бинарную оппозицию, оба движения заняли места на ее противоположных полюсах: славянофилы восхваляли конструкт «Россия», обличая конструкт «Запад»; западники же делали обратное.
Но в некоторых важных аспектах позиции все же не были столь симметричны и равноценны. Возникал любопытный парадокс: позиция западников, выдвигая ценности прогресса, творчества, созидания нового, в то же время на практике оказывалась подражательной, означала заимствование и перенос, следование в готовых руслах. Напротив, славянофилы, призывая вовсе не к творчеству, а к патриархальному консерватизму, к восстановлению исконной традиции и модели, оказывались перед необходимостью эксплицировать, предъявить въявь эти традицию и модель, а равно доказать их достоинство и превосходство. И это были задачи творческие и даже новаторские, если еще учесть, что хвалимая традиция гораздо более была умозрительным идеалом, нежели историческою реальностью Древней Руси. Поэтому нельзя согласиться с мнением Анджея Балицкого, считающего славянофильскую мысль всего лишь «утопией восстановления утраченной традиции»[86 - A. Walicki. W kregu konserwatiwnej utopii: Struktura i przemiany rosyiskiego slowianofilstwa. Warszawa 1964. S.367.]. Традиция, рисуемая славянофилами – и уж тем паче ее восстановление – могли быть утопией; но их идейные разработки были реальным творчеством. Логикою вещей, именно традиционалисты – славянофилы, а не прогрессисты – западники оказывались призваны к новой постановке философских, религиозных, историософских проблем, к созданию моделей и парадигм российского исторического и духовного процесса. В этом и коренится их особая роль в развитии русского самосознания, прочно признанная сегодня и русской, и западной наукой. «Славянофильские проблемы – единственные оригинальные проблемы русской философии, как бы ни решались они»[87 - Г.Г. Шпет. Очерк развития русской философии. Пг., 1922. С.37.], – утверждал даже Густав Шпет, диаметрально противоположный славянофилам в оценках русского исторического бытия.
Реконструкция «славянской традиции», будь то реальной или утопической, должна была включать многообразные факторы – материальные (этногенез, исторический процесс, социальное и государственное устройство), психические (этническая психология, национальный характер), духовные (фольклор, искусство, религия). В отношении к ним славянофильство проделало крупную эволюцию. Со сменой его периодов, с переходом от ранних славянофилов к поздним (Данилевский, Страхов, Леонтьев и др.) и от них далее, вплоть до современного евразийства, все больший перевес получают материальные факторы. Решающее значение в стихии, в судьбах славянства придается географии и геополитике, борьбе этносов, наций, и самое славянство понимается не как духовное начало, даже не как «культура», а как органическое образование, этноисторический тип. Но раннее славянофильство, во многих аспектах справедливо сближаемое с европейским романтизмом, отдает безусловное первенство духовным факторам – царское место среди которых занимает, разумеется, религия. Определением славянства в его духовной природе служит православие. В силу этого, именно религиозные концепции необходимо считать определяющим ядром во всем комплексе воззрений раннего славянофильства. На львиную долю эти концепции были созданы Хомяковым. Богословские тексты Хомякова, где им развивается учение о соборности и Церкви, признаны центральною и ценнейшей частью не только в его творчестве, но и во всем славянофильском наследии. Их обсуждение – основная цель нашего очерка; но чтобы правильно понять их, необходимо вглядеться в мир, из которого они возникают.
Глава 1
Жизненный мир Хомякова и славянофильский этап его творчества
1.
Всегда и во всем, славянофильские позиции – это не позиции изолированного индивидуального сознания или одинокого рассуждающего разума. Напротив, это позиции сознания, многосторонне и прочно социализированного, имеющего за собой традицию, среду, почву: недаром одно из позднейших ответвлений славянофильства прямо именовалось «почвенничеством». У Хомякова эта социальная укорененность отразилась во всем – в личности, жизненном поведении, творчестве, включая и учение о соборности. Поэтому надо пристально рассмотреть: в какой же почве хомяковская укорененность? Мы увидим, что эта почва – не что-то одно и узкое, она – полна, ибо располагается целым последовательным рядом сфер, как в классической античной модели космоса. Есть самый тесный, внутренний круг кровной близости – семья, род; затем следует круг сословный, идентификация с поместным дворянством; далее же эти круги объемлет народная стихия, объединяющая и крестьянскую общину, «мiр», и землевладельцев – бар, и саму землю, которой они все связаны и обязаны. Это единство органически входит в следующую сферу, которой служит единство общенациональное, Россия. И наконец, завершающая сфера, превосходящая уже эмпирический мир, – мистическое и сакраментальное единство Церкви.
Опишем этот хомяковский космос – начиная с ядра. Ядро довольно обширно: старинный дворянский род Хомяковых, известный уже в XV в., был многочислен и разветвлен. К XVIII в. Хомяковы большею частью были помещиками Калужской и, главным образом, Тульской губернии; в царствие Екатерины Великой среди землевладельцев только одного из тульских уездов было 10 Хомяковых. Из них, крупнейшие владения были у прадеда славянофила, Федора Степановича Хомякова, но достались они ему необычно: некий хозяин крупных имений, Кирилл Хомяков, не имея наследников, предоставил самим крестьянам своим выбрать себе будущего помещика – любого из фамилии Хомяковых; и выбран был Федор, до того вовсе небогатый. Все биографы Алексея Хомякова непременно приводят эту историю: в ней очень естественно видеть корни будущей «органической социологии» философа, его идей о единстве, почти кровной связи народа, помещика и земли – единстве, в котором крестьянская община, народ – главная и решающая инстанция, источник особой системы права, чуждой формальным кодексам. Хомяков хранил в памяти, ценил, рассказывал множество поучительных историй о своих предках, и эти предания патриархального дворянского бытия входили прочно в основу его внутреннего мира.
Известным отклонением от патриархальной модели было то, что в детском опыте Хомякова доминирующее присутствие и определяющее влияние принадлежали матери, не отцу. Образ отца был подточен: Степан Александрович Хомяков, богатейший помещик, человек с недурным образованием и способностями, страстный англоман и один из основателей знаменитого Английского Клуба в Москве, был еще более страстным игроком – и в клубе, что он основал на свою беду, он проиграл почти все семейное состояние, больше миллиона рублей. После чего в семействе произошла гендерная революция: мать философа, Мария Александровна Киреевская, дама сильного, властного, гордого характера, отстранила мужа от ведения дел и стала сама главою дома. Она сумела поднять вновь благополучие семейства до уровня, приличного их кругу и позволяющего дать детям – их было трое, Федор, Анна и Алексей – наилучшее воспитание и образование.
Алексей Хомяков родился 1 мая[88 - Здесь и далее, все даты – по старому (юлианскому) календарю.] 1804 г. в Москве. Его ранние годы, его молодость вполне следовали классической модели Erziehung-Romane его эпохи: как у Вильгельма Майстера, шли Schuljahre, за ними – Wanderjahre. Учение проходило по домашней системе – приглашались учителя, лучшие в тогдашней Москве, и будущий философ получил у них отличную подготовку не только в языках и гуманитарных науках, но также и в математике и в занятиях спортом (по математике он даже получил поздней степень в Московском Университете). Успехи его были блестящи во всем – уже в детстве ярко обнаружилось то, чем он поражал потом всех: редкостная, почти небывалая универсальность дарований и интересов. Но едва ли не важнее наук были другие плоды Schuljahre: прочные религиозные и нравственные основы, заложенные тогда же и с тех пор неизменные. «Я знал Хомякова 37 лет, и основные его убеждения 1823 г. остались те же и в 1860 г.»[89 - А.И. Кошелев. Воспоминания о Хомякове // А.С. Хомяков. Полное собр. соч., изд. З. Т.8.М.Д900. С.129.], – пишет один из его ближайших друзей, славянофил А.И. Кошелев. Здесь жизнь философа уже не следует образцам эпохи: в отличие от романтического канона, мы не найдем в ней никакого резкого кризиса или переворота, «обращения», «сжигания старых богов»… Из первых свойств его личности всегда называют цельность. Стержнем же этой цельности была нерушимая православная вера.
Немаловажны и качества этой веры. Это никак не была обычная в образованной среде «просвещенная вера, пренебрегающая условностями и обрядами». Вера Хомякова была всегда, всю жизнь – строгой, молитвенной и церковной. Даже в пору своих Wanderjahre, живя один в Петербурге и Париже, служа в гвардии, сражаясь на войне, он не отступал от церковных обрядов и постов. и в этой особенности – прямая связь с учением, что он разовьет поздней, с его идеей соборности. Христианская вера для Хомякова – отнюдь не индивидуальный акт, но проявление Церкви, акт соборный. Она не может измышлять себе какие-то формы по индивидуальному произволу, ибо жизнь по вере – не что иное как выражение принадлежности к Церкви. Так говорит Кошелев: «Для Хомякова вера Христова была не доктриною и не каким-либо установлением: для него она была жизнью, всецело обхватывавшею все его существо… Он говорил, что содержит посты потому что Церковь их установила, что не считает себя вправе становиться выше ее и что дорожит этою связью с народом. В Церковь он ходил очень прилежно… Молился он много и усердно, но старался этого не показывать и даже это скрывать»[90 - Там же. С.131.]. Еще яркая черта хомяковской религиозности – ревность о вере, постоянная бдительная готовность к ее отстаиванью и защите (что близко и к отмечаемой всеми воинственности, полемичности его натуры). Вот две иллюстрации из детства. В 1815 г. семья приехала в Петербург, и европейское обличье столицы так поразило обоих братьев, Федора и Алексея, что они решили, будто попали в страну язычников, где будут принуждаемы переменить веру; и твердо положили между собой не делаться вероотступниками даже под страхом мук. Другой случай как бы предваряет будущую антиримскую полемику: на уроке латыни Алексей усмотрел опечатку в тексте папской буллы – и немедля вопросил своего учителя-аббата: как может быть папа непогрешим, если он делает грамматические ошибки?
В 1822 Хомяков вступает в кавалерийский (кирасирский) полк и в 1823–1825 гг. служит в конной гвардии в Петербурге. Петербург этих лет – живейшая интеллектуальная кухня, где стряпается духовная пища для России на многие следующие годы. Культурный процесс включает целый ряд русл: религиозно-мистическое течение (масонство и мистицизм Александровской эпохи), различные чисто литературные движения, литературно-философские кружки (хотя здесь первенство было за Москвой с кружком любомудров) и, разумеется, литературно-политическая активность декабристского круга. Хомяков начинает творческую жизнь как поэт, сочиняя лирические стихи и поэмы из русской истории (трагедию «Ермак» он написал тогда же, когда Пушкин – «Бориса Годунова», и оба автора одновременно прочитали свои пьесы в Москве, в доме поэта Дмитрия Веневитинова, 12 и 13 октября 1826 г.). Талант его здесь был признанным. В 20-е годы поэзия – преобладающая сфера его творчества; лишь постепенно в 30-е и 40-е годы она уступает первенство философской и религиозной мысли. При этом, она нередко служит как бы начальной формой выражения его идей, их лирическим предвосхищением; так что многие мотивы и мысли славянофильства были впервые им высказаны в его стихах. Он бывает и в среде декабристов, участвует в политических спорах – и удивляет своею необычной позицией, включавшей два антидекабристских тезиса: во-первых, Хомяков осуждал идею военного переворота, утверждая, что войско ответственно пред народом и не должно вершить его судьбы по своей воле; во-вторых, он отвергал и возможные плоды такого переворота, расценивая их как «замену единодержавия тиранством вооруженного меньшинства». И здесь опять ясна связь с его главными убеждениями, с идеей народа как единственного законного источника власти. Парадоксальным образом, эта идея совмещалась с другой, почти противоположной: что народ русский не желает сам осуществлять политическую власть и отчуждает, почти отталкивает ее от себя; но, целиком передавая ее особому институту – а именно, абсолютной монархии – он зато оставляет себе всю полноту нравственной и духовной свободы.
Но он еще нескоро придет к зрелому выражению этих и других своих убеждений. Годы странствия еще длятся. В 1825–1826 гг. Хомяков, уволившись со службы, путешествует по Европе, живет в Париже, занимается живописью и, по некоторым сведениям, также иконописью. Затем возвращается в Петербург, примыкает к перебравшимся туда любомудрам (В.Ф. Одоевскому, Дм. Веневитинову, А.И. Кошелеву) и в долгих беседах и спорах с ними, философские и религиозные интересы выходят у него наконец на первый план. Эти беседы заслуживают особого замечания: в них перед нами предстает характерный, важный феномен и механизм русской культуры: кружок. Это – ведущий механизм русского идейного развития в XIX в.: культурные явления зачинались – а порою и ограничивались – длительными и интенсивными, эмоциональными дискуссиями, “русскими разговорами” в тесном кругу дружески связанных людей. Примерами служат кружок любомудров в 20-е годы, кружки славянофилов и западников в 30-е и 40-е годы, позднее – «нигилистов», народников, ранних марксистов, мирискусников… Уже в нашем веке, в 20-е годы так же начинается евразийство. Так описывает Кошелев типичные будни кружка: «Мы толковали и спорили о философии вообще и о Шеллинге в особенности, о христианстве и других жизненных вопросах… не забуду одного спора, окончившегося самым комическим образом. Проводили мы вечер у князя Одоевского, спорили о конечности и бесконечности мира, и незаметно беседа наша продлилась до трех часов ночи. Тогда хозяин дома нам напомнил, что уже поздно… мы встали, начали сходить с лестницы, продолжая спор; сели на дрожки и все-таки его не прерывали. Я завез Хомякова на его квартиру, он слез, я оставался на дрожках, а спор шел своим чередом. Вдруг какая-то немка, жившая над воротами, у которых мы стали, открывает форточку и громко говорит: Mein Gott und Herr, was ist denn dass?»[91 - Там же. С Л 25.] Немецкий вопрос кстати: очевидно, что близкую параллель этому русскому кружку – как по характеру явления, так и по темам, позициям – дают кружки немецких романтиков.
В 1827–1828 гг. шла русско-турецкая война, и Хомяков снова поступил в полк. Он участвует в сражениях на Балканах, проявляя «холодную блестящую храбрость», по воспоминаниям сослуживцев, награждается тремя орденами, но с окончанием кампании выходит опять в отставку. С тех пор и до конца жизни он нигде не служил, оставаясь лишь помещиком и частным лицом (как ниже увидим, и это – знаковая деталь, такая роль отвечала его социальной философии). Внешняя биография его становится мало событийна; годы странствия завершились. Обычно Хомяков жил летом в имениях, всего чаще – в Липицах, Смоленской губернии, и в Богучарове, Тульской, зимами же – в Москве. В 1836 г. он женится на Екатерине Михайловне Языковой, сестре поэта Н.М. Языкова. Семейная жизнь и помещичье хозяйство занимали его всерьез, он посвящал им много времени и внимания. И вместе с тем, как бы по закону контраста, с уходом внешней событийности начинаются решающие события его внутренней и творческой жизни.
2.
Годы с середины тридцатых – время, когда у Хомякова и Ивана Киреевского (1806–1856) складываются общие очертания системы славянофильских воззрений. Тем лоном, где они зарождались, был дом Авдотьи Петровны Елагиной (1789–1877), в первом браке Киреевской, матери Ивана Киреевского. «С тридцатых годов дом и салон Авдотьи Петровны были одним из наиболее любимых и посещаемых средоточий русских литературных и научных деятелей. Все, что было в Москве интеллигентного, просвещенного и талантливого, съезжалось сюда по воскресеньям»[92 - К.Д. Кавелин. Авдотья Петровна Елагина // Русское общество 30-х годов XIX в. М., 1989. С.139.]. В числе постоянных посетителей бывали равно и будущие западники и будущие славянофилы – Хомяков, Чаадаев, Гоголь, Кавелин, Языков; в 40-х годах к ним прибавились Герцен, Самарин, Аксаковы, Огарев – пока в 1845 г. не настало разделение двух лагерей. Любопытным образом, первым, кто в доме Елагиных начинает высказывать элементы славянофильских идей, был не Хомяков и не Иван Киреевский, но брат последнего Петр (1805–1856), что стал известен поздней как собиратель песенного фольклора. «Первым представителем этого направления [славянофильства] был Петр Васильевич Киреевский, которому сперва сочувствовали только Хомяков и Языков. Иван Васильевич Киреевский не разделял сначала мнений брата и присоединился к ним лишь впоследствии»[93 - Там же.].
После периода кружковых бесед, к концу тридцатых годов появляются наконец первые славянофильские тексты – статья Хомякова «О старом и новом» (1839) и, откликом на нее, «В ответ А.С. Хомякову» Ивана Киреевского. Оба основателя движения были знакомы еще с 1824 г. и сделались коротко дружны в годы после запрета журнала «Европеец», два нумера которого выпущены были Киреевским в 1832 г. Тексты не предназначались для печати и не публиковались при жизни авторов; статья Хомякова была прочитана в одном из собраний кружка, ответ Киреевского расходился в списках. По традиции, они признаются программными документами славянофильства – и этот взгляд справедлив, хотя никакой систематичной или полной программы тут вовсе нет. Тексты программны в ином смысле: говоря о русской истории и культуре, они не предлагают их научного анализа, но хотят дать оценку их сегодняшнего момента, найти должный вектор их развития, указать их насущную задачу. Чтобы достичь этих целей, они выдвигают определенные тезисы о сути, о движущих началах исторического и культурного процесса в России, набрасывают схемы и парадигмы этого процесса. При этом, схемы двух авторов дополняют друг друга: мысль Хомякова движется в диахронии, выстраивая оппозицию Старое – Новое (противоположность древнего и современного общественного уклада), мысль же Киреевского – в синхронии, выстраивая оппозицию Россия – Запад (противоположность российского и западного типов культуры).
Точно так же (что замечали уже не раз) дополняли друг друга и сами фигуры лидеров будущего движения. По всей натуре и поведению, Хомяков и Киреевский были полною противоположностью: как экстраверт и интроверт, решительный практик и колеблющийся мечтатель, поборник живого опыта и философ спекулятивной складки… За этим лежит более глубокий пласт: как ниже увидим, у двух соратников различным был и характер их религиозности, духовный тип, причем это различие можно в точности сопоставить с изначальным различием двух направлений православной духовности – общежительного (киновийного) и уединенного (исихастского) монашества. Хомяков ярко, определенно представляет первый, общежительный тип, Киреевский столь же определенно – второй, исихастский. И для развития славянофильского движения – как прежде для развития православной аскезы – подобное апорийное сочетание было плодотворным. «Столь явное различие в натурах и действиях двух основателей учения свидетельствовало о живости и естественности самого учения. Ибо славянофильство не было и не могло быть индивидуальным делом, а должно было создаться только коллективными усилиями»[94 - В.А. Кошелев. Алексей Степанович Хомяков, жизнеописание в документах, в рассуждениях и разысканиях. М., 2000. С.211.].
Текст Хомякова – яркое выражение черты, что станет классическим признаком славянофильского мышления, порой доводясь до гипертрофии: идеализации прошлого Руси. В этом прошлом он видит «первый, чистый и патриархальный состав общества», «вольности городов», «грамотность и организацию в селах», начала особого права и общественного самоуправления в формах сельской сходки, городского веча, мирского приговора, «равенство, почти совершенное, всех сословий», «дружбу власти с народом» и т. п. Напротив, в дальнейшем, начиная с Московского Царства, «все обычаи старины, все права и вольности городов и сословий были принесены на жертву для составления плотного тела государства… язва безнравственности общественной распространилась безмерно и все худшие страсти человека развились на просторе»[95 - А.С. Хомяков. О старом и новом. //Полное собр. соч., изд.4.Т.3.М., 1914.С.27.]. При такой картине, желаемая цель неизбежно принимает форму ретроутопии: «нам довольно воскресить, уяснить старое, привести его в сознание и жизнь… Мы будем продвигаться вперед, воскрешая древние формы жизни русской… Тогда, в просвещенных и стройных размерах… воскреснет древняя Русь, но уже сознающая себя»[96 - Там же. С.20, 29.]. С учетом центрального места, какое поздней у Хомякова займет церковно-богословская тема, любопытно заметить, что в этом первом наброске его теорий она еще далеко на втором плане.