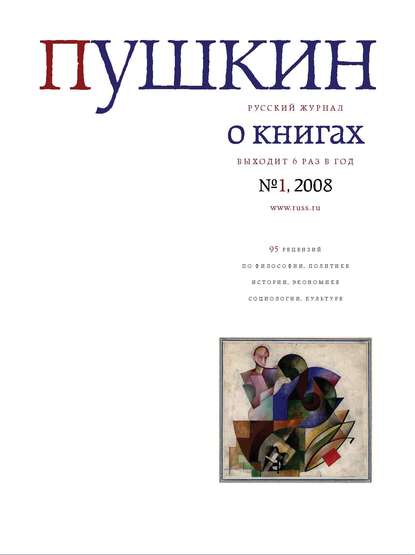По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пушкин. Русский журнал о книгах №01/2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Владимира Набокова заставили, наконец, сказать последнее слово. Готовится к изданию его роман «The Original of Laura», «Лаурин подлинник», или «… оригинал». Он был записан, как и большинство рукописей, карандашом на отдельных карточках, растасовать которые автор так и не успел. Зато в лучших литературных традициях завещал сжечь их. После тридцати лет колебаний и консультаций сын писателя решил нарушить завет автора. Роман о смерти и о ветреной женщине. Еще вернемся к нему. Если карты лягут.
«Книга пережила интернет, самопринт, Librie и прочие eBooks… Ожидается, что она переживет и Kindle (от слова „возбуждать“, „воодушевлять“), который предлагает Amazon за 400 у. е. (против 280 у. е. за Sony Reader). Технология Kindle позволяет загрузку книг, журналов и газет, минуя компьютер. К нынешнему моменту в немедленном доступе находятся более 90000 книг, журналов, газет и блогов. За сумму от 10 до 15 у. е. в месяц можно подписаться, к примеру, на New York Times, Wall Street Journal, Monde или Frankfurter Allgemeine. Ряд технических и дизайнерских изъянов позволяет, однако, «надеяться», что слухи о бесповоротной смерти книги и на сей раз окажутся преувеличенными.
ПОКУПКИ
Книжные покупки Модеста Колерова[2 - Продолжение, Начало см.: Книжные покупки // Логос. М., 2000, N 5/6(26) С. 176–187; Книжные покупки – 2 // Логос. М., 2001, № 2 (28), С. 203–214.]
Да, читать просто некогда. Но плох тот культурный человек, кто не покупает книг, исходя вот бы хоть из самых фантастических предположений о возможности чтения: будь то надежда на пенсионный покой или предпостельный досуг, на молниеносную справку или езду в метро-поезде-самолете. Плох и тот, кто, покупая, не прореживает своих домашних пространств, вычищая из них дубликаты, цензурованные советские полуиздания, мусор, историографическую плесень, книги с дарственными надписями тех, о ком благодарная память иссякла, истощив нужду в хранении памятных знаков.
Но ведь и с рецензиями просто беда! Держа в уме правильный стандарт того, какой должна быть полноценная академическая или культур-критическая рецензия, рискуешь остаться вообще без рецензий: ибо почти никто не способен теперь, рецензируя книгу, дать краткий отчет о ее литературных и издательских предшественниках, бегло набросать очерк соответствующей дисциплины в ее буйном развитии за последние десять лет. Не способен кратко очертить творческий путь автора вообще и в избранной теме в частности, еще короче остановившись на всех предыдущих рецензиях на его труды и признании особого вклада автора в тематику и проблематику, Глубоко и подробно внедриться в главные сюжеты сочинения, поспорить по поводу каждого, найти уйму блох и описок, привлечь к полемическим исправлениям новые заграничные исследования и свои собственные разыскания, Разругать вдрызг, Похвалить неумеренно. Изящною фразой утешить издателя за хороший дизайн, Посетовать на тираж, катастрофически малый в сравнении с трудами неприятеля, Никто так не может теперь, Потому и мне не стоит пытаться.
Уже не спорят, что научная истина не устанавливается голосованием и большинством голосов, Почти все уже согласны, что таков же и механизм установления истины сексуальной, Но вот с рыночной истиной – непреодолимая беда. Не считать же рыночной правдой большое число экземпляров книги «А», проданной по цене спичечного коробка после рекламной кампании с бюджетом в несколько миллионов долларов, Покупатель – всегда жертва. И не всегда жертва рекламы. С книгами получается так, что их покупатель чаще всего становится жертвой себя самого, своих воспоминаний, ролевых игр, глупости. Так и ходишь вдоль витрин, шарахаясь от своих собственных отражений.
Модест и Филипп Кколеровы. Книжная полка, 2006–2008
Нерушимый союз Берии и Сахарова
Убийство Баумана
Джентльмен без лица
Эмиграция против воли
Химия на посту
Философия на службе
Никита Петров, Марк Янсен. «Сталинский питомец» – Николай Ежов. М., 2008. 447 с. Тираж 2000 экз.
Не успела выйти в свет полноценная биография самого известного и результативного (по количеству расстрелянных) сталинского палача, секретаря ЦК вкп(б), главы НКВД Николая Ежова,[3 - Алексей Павлюков. Ежов: биография. М., 2007.] как в конкуренцию ей появился описываемый труд. И я, признаться, полгода останавливал себя от поверхностного чтения: ибо и классик-исследователь сталинизма Н. Петров и тоже заслуженный исследователь грустной судьбы оппозиции в СССР М. Янсен, казалось, вряд ли могли значительно дополнить сделанное Павлюковым, столь же фундаментально исполненное по архивам. Главным у Павлюкова, помнится, было детальное разоблачение лжи Ежова о своей революционно-пролетарской биографии (особенно вокруг Путиловской стачки) и описание механизма эскалации Большого Террора 1937
1938 годов. Павлюков (и Петров с Янсеном) солидарно отбросили лишнюю брезгливость в отношении политически фальсифицированных «дел» и «допросов», в которых Сталин конструировал разнообразные подпольные заговоры. И правильно сделали: кроме легко вычисляемой политической лжи, в них изобильны предельно откровенные данные о кланах, связях, образе досуга и службы властных большевиков.
Теперь могу сказать осмысленно: Петров и Янсен тоже не проиграли. Они, конечно, удвоили объем своего труда за счет приложенных документов, об осмысленности некоторых из коих можно спорить, но вменять им в вину такое удвоение нельзя. Оные господа, идя самостоятельно, но следом, прошли свои путь не зря.
Они хирургически описали восхождение, апогей и механизм заката доверенного сталинского палача (этот механизм у них прописан рельефнее, чем у Павлюкова). Плоды этой карьеры в цифрах: в Большом Терроре с начала 1937 по январь 1939 было репрессировано около 1500000 человек, из них 700000 расстреляно, 800000 отправлены в лагеря. Хотя по первоначальному плану Сталина стояла задача арестовать 270000 и расстрелять из них 76000. Параноидальная логика зачистки в те же годы районов будущей войны от национальных «пятых колонн» (поляков, немцев, латышей и др.) вылилась в то, что в таких «национальных операциях» пропорция убитых была уже иной: 250000 расстрелянных на 340000 арестованных (из общего числа жертв Большого Террора). Нет сомнений: «палачи сами становились жертвами», и страдания палачей и вдохновителей палачей из «Дома на набережной» от рук своих сослуживцев затмили национальную трагедию 1937 года. Это несоответствие литературного плача старых большевиков и их потомков масштабам террора неизменно подпитывает ревизионизм адвокатов Сталина, равно как и его ненавистников. Но совершаемый авторами простой подсчет – из всех репрессированных в 1937
19338 гг. было всего 10% членов ВКП(б) – посрамляет тех и других: как бы ни были искусительны формулы о том, что посредством Сталина-Ежова «революция пожрала своих отцов и детей» (или что именно тогда ЧК в самоистреблении покончила со своей латышско-еврейской историей, превратившись в «национальную силу»), для народа цена этих межпалаческих игр десятикратно выше. В чем и состоит наука: историческая и моральная.
Существует и иной исследовательский пункт, в избытке представленный в ревизионистской литературе: что-де, либо НКВД увлеклось, либо местные партийные органы увлеклись террором (они часто требовали больше расстрелов, постоянно увеличивая «лимиты» НКВД), сводя свои межведомственные счеты. Петров и Янсен дают этому краткое опровержение: «Расхожий вывод о том, что в 1937
1938 годах органы НКВД вышли из-под контроля партии, не является обоснованным» и доказывают, что все принципиальное, в том числе персональные расстрельные списки на 39000 человек, контролировалось лично партийным вождем Сталиным (да и, напомню, Ежов параллельно был секретарем ЦК), Это указание на личную унию НКВД и ВКП (б) – Сталина и его орудия Ежова, тем не менее, не звучит убедительно. Диктатор Сталин не может выступать ведомственным представителем партийной вертикали в отношении вертикали НКВД, Точнее сказать, явленная в этой вертикали центральная власть с избытком истребила и потенциальную военную оппозицию, и самостоятельность промышленных и партийных, центральных и местных кланов. Правда, ненадолго.
Описывая личность Ежова, авторы из приведенного ими материала также могли сделать поверхностный вывод об особой связи Ежова с советской культурной элитой: ведь постоянными гостями домашнего салона жены Н. И. Ежова в 1930-е гг. были Лев Кассиль, Самуил Маршак, Исаак Бабель, Леонид Утесов, близко она общалась с Н. Я. Мандельштам. Но сей вывод о Ежове они не сделали. Это мы можем кое-что записать в свои знания о подсоветской элите, не чуравшейся не только теоретически-философских, но и практических палачей.
В этом контексте особый цвет приобретает детально развернутое авторами наблюдение: Ежов – этот некогда тихий и участливый карлик, ставший садистом – последовательно уничтожал всех, кому в прошлом был чем-то обязан, кто помнил его другим, кто напоминал ему о матери-литовке и деде-поляке (Ежов свободно, как на русском, говорил на польском и литовском). Авторы не могут дать иного объяснения этому чуду, кроме как назвать его полноценным продуктом «сталинской тоталитарной, террористической и бюрократической системы». Объяснение корректное, но какое-то беззубое.
Предшественник Ежова в НКВД Ягода и добрый его знакомец, теоретик массового насилия Бухарин под следствием, как известно, особо выговаривали себе сохранение жизни в обмен на любое признание. Авторы приводят свидетельство о том, как экзистенциально заставил их пережить это Ежов: «В присутствии Ежова Ягоду расстреливали последним, а до этого его и Бухарина посадили на стулья и заставили смотреть, как приводится в исполнение приговор в отношении других осужденных». В свою очередь, заподозренный в содействии шпионажу и, наверное, более не столь необходимый как палач, Ежов тоже просил сохранить ему жизнь.
Авторы новаторски вычисляют апогей политического влияния Ежова в мае 1938 года, буквально за два месяца до начала его падения, когда в политической риторике СССР он стал третьим по влиянию после Сталина и Молотова (зри, политический бюрократ, на свою судьбу). Но вот чего не хватает этому исследованию, так это внятного контекста. Сужу об этом не с точки зрения дикого читателя, а с позиции тоже-ревизиониста: например, звучит в описании пути Ежова слепой термин «правая оппозиция» (истребляемая НКВД), но ни слова не только о том, кто был зачислен в нее Сталиным (это можно почерпнуть и из «Краткого курса истории ВКП(б)»), но и том, когда именно в идее и практике возник сам проект ее истребления, что хронологически важно для оценки востребованности того же Ежова. Так здесь и во всем – минимум контекста, максимум сухой линейной судьбы.
Два слова об издателях: Павлюкова издал Захаров, Петрова-Янсена – РОССПЭН вместе с Фондом Ельцина: в совместной хорошей серии полноценных исследований по истории сталинизма (они успешно дополняют документальную сталинскую серию фонда «Демократия», начатую А. Н. Яковлевым, и даже уже затмевают ее).
Д. И. Менделеев. Познание России. Заветные мысли. М.: Эксмо, 2008. 688 с. Тираж 5000.
«Шеф-редактор проекта» издательства «Эксмо» Маргарита Приз – учинившая титанический труд соединить в одной книге две классические работы русского энциклопедиста, умышленно переврав название одной из них («К познанию России»), и столь же титанически уснастив переплет тома пошлой развлекухой «а-ла рюсс» из репродукций хороших русских художников, превратив их в мутные цветастые клейма, – сделала все-таки полезную работу.
Для мелкой справки искал памятные мне крохотные переиздания «К познанию России» начала 1990-х годов, толкался в книжных супермаркетах, унавоженных тем, чем они унавожены обычно, торкался в редкие умственные магазины в тайной надежде. Напрасно. Теперь «шеф-редактор», похоже, сама того не зная за занавесками «а-ла рюсс», дает публике двухкилограммовую книжную гирю. В ней – редкостный для нынешнего времени экономический и публицистический пафос великого химика, который ударился оземь, – и в свободное от гениальности время придумал не только стандартную русскую водку, о чем алкорынок нас просветил, но и прямо проник в задачи нефтедобычи, рассчитал плотность населения и производительных сил, начертил новый проект административного деления России, едва ли не на смертном одре пророчески предупредил: смотри государство в Сибирь, делай там свой государственный центр (возле Омска), иначе потеряешь больше, чем можешь позволить себе потерять. Менделееву было легко разговаривать и конфликтовать с сильными: на что ни посмотрит, всюду видится ему новый стратегический разворот – будь то керосин, будь то уголь, будь плодородные почвы. Младший современник Менделеева, правый публицист (расстрелянный за публицистику ранними большевиками) Михаил Меньшиков итожил в «Памяти Д. И. Менделеева» (1907): «отрываясь от лаборатории, писал о стеклянном производстве и маслобойном деле, о технике земледелия, о муке и крахмале, о вазелине и винокурении, о химической технологии», «о школе для учителей и поднятии уровня Азовского моря, погружался в таможенный тариф и в колоссальный материал переписи», «ездил в Закавказье, в Пенсильванию изучать нефть, в Донецкую область изучать уголь, мечтал об открытии Северного полюса, летал на воздушном шаре и изучал спиритизм»…
Интегральный пафос тогдашнего позитивного, естественно-научного знания и одновременно государственного и экономического проектирования, близкий вот хоть и В. И. Вернадскому, – конечно, плоть от плоти XIX века, а то и глубже, но именно и на нем тоже стоит то исторически неотменимое в сталинизме и послесталинском коммунизме, что напрямую довело Вернадского из XIX века в 1942 год – число инициаторов советского атомного проекта.
Современные умные уже не хотят чувствовать за собой дыхание истории и энциклопедизма. Стоит им увидеть в телекартинке подряд несколько новостей на избранную анонимным редактором тему – как в мозгу их уже готова очередная всемирно-историческая теория (со сроком годности не более 10 лет). Уже готов очередной «флюс» вроде Фукуямы (Закария, Ханна), объявляющим, глядя в зеркало в припадке американского солипсизма, новый конец света, прогресса или знания. Над таким скоро не просто будут смеяться. Их будут бить в лицо.
Мир, оказывается, и не съезжал с «целостного знания», только прятал либо свою религиозность, либо свою политическую ангажированность. Вот великий химик не прячет – сегодня он был бы не только государственником, но и империалистом.
Нам, химикам, многое в истекшие годы выбило общественный пафос и не ограниченные химией мозги, хотя нам, химикам, есть многое что рассказать, пока очередной партийный призыв обнаружит, что и он «разговаривает прозой». Во-первых, можно ли быть империалистом, не думая про уголь и керосин? Во-вторых, надо ли быть обязательно империалистом, зная, что агрессивные зомби вроде «Великой Румынии», «Великой Финляндии», восстановленной Речи Посполитой, были продуктами юношеского национализма и немедленно закончились вместе с нацизмом, чтобы начаться теперь, в дни рискованной игры с антирусским национализмом?
Константин Батынков. Проект «Москва», 2008
Спасибо «шеф-редактору» – следя и за внутренней оснасткой тома бессмысленными черно-белыми фотогравюрами, не помешала она появиться внутри книжной гантели саморучно составленной библиографии Менделеева, некоторым мемуарам, приложениям и т. п. Вот в автобиографической хронике пишет химик за год до смерти: «Стал приводить книги и бумаги в порядок – это очень меня занимает перед смертью, хотя чувствую себя бодро… Денежные дела привел в порядок, как к смерти».
От такого веет редкостной вечностью, которая на деле всегда – вовсе не камень какой-нибудь или таблица элементов, а знающая свой маневр личность. До которой всегда легко дотянуться. Вот, например, мемуарящий в книге сотрудник и увековечиватель Менделеева А. В. Скворцов (1885–1961) – до смерти директор его музея, или старшая дочь химика О. Д. Менделеева-Триродова (1868–1950) – я совсем немного не дожил до них в обратную сторону. А старшей дочери Плеханова, лично знавшей Энгельса, Лидии (1881–1978) – просто современник.
И. Л. Волчкевич. Очерки истории Московского Высшего технического училища. М.: Машиностроение, 2000. 240 с. Тираж 2000 экз.
Запоздалые покупки, как поздние дети: им вменяешь столько надежд, что выдержать и оправдать они просто не в силах. Мало ли, что ты там прежде не дочитал или не долюбил – каждый хочет быть дураком собственного производства. Эта книга – память о короткой жизни в Новом Лефортово – по эту сторону от реки Яузы, за которой, на той стороне уже начинаются казармы и прочий немецкий быт. По эту же сторону – Бауманский технический университет (он же в прежнее время – Высшее техническое училище), следы русско-немецкой жизни в названиях переулков Гарднеровский, Аптекарский, Бригадирский, Старокирочный (кирха не сохранилась), Разгуляй, Старая и Новая Басманная… В конце века здесь – гремучая смесь пролетариата ткацких фабрик и технической интеллигенции. Возле морга и ныне – бывшее здание полицейской части – аккурат к месту событий. Внутри этой смеси – мой юный герой, преподаватель этого Технического училища молодой марксист-экономист Сергей Николаевич Булгаков…
Константин Батынков. Проект «Москва», 2008
Чуть рядом – Елоховский собор, в сторону Разгуляя – сквер имени Николая Баумана (за спиной – метро Бауманская, улица такая же), раннего большевика, убитого поблизости в 1905 году «черносотенцами». Бауман остается для меня светлым человеком, когда борьба за свободу еще не очень различала Милюкова и Сталина, министра Святопол-Мирского и провокатора Азефа. Освободительный консенсус словно освящал и провокатора, и бюрократа, и бомбиста, и абрека, и такого, кажется, ничем не омраченного красавца, бородатого русского немца – Николая Эрнестовича Баумана. Помню, в одном из архивов без нужды, из сочувствия, заказал посмотреть личные письма Баумана – и ничего не понял, сплошь конспиративный текст. Но рука живая.
И вот прибыл, выйдя из Таганской тюрьмы, в 1905 году в Новое Лефортово к местному пролетариату Бауман. На следующий день после царского манифеста 17 октября, даровавшего гражданские свободы, он, как полагается, выступил на митинге во дворе училища и, организовывая массы, с красным знаменем в руках подошел к группе рабочих: здесь, на перекрестке Немецкой (ныне – Бауманской) улицы и Денисовского переулка и убили его. Пропагандисты быстро заклеймили убийством кровавый режим – обвинение «черносотенцев» вошло в подкорку.
Про 1905 год еще одно метро – Добрынинское (в честь революционера Добрынина), но оформлено оно так, такими древнерусскими архитектурными закомарами, что всяк человек думает, что дело не в революционере Добрынине, а минимум – в Добрыне Никитиче. Вот кажется, что все-таки 1905 год – при всей нынешней фальшивой, безмозглой и невежественной царелюбивой ревизии – это еще не испорченная практическим социализмом и либерализмом свобода, за которой в русской культуре обнаруживаются не только Некрасов и Толстой, но и романтическая былинность.
Многие мемуаристы свидетельствуют, что похороны Баумана – здесь же, с выносом гроба из здания училища (где, кстати, заседал и московский комитет большевиков), стали вторым главным общественным событием 1905 года после расстрелянного «кровавого воскресения» в январе 1905: но тогда на поклон к царю во главе с Талоном в Петербурге вышло юо тысяч человек, а теперь в Москве, в октябре 1905, на похороны «убиенного от царя» – до 300 тысяч. Паралич власти был таков, что полиция согласилась с переговорщиками, что революционные «общественники» сами будут охранять демонстрацию без полиции, чтобы оная не «раздражала» траур. Так и было сделано.
Что же книга? Про Булгакова в ней ничего нет. Но эта купленная мной история (Бауманского) Технического училища, помимо экспозиции жизни учебного заведения с 1763 по 1945 год – дает прямой ответ на легенду об убийстве Баумана. Его убил не «черносотенец», а полноценный рабочий местной фабрики Щаповой, кучковавшийся с собутыльниками на том самом углу Денисовского и Немецкой, товарищ Михальчук – в висок водопроводной трубой. Незадолго до этого Михальчук подошел к хозяину булочной (не в ней ли, на углу Немецкой и соседнего Аптекарского я пять лет покупал хлеб) и сказал: «Дай-ка мне на полбутылку водки, я за твое здоровье выпью, да еще какого-нибудь забастовщика убью». Булочник дал ему 20 копеек. «За вычетом стоимости выпивки можно считать, что Михальчук убил Баумана всего за несколько копеек», – калькулирует И. Л. Волчкевич.
А. В. Малинов. Павел Гаврилович Виноградов: Социально-историческая и методологическая концепция. СПб, 2005. 216 с. Тираж 500 экз.
П. Г. Виноградов (1854–1925) – формально историк-медиевист, но нельзя было быть в старой России историком, не будучи историком права, методологом, публицистом и критиком одновременно. Вот он и не был таким, а был синтетическим гуманитарным энциклопедистом, живой иконой европейского знания уже в конце XIX века. Вокруг него строили куры молодые оппозиционеры и революционеры, его личным секретарем был другой классик – М. О. Гершензон (пользуясь именно этим, П. Б. Струве заманивал Виноградова в свой марксистский журнал). Именно в переписке с классическим социал-либералом В. И. Вернадским Виноградов жестко провел грань между собой и проектом идеалистов в 1902 году. Планируя сам передать в «Проблемы идеализма» свою статью «О научном мировоззрении», которую высоко оценили С. Н. Трубецкой и П. И. Новгородцев,[4 - Б. И. Вернадский. О научном мировоззрении // Вопросы философии и психологии. 1902, Кн. 65. С, 1409–1465.] Вернадский в письмах Виноградову выступил в защиту некоторого надпозитивного идеализма – и получил от него тяжеловесный афронт и подтверждение правоты едва ли не архаичного Конта вкупе с осуждением всяческого идеализма как скользкой дороги к мистицизму и политической реакции. Не случайно треть объема «Проблем идеализма» поглотила монография другого великого историка А. С. Лаппо-Данилевского – оного Конта преодолевавшая силами самого Конта. Вот гремучая смесь противоречий.
И трудна задача А. В. Малинова – написать книгу не об арьергардном бойце позитивизма, классике русской англомании, квинтэссенции мотивов и традиций, а – вопреки всему – написать бесконфликтный твердокаменный текст, притягивая за уши один хронологический пласт к другому (или, наоборот, глубокомысленно реферируя: «Там же. С. 1; Там же. С. 2; Там же. С. 3; Там же. С. 4; Там же. С. 5»), текст, жестокосердно разбитый на «методологию», «правоведение», «социально-историческую концепцию», пресного «русского европейца» и даже «русскую проблему». И решил эту безумную задачу Малинов! Убил классика. Удалось то, что не удалось многим его современным предшественникам, посвятившим изрядные труды Виноградову.
Внутри каждого раздела книги Малинова – практически вне эволюции и вне интеллектуального контекста выстроена якобы «внутренняя логика» виноградовского знания. Писатели так привыкли живописать «систему творчества Довнар-Запольского», что и мысли допустить не могут, что системы такой нет или что она родилась, да не устояла. Или что на каждый предмет у автора была своя система. «Вторя идее многофакторности и как бы продолжая ее логику, прогресс и тенденции исторического движения рассматриваются как развитие в одном направлении нескольких базовых социально-исторических характеристик… „Не будем придираться к «тенденциям… в одном направлении“, но разве во время Виноградова, начиная с его почти одногодка П. Н. Милюкова, кто-то думал иначе? Нельзя ж пропедевтику выдавать за систему, свой реферат – за чужую систему. У историков найти сформулированную систему непросто – особенно политически активных и позитивистски сдержанных.
И политическая «русская проблема» с ее апологией, страшно сказать, «великодушного идеализма» от Толстого и Вл. Соловьева – у ставшего классиком английской науки медиевиста Виноградова, вынужденного эмигрировать из России еще от царя, но от большевиков уже перешедшего в британское подданство, похоже, действительно легко отчленима от его науки.
«Книга пережила интернет, самопринт, Librie и прочие eBooks… Ожидается, что она переживет и Kindle (от слова „возбуждать“, „воодушевлять“), который предлагает Amazon за 400 у. е. (против 280 у. е. за Sony Reader). Технология Kindle позволяет загрузку книг, журналов и газет, минуя компьютер. К нынешнему моменту в немедленном доступе находятся более 90000 книг, журналов, газет и блогов. За сумму от 10 до 15 у. е. в месяц можно подписаться, к примеру, на New York Times, Wall Street Journal, Monde или Frankfurter Allgemeine. Ряд технических и дизайнерских изъянов позволяет, однако, «надеяться», что слухи о бесповоротной смерти книги и на сей раз окажутся преувеличенными.
ПОКУПКИ
Книжные покупки Модеста Колерова[2 - Продолжение, Начало см.: Книжные покупки // Логос. М., 2000, N 5/6(26) С. 176–187; Книжные покупки – 2 // Логос. М., 2001, № 2 (28), С. 203–214.]
Да, читать просто некогда. Но плох тот культурный человек, кто не покупает книг, исходя вот бы хоть из самых фантастических предположений о возможности чтения: будь то надежда на пенсионный покой или предпостельный досуг, на молниеносную справку или езду в метро-поезде-самолете. Плох и тот, кто, покупая, не прореживает своих домашних пространств, вычищая из них дубликаты, цензурованные советские полуиздания, мусор, историографическую плесень, книги с дарственными надписями тех, о ком благодарная память иссякла, истощив нужду в хранении памятных знаков.
Но ведь и с рецензиями просто беда! Держа в уме правильный стандарт того, какой должна быть полноценная академическая или культур-критическая рецензия, рискуешь остаться вообще без рецензий: ибо почти никто не способен теперь, рецензируя книгу, дать краткий отчет о ее литературных и издательских предшественниках, бегло набросать очерк соответствующей дисциплины в ее буйном развитии за последние десять лет. Не способен кратко очертить творческий путь автора вообще и в избранной теме в частности, еще короче остановившись на всех предыдущих рецензиях на его труды и признании особого вклада автора в тематику и проблематику, Глубоко и подробно внедриться в главные сюжеты сочинения, поспорить по поводу каждого, найти уйму блох и описок, привлечь к полемическим исправлениям новые заграничные исследования и свои собственные разыскания, Разругать вдрызг, Похвалить неумеренно. Изящною фразой утешить издателя за хороший дизайн, Посетовать на тираж, катастрофически малый в сравнении с трудами неприятеля, Никто так не может теперь, Потому и мне не стоит пытаться.
Уже не спорят, что научная истина не устанавливается голосованием и большинством голосов, Почти все уже согласны, что таков же и механизм установления истины сексуальной, Но вот с рыночной истиной – непреодолимая беда. Не считать же рыночной правдой большое число экземпляров книги «А», проданной по цене спичечного коробка после рекламной кампании с бюджетом в несколько миллионов долларов, Покупатель – всегда жертва. И не всегда жертва рекламы. С книгами получается так, что их покупатель чаще всего становится жертвой себя самого, своих воспоминаний, ролевых игр, глупости. Так и ходишь вдоль витрин, шарахаясь от своих собственных отражений.
Модест и Филипп Кколеровы. Книжная полка, 2006–2008
Нерушимый союз Берии и Сахарова
Убийство Баумана
Джентльмен без лица
Эмиграция против воли
Химия на посту
Философия на службе
Никита Петров, Марк Янсен. «Сталинский питомец» – Николай Ежов. М., 2008. 447 с. Тираж 2000 экз.
Не успела выйти в свет полноценная биография самого известного и результативного (по количеству расстрелянных) сталинского палача, секретаря ЦК вкп(б), главы НКВД Николая Ежова,[3 - Алексей Павлюков. Ежов: биография. М., 2007.] как в конкуренцию ей появился описываемый труд. И я, признаться, полгода останавливал себя от поверхностного чтения: ибо и классик-исследователь сталинизма Н. Петров и тоже заслуженный исследователь грустной судьбы оппозиции в СССР М. Янсен, казалось, вряд ли могли значительно дополнить сделанное Павлюковым, столь же фундаментально исполненное по архивам. Главным у Павлюкова, помнится, было детальное разоблачение лжи Ежова о своей революционно-пролетарской биографии (особенно вокруг Путиловской стачки) и описание механизма эскалации Большого Террора 1937
1938 годов. Павлюков (и Петров с Янсеном) солидарно отбросили лишнюю брезгливость в отношении политически фальсифицированных «дел» и «допросов», в которых Сталин конструировал разнообразные подпольные заговоры. И правильно сделали: кроме легко вычисляемой политической лжи, в них изобильны предельно откровенные данные о кланах, связях, образе досуга и службы властных большевиков.
Теперь могу сказать осмысленно: Петров и Янсен тоже не проиграли. Они, конечно, удвоили объем своего труда за счет приложенных документов, об осмысленности некоторых из коих можно спорить, но вменять им в вину такое удвоение нельзя. Оные господа, идя самостоятельно, но следом, прошли свои путь не зря.
Они хирургически описали восхождение, апогей и механизм заката доверенного сталинского палача (этот механизм у них прописан рельефнее, чем у Павлюкова). Плоды этой карьеры в цифрах: в Большом Терроре с начала 1937 по январь 1939 было репрессировано около 1500000 человек, из них 700000 расстреляно, 800000 отправлены в лагеря. Хотя по первоначальному плану Сталина стояла задача арестовать 270000 и расстрелять из них 76000. Параноидальная логика зачистки в те же годы районов будущей войны от национальных «пятых колонн» (поляков, немцев, латышей и др.) вылилась в то, что в таких «национальных операциях» пропорция убитых была уже иной: 250000 расстрелянных на 340000 арестованных (из общего числа жертв Большого Террора). Нет сомнений: «палачи сами становились жертвами», и страдания палачей и вдохновителей палачей из «Дома на набережной» от рук своих сослуживцев затмили национальную трагедию 1937 года. Это несоответствие литературного плача старых большевиков и их потомков масштабам террора неизменно подпитывает ревизионизм адвокатов Сталина, равно как и его ненавистников. Но совершаемый авторами простой подсчет – из всех репрессированных в 1937
19338 гг. было всего 10% членов ВКП(б) – посрамляет тех и других: как бы ни были искусительны формулы о том, что посредством Сталина-Ежова «революция пожрала своих отцов и детей» (или что именно тогда ЧК в самоистреблении покончила со своей латышско-еврейской историей, превратившись в «национальную силу»), для народа цена этих межпалаческих игр десятикратно выше. В чем и состоит наука: историческая и моральная.
Существует и иной исследовательский пункт, в избытке представленный в ревизионистской литературе: что-де, либо НКВД увлеклось, либо местные партийные органы увлеклись террором (они часто требовали больше расстрелов, постоянно увеличивая «лимиты» НКВД), сводя свои межведомственные счеты. Петров и Янсен дают этому краткое опровержение: «Расхожий вывод о том, что в 1937
1938 годах органы НКВД вышли из-под контроля партии, не является обоснованным» и доказывают, что все принципиальное, в том числе персональные расстрельные списки на 39000 человек, контролировалось лично партийным вождем Сталиным (да и, напомню, Ежов параллельно был секретарем ЦК), Это указание на личную унию НКВД и ВКП (б) – Сталина и его орудия Ежова, тем не менее, не звучит убедительно. Диктатор Сталин не может выступать ведомственным представителем партийной вертикали в отношении вертикали НКВД, Точнее сказать, явленная в этой вертикали центральная власть с избытком истребила и потенциальную военную оппозицию, и самостоятельность промышленных и партийных, центральных и местных кланов. Правда, ненадолго.
Описывая личность Ежова, авторы из приведенного ими материала также могли сделать поверхностный вывод об особой связи Ежова с советской культурной элитой: ведь постоянными гостями домашнего салона жены Н. И. Ежова в 1930-е гг. были Лев Кассиль, Самуил Маршак, Исаак Бабель, Леонид Утесов, близко она общалась с Н. Я. Мандельштам. Но сей вывод о Ежове они не сделали. Это мы можем кое-что записать в свои знания о подсоветской элите, не чуравшейся не только теоретически-философских, но и практических палачей.
В этом контексте особый цвет приобретает детально развернутое авторами наблюдение: Ежов – этот некогда тихий и участливый карлик, ставший садистом – последовательно уничтожал всех, кому в прошлом был чем-то обязан, кто помнил его другим, кто напоминал ему о матери-литовке и деде-поляке (Ежов свободно, как на русском, говорил на польском и литовском). Авторы не могут дать иного объяснения этому чуду, кроме как назвать его полноценным продуктом «сталинской тоталитарной, террористической и бюрократической системы». Объяснение корректное, но какое-то беззубое.
Предшественник Ежова в НКВД Ягода и добрый его знакомец, теоретик массового насилия Бухарин под следствием, как известно, особо выговаривали себе сохранение жизни в обмен на любое признание. Авторы приводят свидетельство о том, как экзистенциально заставил их пережить это Ежов: «В присутствии Ежова Ягоду расстреливали последним, а до этого его и Бухарина посадили на стулья и заставили смотреть, как приводится в исполнение приговор в отношении других осужденных». В свою очередь, заподозренный в содействии шпионажу и, наверное, более не столь необходимый как палач, Ежов тоже просил сохранить ему жизнь.
Авторы новаторски вычисляют апогей политического влияния Ежова в мае 1938 года, буквально за два месяца до начала его падения, когда в политической риторике СССР он стал третьим по влиянию после Сталина и Молотова (зри, политический бюрократ, на свою судьбу). Но вот чего не хватает этому исследованию, так это внятного контекста. Сужу об этом не с точки зрения дикого читателя, а с позиции тоже-ревизиониста: например, звучит в описании пути Ежова слепой термин «правая оппозиция» (истребляемая НКВД), но ни слова не только о том, кто был зачислен в нее Сталиным (это можно почерпнуть и из «Краткого курса истории ВКП(б)»), но и том, когда именно в идее и практике возник сам проект ее истребления, что хронологически важно для оценки востребованности того же Ежова. Так здесь и во всем – минимум контекста, максимум сухой линейной судьбы.
Два слова об издателях: Павлюкова издал Захаров, Петрова-Янсена – РОССПЭН вместе с Фондом Ельцина: в совместной хорошей серии полноценных исследований по истории сталинизма (они успешно дополняют документальную сталинскую серию фонда «Демократия», начатую А. Н. Яковлевым, и даже уже затмевают ее).
Д. И. Менделеев. Познание России. Заветные мысли. М.: Эксмо, 2008. 688 с. Тираж 5000.
«Шеф-редактор проекта» издательства «Эксмо» Маргарита Приз – учинившая титанический труд соединить в одной книге две классические работы русского энциклопедиста, умышленно переврав название одной из них («К познанию России»), и столь же титанически уснастив переплет тома пошлой развлекухой «а-ла рюсс» из репродукций хороших русских художников, превратив их в мутные цветастые клейма, – сделала все-таки полезную работу.
Для мелкой справки искал памятные мне крохотные переиздания «К познанию России» начала 1990-х годов, толкался в книжных супермаркетах, унавоженных тем, чем они унавожены обычно, торкался в редкие умственные магазины в тайной надежде. Напрасно. Теперь «шеф-редактор», похоже, сама того не зная за занавесками «а-ла рюсс», дает публике двухкилограммовую книжную гирю. В ней – редкостный для нынешнего времени экономический и публицистический пафос великого химика, который ударился оземь, – и в свободное от гениальности время придумал не только стандартную русскую водку, о чем алкорынок нас просветил, но и прямо проник в задачи нефтедобычи, рассчитал плотность населения и производительных сил, начертил новый проект административного деления России, едва ли не на смертном одре пророчески предупредил: смотри государство в Сибирь, делай там свой государственный центр (возле Омска), иначе потеряешь больше, чем можешь позволить себе потерять. Менделееву было легко разговаривать и конфликтовать с сильными: на что ни посмотрит, всюду видится ему новый стратегический разворот – будь то керосин, будь то уголь, будь плодородные почвы. Младший современник Менделеева, правый публицист (расстрелянный за публицистику ранними большевиками) Михаил Меньшиков итожил в «Памяти Д. И. Менделеева» (1907): «отрываясь от лаборатории, писал о стеклянном производстве и маслобойном деле, о технике земледелия, о муке и крахмале, о вазелине и винокурении, о химической технологии», «о школе для учителей и поднятии уровня Азовского моря, погружался в таможенный тариф и в колоссальный материал переписи», «ездил в Закавказье, в Пенсильванию изучать нефть, в Донецкую область изучать уголь, мечтал об открытии Северного полюса, летал на воздушном шаре и изучал спиритизм»…
Интегральный пафос тогдашнего позитивного, естественно-научного знания и одновременно государственного и экономического проектирования, близкий вот хоть и В. И. Вернадскому, – конечно, плоть от плоти XIX века, а то и глубже, но именно и на нем тоже стоит то исторически неотменимое в сталинизме и послесталинском коммунизме, что напрямую довело Вернадского из XIX века в 1942 год – число инициаторов советского атомного проекта.
Современные умные уже не хотят чувствовать за собой дыхание истории и энциклопедизма. Стоит им увидеть в телекартинке подряд несколько новостей на избранную анонимным редактором тему – как в мозгу их уже готова очередная всемирно-историческая теория (со сроком годности не более 10 лет). Уже готов очередной «флюс» вроде Фукуямы (Закария, Ханна), объявляющим, глядя в зеркало в припадке американского солипсизма, новый конец света, прогресса или знания. Над таким скоро не просто будут смеяться. Их будут бить в лицо.
Мир, оказывается, и не съезжал с «целостного знания», только прятал либо свою религиозность, либо свою политическую ангажированность. Вот великий химик не прячет – сегодня он был бы не только государственником, но и империалистом.
Нам, химикам, многое в истекшие годы выбило общественный пафос и не ограниченные химией мозги, хотя нам, химикам, есть многое что рассказать, пока очередной партийный призыв обнаружит, что и он «разговаривает прозой». Во-первых, можно ли быть империалистом, не думая про уголь и керосин? Во-вторых, надо ли быть обязательно империалистом, зная, что агрессивные зомби вроде «Великой Румынии», «Великой Финляндии», восстановленной Речи Посполитой, были продуктами юношеского национализма и немедленно закончились вместе с нацизмом, чтобы начаться теперь, в дни рискованной игры с антирусским национализмом?
Константин Батынков. Проект «Москва», 2008
Спасибо «шеф-редактору» – следя и за внутренней оснасткой тома бессмысленными черно-белыми фотогравюрами, не помешала она появиться внутри книжной гантели саморучно составленной библиографии Менделеева, некоторым мемуарам, приложениям и т. п. Вот в автобиографической хронике пишет химик за год до смерти: «Стал приводить книги и бумаги в порядок – это очень меня занимает перед смертью, хотя чувствую себя бодро… Денежные дела привел в порядок, как к смерти».
От такого веет редкостной вечностью, которая на деле всегда – вовсе не камень какой-нибудь или таблица элементов, а знающая свой маневр личность. До которой всегда легко дотянуться. Вот, например, мемуарящий в книге сотрудник и увековечиватель Менделеева А. В. Скворцов (1885–1961) – до смерти директор его музея, или старшая дочь химика О. Д. Менделеева-Триродова (1868–1950) – я совсем немного не дожил до них в обратную сторону. А старшей дочери Плеханова, лично знавшей Энгельса, Лидии (1881–1978) – просто современник.
И. Л. Волчкевич. Очерки истории Московского Высшего технического училища. М.: Машиностроение, 2000. 240 с. Тираж 2000 экз.
Запоздалые покупки, как поздние дети: им вменяешь столько надежд, что выдержать и оправдать они просто не в силах. Мало ли, что ты там прежде не дочитал или не долюбил – каждый хочет быть дураком собственного производства. Эта книга – память о короткой жизни в Новом Лефортово – по эту сторону от реки Яузы, за которой, на той стороне уже начинаются казармы и прочий немецкий быт. По эту же сторону – Бауманский технический университет (он же в прежнее время – Высшее техническое училище), следы русско-немецкой жизни в названиях переулков Гарднеровский, Аптекарский, Бригадирский, Старокирочный (кирха не сохранилась), Разгуляй, Старая и Новая Басманная… В конце века здесь – гремучая смесь пролетариата ткацких фабрик и технической интеллигенции. Возле морга и ныне – бывшее здание полицейской части – аккурат к месту событий. Внутри этой смеси – мой юный герой, преподаватель этого Технического училища молодой марксист-экономист Сергей Николаевич Булгаков…
Константин Батынков. Проект «Москва», 2008
Чуть рядом – Елоховский собор, в сторону Разгуляя – сквер имени Николая Баумана (за спиной – метро Бауманская, улица такая же), раннего большевика, убитого поблизости в 1905 году «черносотенцами». Бауман остается для меня светлым человеком, когда борьба за свободу еще не очень различала Милюкова и Сталина, министра Святопол-Мирского и провокатора Азефа. Освободительный консенсус словно освящал и провокатора, и бюрократа, и бомбиста, и абрека, и такого, кажется, ничем не омраченного красавца, бородатого русского немца – Николая Эрнестовича Баумана. Помню, в одном из архивов без нужды, из сочувствия, заказал посмотреть личные письма Баумана – и ничего не понял, сплошь конспиративный текст. Но рука живая.
И вот прибыл, выйдя из Таганской тюрьмы, в 1905 году в Новое Лефортово к местному пролетариату Бауман. На следующий день после царского манифеста 17 октября, даровавшего гражданские свободы, он, как полагается, выступил на митинге во дворе училища и, организовывая массы, с красным знаменем в руках подошел к группе рабочих: здесь, на перекрестке Немецкой (ныне – Бауманской) улицы и Денисовского переулка и убили его. Пропагандисты быстро заклеймили убийством кровавый режим – обвинение «черносотенцев» вошло в подкорку.
Про 1905 год еще одно метро – Добрынинское (в честь революционера Добрынина), но оформлено оно так, такими древнерусскими архитектурными закомарами, что всяк человек думает, что дело не в революционере Добрынине, а минимум – в Добрыне Никитиче. Вот кажется, что все-таки 1905 год – при всей нынешней фальшивой, безмозглой и невежественной царелюбивой ревизии – это еще не испорченная практическим социализмом и либерализмом свобода, за которой в русской культуре обнаруживаются не только Некрасов и Толстой, но и романтическая былинность.
Многие мемуаристы свидетельствуют, что похороны Баумана – здесь же, с выносом гроба из здания училища (где, кстати, заседал и московский комитет большевиков), стали вторым главным общественным событием 1905 года после расстрелянного «кровавого воскресения» в январе 1905: но тогда на поклон к царю во главе с Талоном в Петербурге вышло юо тысяч человек, а теперь в Москве, в октябре 1905, на похороны «убиенного от царя» – до 300 тысяч. Паралич власти был таков, что полиция согласилась с переговорщиками, что революционные «общественники» сами будут охранять демонстрацию без полиции, чтобы оная не «раздражала» траур. Так и было сделано.
Что же книга? Про Булгакова в ней ничего нет. Но эта купленная мной история (Бауманского) Технического училища, помимо экспозиции жизни учебного заведения с 1763 по 1945 год – дает прямой ответ на легенду об убийстве Баумана. Его убил не «черносотенец», а полноценный рабочий местной фабрики Щаповой, кучковавшийся с собутыльниками на том самом углу Денисовского и Немецкой, товарищ Михальчук – в висок водопроводной трубой. Незадолго до этого Михальчук подошел к хозяину булочной (не в ней ли, на углу Немецкой и соседнего Аптекарского я пять лет покупал хлеб) и сказал: «Дай-ка мне на полбутылку водки, я за твое здоровье выпью, да еще какого-нибудь забастовщика убью». Булочник дал ему 20 копеек. «За вычетом стоимости выпивки можно считать, что Михальчук убил Баумана всего за несколько копеек», – калькулирует И. Л. Волчкевич.
А. В. Малинов. Павел Гаврилович Виноградов: Социально-историческая и методологическая концепция. СПб, 2005. 216 с. Тираж 500 экз.
П. Г. Виноградов (1854–1925) – формально историк-медиевист, но нельзя было быть в старой России историком, не будучи историком права, методологом, публицистом и критиком одновременно. Вот он и не был таким, а был синтетическим гуманитарным энциклопедистом, живой иконой европейского знания уже в конце XIX века. Вокруг него строили куры молодые оппозиционеры и революционеры, его личным секретарем был другой классик – М. О. Гершензон (пользуясь именно этим, П. Б. Струве заманивал Виноградова в свой марксистский журнал). Именно в переписке с классическим социал-либералом В. И. Вернадским Виноградов жестко провел грань между собой и проектом идеалистов в 1902 году. Планируя сам передать в «Проблемы идеализма» свою статью «О научном мировоззрении», которую высоко оценили С. Н. Трубецкой и П. И. Новгородцев,[4 - Б. И. Вернадский. О научном мировоззрении // Вопросы философии и психологии. 1902, Кн. 65. С, 1409–1465.] Вернадский в письмах Виноградову выступил в защиту некоторого надпозитивного идеализма – и получил от него тяжеловесный афронт и подтверждение правоты едва ли не архаичного Конта вкупе с осуждением всяческого идеализма как скользкой дороги к мистицизму и политической реакции. Не случайно треть объема «Проблем идеализма» поглотила монография другого великого историка А. С. Лаппо-Данилевского – оного Конта преодолевавшая силами самого Конта. Вот гремучая смесь противоречий.
И трудна задача А. В. Малинова – написать книгу не об арьергардном бойце позитивизма, классике русской англомании, квинтэссенции мотивов и традиций, а – вопреки всему – написать бесконфликтный твердокаменный текст, притягивая за уши один хронологический пласт к другому (или, наоборот, глубокомысленно реферируя: «Там же. С. 1; Там же. С. 2; Там же. С. 3; Там же. С. 4; Там же. С. 5»), текст, жестокосердно разбитый на «методологию», «правоведение», «социально-историческую концепцию», пресного «русского европейца» и даже «русскую проблему». И решил эту безумную задачу Малинов! Убил классика. Удалось то, что не удалось многим его современным предшественникам, посвятившим изрядные труды Виноградову.
Внутри каждого раздела книги Малинова – практически вне эволюции и вне интеллектуального контекста выстроена якобы «внутренняя логика» виноградовского знания. Писатели так привыкли живописать «систему творчества Довнар-Запольского», что и мысли допустить не могут, что системы такой нет или что она родилась, да не устояла. Или что на каждый предмет у автора была своя система. «Вторя идее многофакторности и как бы продолжая ее логику, прогресс и тенденции исторического движения рассматриваются как развитие в одном направлении нескольких базовых социально-исторических характеристик… „Не будем придираться к «тенденциям… в одном направлении“, но разве во время Виноградова, начиная с его почти одногодка П. Н. Милюкова, кто-то думал иначе? Нельзя ж пропедевтику выдавать за систему, свой реферат – за чужую систему. У историков найти сформулированную систему непросто – особенно политически активных и позитивистски сдержанных.
И политическая «русская проблема» с ее апологией, страшно сказать, «великодушного идеализма» от Толстого и Вл. Соловьева – у ставшего классиком английской науки медиевиста Виноградова, вынужденного эмигрировать из России еще от царя, но от большевиков уже перешедшего в британское подданство, похоже, действительно легко отчленима от его науки.