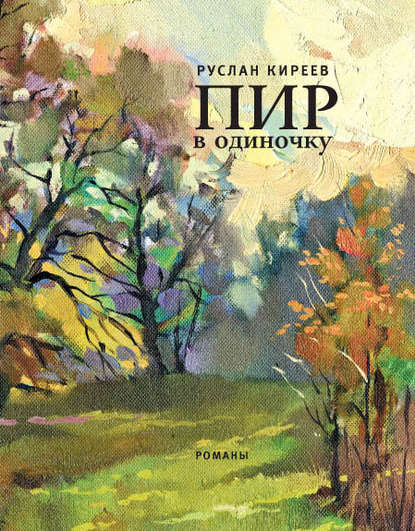По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пир в одиночку (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тогда изволь! – И за бумажником лезет, но приятель покачивает отрицательно головой.
– Они ведь приехали уже…
– И звонили, – подхватывает развеселившийся атташе. – С Ленинградского вокзала.
Мастер дизайна спрыгивает с витрины – упругий, как мячик, и, как мячик, бесшумный. Вот разве что не подскакивает, а словно бы приклеивается к выложенному плитками полу.
– Представь себе, с Ленинградского! А вчера я звонил. И позавчера… А теперь что? Прикажешь объявить: пардон, девочки, все отменяется, нынче у моего друга более важное торжество?
– Во-первых, – мягко уточняет профессор, – не торжество. А во-вторых, действительно важное.
Сунув руки в вельветовые кармашки, художник подымается на носки – невысокий, зато упругий, жилистый, в затвердевшей, как кольчуга, замше. В глазах с тяжелыми надбровьями (женщины любят такие) играет зеленый огонь.
– Ты прав, дядя. Три-a чмокнул бы тебя в лоб.
– А ты?
– А я – старый, задрипанный потаскун, которому не за бабами волочиться, а пить кефир. Что я и делаю.
– Вижу… На стремяночке стоит.
– То не кефир. То молоко за вредность… Итак, что прикажешь сообщить ленинградским мадоннам?
Сам же пружинится, растет – дымок, дымок курится над раскалившейся головой. Мой пожарник, остужая, ласково обнимает приятеля.
– Ну, будет, землячок, будет. Что-нибудь да скумекаем. В котором часу у нас?
Пружина замирает, но не расслабляется, ждет.
– Не валяй дурака. Ты отлично помнишь: в восемь, у «Скоморохов».
– Помню, землячок, все помню. Только, Христа ради, не дымись. А то сгоришь, как Три-a, и мне без тебя будет скучно.
Вот теперь расслабился.
– Значит, все, как условились?
– Разумеется! Ты ведь знаешь – я человек надежный.
– Еще бы! – Опал, обмяк, и звонкая кольчуга превратилась опять в тихую замшу. – Изучил как-нибудь за тридцать лет.
За тридцать три! В сентябре, уточняю (секретарь все-таки), исполнилось тридцать три, как увидели друг друга. Сидели, безымянные, в заднем ряду – бабушка Рафаэль, устанавливая гипсовый бюст, предложила еще перебраться поближе.
Отказались… Пусть другие поближе – им и здесь хорошо. Смолоду уступать умели – и уступать и отступать, что хоть и не совсем одна и то же (теоретизировал впоследствии оформитель «Кашалота»), но – родственно.
– А Три-a? Может, – осеняет творческого человека, – на кладбище смотаемся? Прямо сейчас? Ты на колесах?
О, великое искусство отступления! О фельдмаршал Кутузов! Не зря кольчугой чуть что оборачивается замша на груди – Комбинезон еще расшибет об нее лоб.
– Смотаемся. Только не сегодня. Через двадцать семь минут, – на часы глядит, – у меня Ученый совет.
– А после?
– После я должен заскочить в одно место. Тоже к вдове, кстати говоря.
– Молодой?
– Относительно. Восьмой десяток разменяла. Славная, между прочим, старуха. – Не без некоторого пафоса, что означает: не иронизируй, землячок! Это серьезно. – Кукурузка-то зачем? – кивает на желтые стебли. – Для хижины рыбака?
Дизайнер уклоняется от ответа – секрет мастера. Все в дело идет: пряжки для женских поясов, погоны, деревянные катушки из-под ниток, пластмассовые разноцветные расчески, консервные крышки – как из белой жести, так и желтой, шифер, битое стекло и целехонькие бутылки. Другие профессионалы канючат: вынь да положь им оформительского деликатеса, желательно импортного, а фельдмаршал обходится отечественным мусором. (За исключением, разумеется, собственной квартиры.) Тем заковыристей его антуражи. Тем ошеломительней витрины и эффектней панно, не говоря уже о прохладной, с крашеными полами террассе в Грушевом Цвету, которую друг юности – в порядке презента на дачное новоселье – загримировал под кавказскую саклю. Кинжал, подковы, конское седло… Мой дуралей улыбался да поцокивал языком – почти гарцевал, горец с усиками.
– Итак, в двадцать ноль-ноль, у «Скоморохов».
Горец! Настоящий горец!
Гарцевать-то гарцевал, но не прошло недели, как вся кавказская дребедень переехала на чердак, куда его светлость предпочитает не заглядывать. Слишком темна, видите ли, лестница. Слишком узка… А я ничего, вскарабкался – лишь поскрипывало седло в руках да позвякивали подковы и прочий сценический реквизит. Не люблю театра – да простит меня посланникова супруга. (И дочь тоже.) Не люблю их театра: шкатулка какая-то, искусственный свет, пять-шесть лицедеев… То ли дело – мой, с гигантской сценой на миллион актеров и одним-единственным зрителем!.. Не люблю театра и рафаэльства не люблю – предпочитаю живопись без холста и кисти. Особенно по вечерам, когда разбухшее солнце грузно опускается за макушки сосен, черных на фоне жидкого металла. (Это тебе не золотые кальмары!) Утром – иная подсветка, и сосны иные, тоньше и ниже, будто помолодели за ночь, и иные – как после дождя – запахи, хотя не было никакого дождя, земля суха, лишь на траве и кустарниках блестит роса. По-иному звучат в разреженном воздухе птичьи голоса, и даже усталые комары жалят по-иному, не так больно, а другие насекомые, потяжелее, еще только пробуждаются. Спит и хозяин мой, я один, без надзору, но скоро мой тюремщик продерет глаза. Прыгать начнет, махать руками, приседать, вращать туловищем, а после обливаться, фыркая, ледяной водой… По-иному скрежещут ключи в замках, на которые он, уезжая, запирает меня: вечером, когда открывает, не слышно уже в этих металлических звуках утреннего страха опоздать. (Пятнадцать минут до Ученого совета. Посланник прибавил скорость.)
Я не скучаю, оставаясь. Мне хорошо одному, мне вольно, я чувствую себя в безопасности. Замки надежны – уж я-то знаю, как надежны замки, потому что врезал их собственными руками. (Все три. Но он, лукавец, запирает на два.)
Не просто прибавил скорость – превысил, хотя имел уже неприятность с гаишником. И все равно опаздывает! Не он один – вон с развевающейся сивой бородой шкандыбает на подагрических ногах еще один член Ученого совета… Обогнал Бороду – ну, стервец! – но вспомнил про соглядатая с бинокликом и резко – аж колодки пискнули – затормозил. Перегнувшись, распахнул дверцу. Борода не сразу скумекал, что ему распахнули, но пригляделся, сощурившись, узнал коллегу, широко руками развел.
– Батюшки! Вот удача-то, а! Разрешите воссесть?
– Сочту за честь, Иван Филимонович.
– Ну, спасибочко. Ну, выручили! Я бы, старый хрыч, еще час целый телепался.
Втиснулся, кряхтя громко, охая – точно из незримой паутины выбирался. (Или из собственной бороды.) Посланник захлопнул проворно дверцу, накинул ремень на пассажира.
– О Господи! – запричитал дед, мягко отброшенный на спинку сиденья. – Как в аэроплане… Не опоздаем?
– Опоздаем, Иван Филимонович! Непременно опоздаем.
– Да вы что, дорогуша! Я отродясь не опаздывал.
– Всегда опаздывали, – резвился мой весельчак. (От радости, понимаю я. От радости: доброе дело сделал.)
Старик повернул плешивую голову.
– Неужто всегда? – Потеребил в честной задумчивости бороду, которой еще год назад и в помине не было, к семидесятилетию отрастил, и признался как на духу: – Вы правы, был грех. Был, был, и не раз… Но ведь и вы, – погрозил пальцем, – тоже!
Наговор! Чистой воды наговор – если, конечно, сегодняшней лекции не считать, когда из-за Стрекозки задержался. Но спорить не стал, покаялся:
– И я.
– А ведь аккуратистом были! Бо-олыпим аккуратистом! Я же вас, хороший мой, еще студентиком помню.
– Спасибо, Иван Филимонович.