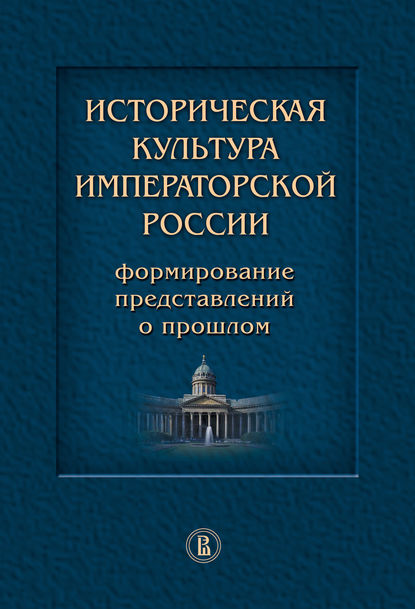По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Историческая культура императорской России. Формирование представлений о прошлом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В этом плане очень любопытны размышления, которыми делится с И.М. Гревсом его ученик П.Б. Шаскольский в письме из Германии: «Лекции – их послушал немного, а на занятия думал ходить, они, кстати, необходимы для моих теоретических занятий: Fabricius начал разбирать источники истории Гракхов, Below разбирал историю немецких городов (в частности, думал сосредоточиться, совсем как Вы в нынешнем году, <на> истории Страсбурга, хотя как раз опровергнуть Hotrechtliche Theorie. Наконец, Meineke начал заниматься моим любимым Великим Курфюрстом. Интересно мне было то, что у них разные системы: у М[ейнеке] чисто реферативная (даже вовсе не читают памятников), у Ф[абрициуса] чтение и комментирование источников (он начал с Аппиана) и наряду с этим чтение рефератов вообще по аграрным вопросам и другим проблемам древней истории; наконец, у Б. исключительно комментирование текстов, но с помощью всеми обязательно прочитываемой по данному вопросу литературы. Сколько успел за короткое время приглядеться, во всех этих способах ведения занятий есть крупные недостатки, хотя они и велись, оговариваюсь, очень интересно. Думаю все-таки, что самая лучшая из виденных мною систем – приблизительно та, которая у Вас удавалась в последние 2 года – с Л[екс] Сал[ика] и францисканством, т. е. в центральном месте чтение текста, с комментированием посредством литературы и попутно (не обязательно каждый раз) с рефератами по вопросам из той же темы. Но если говорить не о системе, а о самих занятиях, то надо сказать, что немецкая […?] сразу видна, и это несомненный плюс в сравнении с петербургскими занятиями. В общем я за короткое время участия в занятиях вынес впечатление, что наши профессора (и Вы, между прочим) безусловно слишком церемонятся со студентами. Конечно, немного смешным кажется, когда профессор во Фрайбурге задает… к следующему разу такую-то страницу текста и прочесть такую-то журнальную статью и главу из книги, и потом в следующий раз вызывает сам по списку участников занятий […] и заставляет прокомментировать несколько строчек. Но что же делать? Этим достигается зато то, что все сидят всю неделю в библиотеке семинария и читают эту журнальную статью или главу, и во всяком случае вечер занятий ни для кого даром не пропадет, п[отому] ч[то] все могут следить за ходом занятий»[442 - ПФА РАН. Ф. 726. Оп. 2. Д. 332. Л. 1–1об.].
Однако одновременно с развитием творческого потенциала семинариев наметилась другая тенденция, которую можно определить как их рутинизацию, т. е. низведение этой формы занятий до уровня каждодневной педагогической рутины и превращение их в средство контроля текущей успеваемости студентов. В общем-то, этот процесс шел параллельно с «вписыванием» семинариев в систему научной подготовки выпускников и определялся, с одной стороны, утверждением их обязательного характера, а с другой – увеличением численности студентов историко-филологических факультетов.
Показателен в этом отношении пример Московского университета. Уже в 1870/71 академическом году здесь «в дополнение» к принятым мерам совершенствования учебной деятельности студентов были «усилены занятия переводами с русского языка на латинский и греческий на двух высших курсах». От студентов, специализировавшихся в славяно-русской филологии, было «постановлено требовать обязательного (курсив наш. – А.А., А.С.) сочинения»[443 - Отчет о состоянии и действиях императорского Московского университета в 1870/71 академическом и 1871 гражданском году. М., 1872. С. 18.]. В 1874/75 году историко-филологический факультет сделал следующий шаг в этом же направлении:
…Имея в виду установить более действенный надзор за практическими занятиями студентов, исходатайствовано разрешение внести в правила условие об обязательности для студентов и сторонних слушателей, не участвовавших в установленных по известному предмету практических занятиях, подвергаться сверх установленных испытаний по этому предмету особым испытаниям письменным[444 - Отчет о состоянии и действиях императорского Московского университета в 1874/75 академическом и 1875 гражданском году. М., 1876. С. 17.].
Тем самым студенты принуждались к посещению семинариев, если они не хотели иметь, по сути, дополнительных письменных экзаменов.
Одновременно с этим происходило увеличение численности студентов историко-филологических факультетов. В Московском университете за последнюю треть XIX века она возросла в 5–6 раз, с примерно 50 учащихся на всех курсах до 250–300 студентов, и продолжала расти, хотя и не такими быстрыми темпами, в начале ХХ века[445 - См. соответствующие разделы «Отчетов о состоянии и действиях императорского Московского университета».]. В Казанском университете в конце XIX века численность учащихся на историко-филологическом факультете была незначительной и колебалась в пределах от 20 до 60 студентов (причем встречались годы, когда было лишь 1–2 выпускника), зато в начале ХХ века произошел резкий скачок – до 126 студентов в 1910 году[446 - См. соответствующие разделы «Годичных актов в императорском Казанском университете». Ср.: Мягков Г.П., Хамматов Ш.С. Н.П. Грацианский: путь в науку // Мир историка: историографический сборник. Вып. 3. Омск, 2007. С. 267.]. Понятно, что большинство из них не помышляло о научной карьере, что лишний раз подчеркивало принудительность для этой части студенчества семинарских занятий. Профессора же volens nolens вынуждены были приспосабливаться к снижающемуся среднему уровню знаний и устремлений студентов, ограничиваясь формированием у них базовых навыков работы с источниками и научной литературой. Думается, что приводимые в «Обозрениях преподавания в историко-филологическом факультете» и «Отчетах» повторяющиеся из года в год темы семинариев и названия пособий для подготовки к ним убедительно свидетельствуют, что рутинизация была результатом перехода к более-менее массовой подготовке выпускников, сопровождавшейся ее стандартизацией. Знаковым событием в этом отношении стало появление в 1913 году русского перевода «Lex Salica», сделанного молодыми казанскими историками в учебных целях[447 - Мягков Г.П., Хамматов Ш.С. Н.П. Грацианский: путь в науку. С. 281.]. Тем самым самостоятельный перевод и толкование оригинала заменялись изучением чужого перевода-интерпретации. Оборотной стороной данного процесса стала имитация исследовательской деятельности определенной частью студентов. Вполне логичным итогом этого оказалось введение обязательных просеминариев и добровольных семинариев при переходе на предметную систему.
Понятно, что некоторые профессора стремились противостоять процессу рутинизации. В этом отношении особенно показательны усилия пионера семинариев В.И. Герье, стремившегося создать систему из нескольких отделений семинариев, нацеленную на формирование преемства исследовательской работы студентов от курса к курсу[448 - См.: Отчет… за 1877 год. С. 18–19; Отчет… за 1878 год. С. 22; Отчет… за 1879 год. С. 25; Отчет… за 1880 год. С. 20–21; Отчет… за 1881 год. С. 19–20; Отчет… за 1882. С. 20; Отчет… за 1883 год. С. 21; Отчет… за 1884 год. С. 22. См. также: Цыганков Д.А. Исследовательские традиции московской и петербургской школ историков. С. 69–70.]. В конечном итоге семинарий, на котором решались преимущественно исследовательские задачи, был вытеснен из университета и стал «домашним» подобием немецкого privatissima, но без оплаты. По этому же пути вслед за учителем пошел П.Г. Виноградов. Не случайно именно их «домашние» семинарии стали основой для формирования научного исторического общества при Московском университете[449 - См. об этом: Богословский М.М. Историография… С. 87; Дневниковые записи М.С. Корелина о П.Н. Милюкове / вст. ст., публ. и ком. А.В. Макушина, П.А. Трибунского // Commentarii de Historia. Электронный периодический журнал исторического ф-та Воронежского гос/ ун-та. 2000 (декабрь). № 2. URL: http (http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/02-07.htm):// (http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/02-07.htm)www (http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/02-07.htm).hist (http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/02-07.htm).vsu (http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/02-07.htm).ru (http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/02-07.htm)/cdh (http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/02-07.htm)/Articles (http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/02-07.htm)/02-07. (http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/02-07.htm)htm (http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/02-07.htm) (дата обращения: 26.09.2011 г.); Письма русских историков (С.Ф. Платонов, П.Н. Милюков) / вст. ст., публ. и ком. В.П. Корзун, А.В. Свешникова, М.А. Мамонтова. Омск, 2003. С. 149–152; Макушин А.В., Трибунский П.А. Павел Николаевич Милюков: труды и дни (1859–1904). Рязань, 2001. С. 81–85; Бон Т.М. Русская историческая наука (1880–1905): Павел Николаевич Милюков и Московская школа. СПб., 2005. С. 66, 210 (сн. 197).], правда, отмеченного скандалом, учиненным П.Н. Милюковым и поддержавшими его «павликианами». В Петербурге образование вокруг ведущих преподавателей устойчивых студенческих кружков привело к аналогичному конфликту при выборе председателя «Бесед по проблемам факультетского преподавания». Как пишет в своем дневнике жена С.Ф. Платонова Н.Н. Платонова:
Студенты (все это происходило у Форстена), после горячих пререканий (кажется, состоявших в том, что большинство резко восстало против предложенного кем-то в председатели Кареева) выбрали председателем Лаппо-Данилевского. […] Интересно, что Кареев, узнав о выборе Л[аппо]-Д[анилевского] в председатели, перестал с ним разговаривать[450 - Цит. по: Ростовцев Е.А. А.С. Лаппо-Данилевский и петербургская историческая школа. Рязань, 2004. С. 92.].
Таким образом, с организационной точки зрения семинарии (особенно «домашние») оказывались подходящим средством для складывания неформальных коммуникаций, которые сплачивали студенческие кружки, но препятствовали бесконфликтному переходу к более широким и формальным объединениям, какими являлись научные общества.
Попытки противостоять рутинизации и превращению семинариев в инструмент контроля за учебой студентов не могли остановить процесс не только в силу объективных причин (роста числа студентов[451 - Думается, что в этом кроется главная причина скептического отношения к способностям студентов, характерная для поздней стадии профессорской карьеры В.И. Герье и отмеченная в воспоминаниях В.А. Маклакова (см.: Маклаков В.А. Отрывки из воспоминаний. С. 296–297).]), но и субъективных – позиции министерства народного просвещения. Начавшееся с середины 1870-х годов наступление на автономию университетов завершилось, как известно, принятием Устава 1884 года, урезавшего их и без того незначительную самостоятельность[452 - См. подробно: Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 г. М., 1976.]. Вместе с тем провозглашалось усиление внимания к семинариям[453 - Извлечение из всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за 1884 год. СПб., 1886. С. 19.]. Правильно понять такое заявление можно лишь с учетом изменения экзаменационной системы в университетах. Отмена курсовых экзаменов поставила проблему контроля текущей учебной деятельности студентов, который позволяли осуществлять семинарские занятия. Правда, как ни парадоксально, но семинарии по всеобщей истории на историко-филологических факультетах были заменены в конце 1880-х годов «практическими упражнениями по древним языкам, которые велись во всем согласно указаниям министерства»[454 - Отчет… за 1886 год. М., 1888. С. 20.]. Это было следствием упований на классицизм как воспитательное средство, способное предотвратить проникновение пагубных влияний в молодежную среду[455 - Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 г. С. 156–158.].
Восстановление исторических семинариев в полном объеме произошло в 1890 году. Во всеподданнейших отчетах министра народного просвещения новое отношение к семинариям отчетливо проявилось в изменении формулы об их целевом назначении и в том, какие из семинариев характеризовались в первую очередь. В формуле постепенно первое место заняло указание на контроль, что сразу же отразилось и на формулировках университетских «Отчетов». Указание на значение семинариев для выработки навыков самостоятельной исследовательской работы было отодвинуто на самый дальний план. Так, в отчете 1901 года отмечалось:
Помимо чтения лекций значительная доля времени уделяется преподавателями <…> на практические занятия или упражнения, почти всегда неизбежные для прочного усвоения проходимого курса. В одних случаях они по существу своему до такой степени переплетаются с лекционными часами, что одно без другого является немыслимым. В других случаях для практических занятий назначаются особые часы, обязательные и необязательные, смотря по тем общим или специальным курсам, с которыми они находятся в неразрывной связи. Наконец, сюда же следует причислить и такие занятия, которые носят характер научных исследований под руководством профессоров и преподавателей[456 - Извлечение из всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за 1901 год. СПб., 1903. С. 113. В Отчете 1910 года этот раздел звучал еще более лаконично: «Сверх чтения лекций университетские профессора уделяли значительную долю времени на практические занятия и упражнения, настоятельно необходимые для прочного усвоения проходимых курсов». Ср.: Всеподданнейший отчет министра народного просвещения за 1910 г. СПб., 1912. С. 11.].
В первую очередь в министерских отчетах, когда речь шла об историко-филологических факультетах, подробно освещался опыт прежде всего семинариев по античной филологии и философии, в то время как семинарии по истории упоминались скороговоркой, причем это стало характерным уже с конца 1870-х годов. В общем, такой подход свидетельствует о позиции министерства, которое считало, что семинарий должен выполнять еще и воспитательную функцию, содействуя формированию «гражданских добродетелей», т. е. лояльного отношения к власти. Неудивительно поэтому, что в 1899 году, когда начались студенческие выступления сначала в Петербурге, а затем в Москве и других университетских городах, министерство в июльском циркуляре призывало профессоров установить «желательное общение» между ними, студентами и учебным начальством. Первым пунктом, определявшим способы установления таких отношений, называлось расширение практических занятий[457 - Циркуляр министерства народного просвещения от 21 июля 1899 г. по вопросу об установлении желательного общения между студентами, профессорами и учебным начальством // ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 70. Л. 23.]. Показательно, что на эти цели министерство готово было выделять деньги, разрешая использовать дополнительные средства для «усиления практических занятий» в виде прибавки к жалованию, правда, как правило, из дополнительных поступлений, получаемых университетами в качестве платы за слушание лекций, печатание дипломов, от благотворителей и т. п.
Таким образом, на протяжении второй половины XIX – начала ХХ века произошло становление и закрепление в российских университетах исторических семинариев в качестве стержневого элемента подготовки историков-профессионалов. Семинарские занятия, представляя собой образовательную модель исследовательских коммуникаций, содержанием которой являлось создание и утверждение в качестве общепризнанных научных знаний о прошлом, интегрировали и интенсифицировали процесс складывания идентичности профессионально подготовленного историка. Они выступали средством выработки способа поведения, которое требовалось сообществом специалистов (от студентов до профессоров), чьим призванием была историческая наука. «Рутинизация» семинарских занятий, произошедшая вследствие опережающих потребности в научных кадрах темпов роста числа студентов историко-филологических факультетов и попыток министерства народного просвещения использовать отношения, складывающиеся между преподавателями и учащимися, в целях воспитания «благонамеренности» последних, не могла изменить сути этого процесса. Даже примеры «отклоняющегося» научного поведения – например, попытки имитации академической идентичности, так же как и честное признание несоответствия значительной части учащихся требованиям профессионализации исторического цеха, – все это в конечном счете лишь укрепляло эту идентичность и способствовало росту авторитета историков в обществе.
Томас Сандерс
Третий оппонент: защиты диссертаций и общественный профиль академической истории в Российской империи
Ученые диссертации, имеющие двух оппонентов и ни одного читателя…
В.О. Ключевский
[458 - Перевод с английского выполнен по изданию: Sanders T. The Third Opponent: Dissertation Defenses and the Public Profle of Academic History in Late Imperial Russia // Historiography of Imperial Russia: The Profession and Writing of History in a Multinational State / T. Sanders (ed.) Armonk, 1999. Р. 69–97.Автор выражает глубокую признательность Исследовательскому совету Военно-морской академии США за поддержку в подготовке статьи.]
В конце октября 1917 года Георгий Вернадский[459 - Георгий Владимирович Вернадский (1887–1973) – видный профессор Йельского университета, один из основателей американской русистики, был сыном Владимира Ивановича Вернадского, блестящего российского и советского академика, автора идеи ноосферы. О Вернадском-старшем см.: Bailes Kendall E. Science and Russian Culture in the Age of Revolutions: V.I. Verndasky and His Scientific School, 1863–1945. Bloomington, 1990.] приехал из Перми, где он стал преподавателем месяцем ранее, в Петроград для защиты своей диссертации о масонстве в России XVIII века[460 - Это была магистерская диссертация Вернадского «Русское масонство в царствование Екатерины II», изданная в: Записки историко-филологического факультета Петроградского университета. Ч. 137. Пг., 1917. Мой рассказ основан на мемуарах: Вернадский Г.В. Из воспоминаний (Годы учения. С.Ф. Платонов) // Новый журнал. 1970. № 100. С. 219–221. Я изменил порядок некоторых цитат и приводимых автором деталей, сохранив их первоначальный смысл.]. Петроград показался ему «мрачным» городом, живущим «в предчувствии надвигающейся катастрофы». Несмотря на данные обстоятельства, больше всего его беспокоило то, что он был отвлечен от подготовки к диспуту безрезультатными поисками подходящего костюма: его сюртук не соответствовал традиции облачаться во фрак для церемонии защиты. Вернадский был приятно удивлен, увидев, что на его защиту собралась довольно многочисленная публика, несмотря на то, что дни в северной столице становились все короче, «очень рано темнело, и выходить на улицу было рискованно»[461 - Официальными оппонентами были Сергей Фёдорович Платонов (1860–1933), ведущий российский историк после ухода Ключевского, Сергей Васильевич Рождественский (1868–1934), наиболее известный работами по истории образования в России, и Илья Александрович Шляпкин (1858–1918), профессор русской литературы в Санкт-Петербургском университете и редактор собрания сочинений А.С. Грибоедова.]. Кроме официальных участников, некий Н.П. Киселёв высказал «несколько интересных соображений» относительно масонского мистицизма, небольшие замечания также сделали еще два или три человека из числа публики. После того как исторический факультет единогласно проголосовал за присуждение Вернадскому степени, официальная группа отправилась на квартиру родителей Вернадского отмечать это событие[462 - Шляпкин был вынужден пропустить торжество.]. Ситуация со снабжением в городе была такой, что любая еда «быстро исчезала» с прилавков. Тем не менее, его матери удалось достать все необходимое – «чай, бутерброды, сладости, вино. Было даже шампанское». Вместе с Александром Евгеньевичем Пресняковым и почти всеми участниками бывшего «кружка молодых историков» Вернадский и его семья наслаждались «дружественной и теплой» атмосферой, царившей на празднике по случаю успешной защиты диссертации.
С одной стороны, защита диссертации Вернадского представляется обыденным, хотя и очень человечным эпизодом, разыгранным на фоне надвигающейся национальной трагедии. С другой стороны, она кажется событием удивительным, замечательным примером упорства, с которым избранная часть образованного общества продолжала соблюдать все культурные привычки своей корпорации. Страна все быстрее катилась к «пропасти» хаоса и Гражданской войны, а семья Вернадских беспокоилась о фраках и птифурах, о том, как проголосуют на защите, и о масонском движении эпохи Просвещения. Каким же образом академический ритуал «защиты» диссертации стал настолько устойчивым элементом культурной жизни образованной элиты, что его продолжали исполнять, даже находясь на грани физического уничтожения?
В данном очерке рассматриваются истоки, эволюция и социальная функция защиты диссертации как культурного института. Несмотря на стереотипный образ сухого академического дела, понятного лишь посвященным, история защиты диссертаций может открыть для современного исследователя неожиданные перспективы. Прежде всего, рассматривая опыт историков сквозь призму процедуры защиты, мы можем отчетливо воссоздать пути формирования института исторической профессуры и черты поведения самих агентов – как представителей этой дисциплины и как членов особой субкультуры в рамках становившегося все более сложным и политизированным общества царской России. В своих истоках защита диссертации как публичное мероприятие представляет собой частный пример имплицитного «контракта» между царским правительством и образованной частью дворянского общества. Однако, возможно, даже большее значение имеет тот факт, что защита является примером и того способа, каким подобные разрешенные «сверху» практики могли быть преобразованы возникающей общественной группой в соответствии со своими собственными изменяющимися стандартами. В итоге такие процедуры оказывались взятыми на вооружение новыми социальными слоями в качестве средства саморепрезентации и утверждения своего статуса – что совершенно противоречило исходным целям правительства. Более того, различные этапы эволюции процедуры защиты отражают процесс формирования высокообразованной культурной элиты в рамках российской социальной системы; это позволяет на конкретном материале изучить феномен, описанный Эбботом Глисоном как переход от общества к общественности[463 - Gleason A. The Terms of Russian Social History // Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia / E.W. Clowes, S.D. Kassow, J.L. West (eds.). Princeton, 1991. P. 15–27, особенно 21–22. Эта же тема рассматривается им в начале исследования: Gleason A. Young Russia: The Genesis of Russian Radicalism in the 1860s. N. Y., 1980. P. 2.].
Может показаться несколько странным, что в столь авторитарной и закрытой системе, какой была Россия XVIII века, публичный интеллектуальный дискурс был воспринят с такой готовностью. Тем не менее, диспуты, лекции, а также споры о диспутах и лекциях были частью академической культуры в России со времени основания первого университета в 1755 году[464 - Обычно первым российским университетом считается Московский университет, однако существовавший при Академии наук Академический университет также отвечает критериям заведений этого типа. В Европе XVIII века не сразу стало понятным, что именно недавно учрежденным и инновационным национальным академиям предстоит стать институциональной основой для будущих центров исследования и преподавания, в которые в конечном итоге и превратятся реформированные и обновленные университеты. Немецкий (гумбольдтовский) университет приобрел статус общепринятой в мире модели лишь к концу XIX века, однако, по словам Даниэля Фаллона, «в конце XVIII века большинство университетов в немецкоязычной Европе можно охарактеризовать как место бессмысленно-механических диспутов, населенное по большей части педантами»: Fallon D. The German University: A Heroic Ideal in Confict with the Modern World. Boulder, 1980. P. 5.]. Заданный петровскими реформами импульс привел к исчезновению полуграмотного дворянства как доминирующей социальной прослойки. В высших слоях российского общества в XVIII веке сложилась привычка к чтению, которая вместе с развитием издательской инфраструктуры привела к трансформации интеллектуальной культуры России начиная с 1840-х годов[465 - См.: Marker G. Publishing, Printing, and the Origins of the Intellectual Life in Russia. 1700–1800. Princeton, 1985. О другом аспекте возникновения общедоступной интеллектуальной жизни, публичной библиотеке, см.: Stuart M. Aristocrat-Librarian in Service to the Tsar: Aleksei Nickolaevich Olenin and the Imperial Public Library: Boulder, East European Monographs. № 221. N. Y., 1986.]. В условиях, когда российская литературная культура все еще находилась в зачаточном состоянии, а условия существования писателей и журналистов в эпоху Екатерины II чувствительно ограничивали тогдашнюю духовную жизнь, публичные выступления и диспуты представляли собой важное дополнение к индивидуальному чтению[466 - Я уделяю основное внимание Московскому университету, чтобы доказать, что публичные устные дискуссии были общепринятой частью университетской культуры к тому времени, когда в России в первой половине XIX века сформировалась настоящая университетская система по немецкому образцу. Мои рассуждения о диспутах и защитах в период после 1804 года касаются, в первую очередь, магистерских и докторских диссертаций, в то время как соображения о диспутах до 1804 года относятся к любой публичной дискуссии по «ученому» вопросу. По сути дела, подобные практики, как кажется, были общепринятыми для интеллектуальной жизни элиты XVIII века. Фриз приводит следующий пример: «…Провинциальные епископы даже старались превратить проводимые раз в год (или в полгода) теологические диспуты в публичные мероприятия. Эти диспуты были совершенно очевидным образом рассчитаны на то, чтобы семинаристы продемонстрировали свои знания в философии и теологии… Однако на деле диспуты стали гораздо более значимым социальным событием. Епископ приглашал на торжество местное дворянство, и данное мероприятие включало в себя не только богословские дебаты, но и чтение поэтических произведений, музицирование и обеды. Семинаристов также приглашали выступать в аналогичных ролях на различные общественные мероприятия; например, торжественное открытие новых губерний в 1778 году сопровождалось публичными собраниями, на которых семинаристы читали верноподданнические стихи об императрице и местных знатных особах» (Freeze G.L. The Russian Levites: Parish Clergy in the Eighteenth Century. Cambridge, 1977. P. 102).]. Они были важным аспектом привычной интеллектуальной коммуникации, и «публичные лекции и диспуты при университете питали и поддерживали беспрерывно внимание московской публики всех сословий»[467 - Шевырёв С.П. История Императорского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею: 1755–1855. М., 1855. С. 568–569.]. «Бросается в глаза, – писал Кизеветтер, – одна черта в жизни Московского университета уже в этот начальный период. Это – связь университета с обществом»[468 - Кизеветтер А.А. Московский университет (исторический очерк) // Московский университет. 1755–1930. Юбилейный сборник. Париж, 1930. С. 43.]. Университет «радушно» призвал в свои стены общество, которое «охотно откликнулось», «наполнив университетские залы в дни публичных собраний, актов, диспутов»[469 - Там же.].
Шевырёв в своей истории, посвященной столетнему развитию Московского университета, передает читателю ощущение весомой значимости этих публичных мероприятий. «Акты в университете, – пишет он, – совершались с привычной торжественностью, которая была в духе и нравах времени». Наиболее важными датами были 25 апреля и 5 сентября, день коронации и день тезоименитства императрицы Елизаветы соответственно, и 26 апреля, поскольку открытие Московского университета было приурочено ко дню коронации Елизаветы. Кроме того, окончание экзаменов в июле и декабре «сопровождалось также актами и публичными диспутами студентов, речами учеников гимназии на древних и новых языках»[470 - Шевырёв С.П. История Императорского Московского университета… С. 66. В последующие годы в качестве дня, когда праздновалось основание университета, было выбрано 12 января – именно тогда был подписан указ об учреждении университета. Судя по словам Шевырёва, в то время Татьянин день еще не праздновался.]. Все это проводилось с помпезностью и соответствующими церемониями. На актах при производстве в студенты «торжественно вручались шпаги тем, кто еще не имел права носить их». Золотые и серебряные медали раздавались «в большом количестве», в числе наград были и книги. Расклеивались специальные большие афиши, написанные витиеватым стилем на русском и на латинском языках – они извещали о подобных мероприятиях и приглашали на них «всех любителей науки»[471 - Текст одного из таких объявлений см. там же.]. Эти мероприятия были важными общественными событиями. «Высшее духовенство, знатные особы Москвы, иностранцы и все образованное общество принимали постоянное участие в этих торжествах»[472 - Там же.].
Образцом подобной интеллектуальной жизни XVIII века может служить деятельность одного из ведущих ученых Московского университета второй половины века Антона Алексеевича Барсова. В XIX веке специальность Барсова назвали бы словесностью, но в то время он был профессором красноречия. Это точно соответствовало действительности; у Кизеветтера он фигурирует как «первый вития на университетских торжествах»[473 - Кизеветтер А.А. Московский университет… С. 25.]. Речи составляли «существеннейшую часть литературной деятельности Барсова» и высоко ценились в его дни как «превосходный» пример жанра. В 1819 году сборник его речей был опубликован Обществом любителей российской словесности в качестве образца ораторского искусства[474 - Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней): в 6 т. Т. 2. СПб., 1891. С. 159.]. Устаревшее на сегодняшний день слово «акты», которое ранее использовалось для обозначения речей и дней, посвященных ораторским дискуссиям, замечательно передает ощущение публичной демонстрации и зрелищности, присущих этим событиям. Русское выражение «актовый зал» сохраняет то же семантическое значение: причиной, собиравшей слушателей, было или публичное выступление, или публичный диспут.
Как и на Западе, программы, привлекавшие «любителей науки», бросали вызов защитникам религиозной догмы. Шевырёв пишет о том, что высшее духовенство принимало участие в этих публичных мероприятиях и даже одобряло их, но оно не было в восхищении от всех аспектов нового способа распространения знаний. Первые разногласия по поводу публичного обсуждения светской науки были связаны с защитой диссертации Дмитрия Аничкова на тему «О начале и происшествии натурального богопочитания»[475 - Кизеветтер писал об Аничкове, что, «по-видимому, то была первая серьезная научная величина» из числа выпускников Московского университета: Кизеветтер А.А. Московский университет… С. 34. Его рассуждения по поводу трудностей, с которыми столкнулся Аничков в процессе защиты, см.: там же. С. 60–61.]. Архиепископ Амвросий Московский подал донесение в Священный синод о диспуте в Московском университете в августе 1769 года; «соблазнительная и вредная» речь об этом «атеистическом рассуждении» содержала-де «предрассудки», что вызвало возражения даже со стороны других преподавателей[476 - Соловьёв С.М. Диспут в Московском университете 25 августа 1769 года // Русский архив. 1875. № 11. С. 313; Шевырёв С.П. История императорского Московского университета. С. 142. Во втором источнике указано, что диспут состоялся 24 августа.]. Аничков внес предложенные изменения, и работа была перепечатана. Аничков заплатил за свое неблагоразумие тем, что присуждение степени затянулось до 1771 года, но попытка Синода получить право на цензуру всех публикаций, связанных с религией, так и не увенчалась успехом[477 - Шевырёв С.П. История императорского Московского университета. С. 142; Соловьёв С.М. Диспут в Московском университете… С. 313.]. Государство отказывалось накладывать ограничения на защиты диссертаций, по крайней мере до тех пор, пока не чувствовало угрозы своим интересам.
Можно предположить, что легкость, с которой правительство и общество приняли практику публичного интеллектуального дискурса, проистекала из их общего представления о том, что знание имеет значение как социальный факт, но не как нечто добываемое индивидуумом и им же изменяемое[478 - Деление образованной элиты XVIII века на «государственную» и «общественную» является искусственным, поскольку их пути в то время еще не разошлись. Я заранее хотел бы попросить у читателей прощения за обезличенное применение терминов «общество» и «государство». Обобщенное использование этих терминов часто ведет к овеществлению идей, которые они представляют, в отрыве от деятельности конкретных людей. В данной статье автор стремится продемонстрировать, что нам необходимо более пристально взглянуть на некоторые из внешних форм дореволюционного российского общества, чтобы понять, что в действительности оставалось за ними сокрытым.]. Иными словами, можно сказать, что для государственного руководства и для членов общества знание имело инструментальную ценность. Следует также отметить, что в общественной культуре Москвы XVIII века присутствовал элемент поверхностности, указывавший на отсутствие истинной интеллектуальной серьезности. Кизеветтер отмечает, что первое время профессора справедливо осознавали, что «их основной задачей было развитие общего интереса к науке и объяснение ее значимости»[479 - Кизеветтер А.А. Московский университет… С. 43.]. Тем не менее, независимо от того, какой была общественная мотивация или уровень вовлеченности, практика публичных выступлений и обсуждений серьезных интеллектуальных вопросов постепенно укоренилась. Ко второй половине XIX века, когда в среде значительной части элиты развилась сложная, существующая независимо от государства культура, традиция публичной презентации знания и идей посредством лекций и диспутов была уже окончательно сформирована.
Однако, прежде чем общественность и профессора смогли совместно создать институт защиты диссертации, университетская культура должна была завоевать признание в дворянской среде и утвердиться на более широком, прочном и зрелом фундаменте. Взаимодействие между университетской и дворянской культурой, рассмотренное выше, основывалось на дилетантском вкусе дворян, образование которым давали частные учителя или особые благородные учебные заведения. Участие дворянства в университетской культуре было пассивным участием наблюдателей, оставалось исключительно московским феноменом и не предполагало получение дворянами университетского образования. Даже если бы дворянство стало стремиться к обучению в университете, сама университетская система не смогла бы их принять. Историография последних лет показывает, что первые десятилетия, последовавшие за созданием новой университетской системы в 1804 году, были тяжелым временем[480 - Законодательной базой для развития современной университетской системы в России стал Устав 1804 года (последующие документы принимались в 1835, 1863 и 1884 годах). Однако присуждение магистерских и докторских степеней отчасти регулировалось законодательством, принятым еще до 1804 года, и его дальнейшие изменения проводились независимо от решения основного «университетского вопроса». Согласно указу от 24 января 1803 года, учреждались три основные научные степени: кандидат (по существу, степень бакалавра), магистр и доктор. В действительности, настоящими научными степенями были только магистерская и докторская, для которых были установлены письменные и устные экзамены, а также публичные защиты. После так называемой «дерптской аферы», когда обнаружилось, что несколько степеней было получено за деньги, отдельной реформой были введены градации внутри бакалаврской степени. Все те, кто окончил полную университетскую программу обучения, получали звание «действительного студента». Если студент успешно сдавал экзамен, назначавшийся как минимум через год после этого, он получал дополнительную степень «кандидата». Далее он мог претендовать на последующие степени при условии, что каждый раз между присвоением степени проходил минимум год. Последующее законодательство не изменило по существу данную систему. Изменения затронули только такие вопросы, как язык диссертации (которым мог быть русский, латынь или немецкий), структура факультетов и экзаменов, категории, по которым могли присуждаться степени, а в довершение всего в 1863 году был отменен экзамен для соискателей докторской степени.]. Непродуманные административные решения оказались крайне обременительными для университетских преподавателей, у которых и без этого было достаточно сложностей с обучением студентов, особенно учитывая тот факт, что многие профессора не могли читать курсы на русском языке[481 - Под влиянием французской модели, ведущей свое начало от предложения, сделанного Кондорсе революционному Законодательному собранию, в России изначально была предпринята попытка интегрировать школьное образование в вертикальную систему, чтобы каждый из шести университетов отвечал за начальное и среднее образование в своих регионах. Этими шестью университетами были Московский, Дерптский, Казанский, Харьковский, Виленский и с 1819 года Санкт-Петербургский. После польского восстания 1830 года Виленский университет был закрыт (1832) и учрежден новый Киевский университет св. Владимира (1832–1833). См.: Galskoy C. The Ministry of Education Under Nicholas I (1826–1836): [дис… PhD Стенфордский ун-т]. Stanford, 1977. P. 199–208.]. Кроме того, вторжение Наполеона, склонность Александра I к мистицизму, недостаток профессоров с соответствующим уровнем образования, низкий статус университетов и атмосфера того времени препятствовали развитию новой структуры высшего образования. Кажется почти невероятным, что к середине 1830-х годов, пережив то, что Джеймс Т. Флинн назвал «десятилетием Библейского общества»[482 - См. гл. 4 «Universities in the Bible Society Decade» в: Flynn J.T. The University Reform of Tsar Alexander I, 1802–1835. Washington, 1988.], университетская система смогла справиться с этими проблемами и вошла в краткий период относительного спокойствия – который потом сменился суровой атмосферой последних лет царствования Николая I.
К середине 1840-х годов институт диспута уже не был изолированной академической процедурой и воздействовал также на более широкие общественные круги, однако ограничения и репрессии поздней николаевской эпохи подавили эту тенденцию. В результате контакты между профессурой и общественностью восстановились только в пореформенное время, начав развиваться с 1855 года. До этого диспут оставался в большей степени внутриуниверситетским мероприятием[483 - Довольно интересно, что мне не встретились какие-либо указания на обсуждение отмены публичной защиты. Устойчивость этого ритуала, скорее всего, объясняется практически всеобщим признанием как общественной природы знания, так и приоритета государственных целей в развитии образования. Немалое влияние, вероятно, оказали и зарубежные модели. Составители проектов университетских уставов 1804 года изучили работы Кондорсе об университетах, недавно учрежденную (1783) польскую систему, работу Христофа Майнера о немецких университетах (Meiner C. ?ber die Verfassung und Verwaltung deutscher Universit?ten: Bd. 1–2. G?ttingen, 1801–1802), а также вступили в прямую переписку с Майнером. См.: Кизеветтер А.А. Московский университет… С. 64. У Майнера есть рассуждения по поводу экзаменов и защит (см: Bd. 1. S. 345–365 в репринтном издании: Darmstadt, 1970). Марк Раев подчеркивает важную роль Германии как источника западных форм и идей для России, и российская университетская система была больше всего похожа на немецкую.]. Впрочем, это не означает, что общественное участие отсутствовало совсем или что диспут потерял всякое значение. Напротив, благодаря относительной изоляции университетов и ограниченному характеру общественного участия в диспутах в первой половине XIX века именно в эти годы защита диссертации оказалась наиболее полно интегрирована в интеллектуальную жизнь университета.
Историк Михаил Погодин был общепризнанным поборником диспутов, которые в то время были «учреждением, занимавшим важное место во всей университетской жизни»[484 - Погодин М. Диспут г. Гладкова. О диспутах десятилетней давности (40-е годы) // Журнал министерства народного просвещения. 1856. № 2. С. 37 [отд. паг.]. В 1856 году Погодин считал себя обязанным написать об истории диспутов, поскольку в недавно опубликованной столетней истории Шевырёва об этом говорилось очень скудно.]. Самым значительным различием между защитами первой половины века и теми, которые проходили в середине 1850-х годов, являлось то, что раньше студенты занимали в них гораздо более важное место. Студенты, как он пишет,
играли здесь главную роль. Они начинали диспут, они иногда и оканчивали его. Это была арена, для них, собственно, открытая, где они могли показывать себя и обращать на себя внимание профессоров. На экзаменах они обязаны давать отчет в том, что слышали <…> а на диспутах они предъявляли собственные приобретения, обнаруживали деятельность своего ума[485 - Там же. С. 38.].
Погодин считал их отличным педагогическим средством, подчеркивая как независимость интеллектуальной деятельности, ее мотивационную силу, так и количество времени, потраченного на подготовку к ним. Студенты ожидали подобные диспуты как «торжества», они становились темой их разговоров задолго до самого события и продолжали обсуждаться в аудиториях и общежитиях в течение некоторого времени после защиты[486 - Там же. С. 28–29.]. Погодин был в таком восторге от этого старого стиля защиты диссертаций, что он рекомендовал планировать диспуты таким образом, чтобы у студентов была возможность задать все вопросы и обсудить все волновавшие их проблемы. Он даже призывал к строительству специального зала для проведения диспутов, подобного тому, что он видел в Лейденском университете, который позволял бы всем присутствующим видеть диспутантов[487 - Там же. С. 40.].
В ту эпоху, когда предмет диссертации еще не был узкоспециальным и, следовательно, в большей степени оказывался доступным среднему студенту (по крайней мере, это касается истории и филологии), защита была, очевидно, более существенным компонентом учебной программы и педагогической жизни университета. Фёдор Буслаев описывает в своих воспоминаниях эпизод, когда один из его профессоров, Иван Иванович Давыдов, раздал своим студентам несколько копий диссертации Александра Васильевича Никитенко[488 - А.В. Никитенко (1804–1877) был известным цензором, литературным критиком и автором дневников. Речь идет о его диссертации «О творческой силе поэзии, или поэтическом гении» (СПб., 1837). Это была одна из тех наскоро написанных диссертаций, единственной целью которых было дать ее автору возможность сохранить преподавательскую должность. Описание, которое дает ей Буслаев, показывает дистанцию между его идеалом точной науки и подобного рода работами: «Теперь я не помню ни ее заглавия, ни содержание, только хорошо знаю, что в ней говорилось вообще об изящных искусствах, о прекрасном, о поэзии, при полнейшем отсутствии положительных фактов». Буслаев Ф.И. Мои воспоминания. М., 1897. С. 122.]. Дав студентам время ознакомиться с диссертацией, Давыдов устроил тренировочный (Буслаев называет его «примерным») диспут. Пока Давыдов стойко защищал диссертацию, «мы врассыпную громили крепость со всех сторон и разнесли ее в пух и прах»[489 - Там же.]. Даже сам порядок проведения диспутов показывает, что они были скорее ориентированными на студентов учебными мероприятиями, чем тщательно спланированными и интеллектуально насыщенными столкновениями академических титанов. Студенты начинали задавать вопросы на защите, после них включались в обсуждение кандидаты и магистры («которые обыкновенно на диспутах давали о себе знать факультетам»). После этого слово предоставлялось публике, и только в самом конце в диспут вступали профессора, «которым доставалось обыкновенно сказать только несколько слов, произнести решительный приговор»[490 - Погодин М. Диспут г. Гладкова. С. 38–39.]. Даже в это время на диспуте присутствовал особый участник, защитник, чья задача заключалась в том, чтобы следить за ходом дискуссии и не позволять задавать неподобающие вопросы[491 - Там же. С. 37–38.]. Вероятно, участие защитника было необходимым из-за относительно хаотичного и демократичного характера процедуры защиты диссертации в первой половине XIX века. Когда эта процедура стала более структурированной и роль профессоров в ней возросла, было решено (справедливо или ошибочно), что защитник больше не нужен.
Со временем проведение таких неформальных защит стало невозможным. К середине века российский университет стал «настоящим научным центром европейского типа»[492 - Кизеветтер А.А. Московский университет… С. 122. Кизеветтер в данном случае говорит только о своей alma mater, но это относится к университетской системе в целом.]. Сложилась российская университетская культура[493 - Это было продолжающееся эволюционное движение. В своем очерке Кизеветтер, например, указывает на существенные обновления в преподавательском составе между 1780 и 1800, 1832 и 1848, 1855 и 1863 годами, а также на вклад выдающихся новых преподавателей, таких как В.О. Ключевский или П.Г. Виноградов, в области истории. См.: Кизеветтер А.А. Московский университет… С. 54, 101, 120, 123–124.]. И хотя ее формирование происходило постепенно, самым важным периодом были, безусловно, 1830-е годы. Одной из причин этого стал важный шаг вперед, сделанный с принятием университетского устава 1835 года, который освободил университеты от ответственности за учебные учреждения более низких ступеней и одновременно с этим улучшил уровень подготовки и социально-экономическое положение профессоров[494 - Правительство признавало, что оно перенаправляет внимание профессоров от управленческих задач к науке. См.: Шевырёв С.П. История Императорского Московского университета. С. 487. Галской в своей работе (Galskoy C. The Ministry of Education… P. 238) указывает, что устав 1835 года увеличил жалование профессоров примерно в три раза.]. Новый устав требовал, чтобы профессора имели докторскую степень. Часть преподавателей, включая Шевырёва, смогли дописать и защитить диссертацию за предоставленный год, другие же просто потеряли свои должности[495 - Whittaker C.H. The Origins of Modern Russian Education: An Intellectual Biography of Count Sergei Uvarov, 1786–1855. DeKalb, 1984. P. 161. Она цитирует сведения Никитенко о том, что тринадцать профессоров Санкт-Петербургского университета были постепенно удалены со своих должностей из-за новых требований. См. также: Galskoy C. The Ministry of Education… P. 239–240.]. Благодаря этим реформам, либо же благодаря настойчивости, с которой Николай I требовал, чтобы служилые дворяне имели университетское образование, и его политике кнута и пряника, использовавшейся для выполнения этого требования, университеты избавились от стигмы, наложенной на них в первые десятилетия существования, и вступили в новую эпоху.
Без сомнения, наиболее важным фактором, поднявшим уровень науки, образованности и усовершенствовавшим университетскую культуру, было значительное повышение уровня профессорско-преподавательского состава. Этому во многом способствовал удивительно успешный эксперимент по созданию так называемого Профессорского института при Дерптском университете[496 - В 1820-х годах две группы студентов были посланы на определенный срок на учебу в Дерпт, после чего еще на два года в Париж или Берлин. О Профессорском институте см.: Шевырёв С.П. История Императорского Московского университета. С. 485–487; Flynn J. University Reform… P. 181–185; Galskoy C. The Ministry of Education… P. 239–240.]. Все писавшие о нем единодушны в том, что он оказался чрезвычайно важным источником новых, более подготовленных и энергичных профессоров. Буслаев вспоминает, что новые профессора, вернувшиеся и начавшие преподавать в 1835 году, дали «первый решительный толчок к более точному определению ученой специальности каждой кафедры»[497 - Буслаев считал, что это является естественным ходом событий в специализации знания и преподавания как в России, так и на Западе: «Старый энциклопедизм <…> оказался неудовлетворителен для серьезных требований университетской науки». В этой связи в качестве образца профессора-энциклопедиста он рассматривал Давыдова. См.: Буслаев Ф.И. М.П. Погодин как профессор. М., 1876. С. 9.]. Синтия Уиттакер называет открытие Профессорского института «наиболее значимой мерой, предпринятой для подготовки возрождения университетов в России»[498 - Whittaker C. The Origins of Modern Russian Education. P. 161–162 (цитата на с. 161).]. Григорьев отмечает, что период до 1831 года «далеко не был блистательным», но с возвращением этих молодых ученых, а также благодаря постоянному притоку профессоров, получивших подготовку во время командировок, «настал для нашего, как и для других русских университетов, период иной, лучшей жизни»[499 - Григорьев В.В. Императорский Санкт-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. Историческая записка. СПб., 1870. С. 83, 87.]. Корнилов оценивает результаты программы подготовки молодых ученых за границей как «блестящие». В 1840-х годах
явилась целая плеяда молодых русских ученых, которая дала очень много для следующего поколения русской интеллигенции: достаточно вспомнить имена Грановского, Редкина, Крюкова, Буслаева (в Москве), Меера (в Казани), Неволина, Куторгу (в Петербурге)[500 - Kornilov A. Modern Russian History. N. Y., 1943. P. 282. См. также: Galskoy C. The Ministry of Education… P. 239–240.].
Процесс, в результате которого российская профессура достигла европейских стандартов научной подготовки, образованности и интеллектуального блеска, – тот путь, который до самого конца империи будет способствовать появлению все более опытных профессоров, – начался в 1830-е годы. Это было условие sine qua non новой университетской культуры.
Этот переход к новому типу профессора создал качественное различие, так как новые профессора возвращались из своих научных командировок не только с новой методологией: они также перенимали западное светское научное мировоззрение. Слова Кизеветтера по этому поводу стоит процитировать. 1830-е годы стали «началом новой эпохи в развитии Московского университета», – пишет он, – потому что
…появившаяся в Москве в 30 и 40-х годах плеяда молодых профессоров была за отдельными исключениями проникнута высокими представлениями о назначении профессора. В этом представлении служение науке неразрывно связывалось с проведением в сознание общества идеалов гуманитарного прогресса.
Молодые профессора 1830-х годов – по словам Герцена – «привезли с собой горячую веру в науку и людей; они сохранили весь пыл юности, и кафедры для них были налоями, с которых они были призваны благовестить истину; они являлись в аудитории не цеховыми учеными, а миссионерами человеческой религии»[501 - Кизеветтер А.А. Московский университет… С. 115.].
С этой точки зрения, защита диссертации была своего рода церемонией посвящения в сан.
Безусловно, университеты существовали не в вакууме. Они развивались в культурной среде правящего класса, которая характеризовалась хорошим образованием, космополитическим мировоззрением, на фоне все большего многообразия как собственно общества в целом, так и студенческой среды[502 - Кизеветтер отмечает, что студенты очень сильно отличались от «подростков», которые в 1820-х годах «резвились» на лекциях «скучных профессоров». В 1830-е и 1840-е годы студенты были «гораздо зрелее и гораздо сильнее были захвачены серьезными интересами». Они читали новейшие работы, посещали литературные, философские и политические дебаты, а также участвовали в деятельности «серьезных» кружков. Кизеветтер А.А. Московский университет… С. 116.]. Именно в 1830-е годы возникли такие группы, как кружок Станкевича, сформировавшийся «под сенью Московского университета»[503 - Annenkov P. V. The Extraordinary Decade: Literary Memoirs / A.P. Mendel (ed.), I.R. Titunik (trans.). Ann Arbor, 1968. P. 2.]. В конце 1830-х и в 1840-е годы «социальный состав и интересы образованной публики, еще оставаясь ограниченными, все же расширились настолько, чтобы поддерживать все увеличивавшееся число разных инициатив – ученых обществ, театров, публичных лекций, издательских домов и школ всех уровней»[504 - Whittaker C. The Origins of Modern Russian Education. P. 153. Некоторые детали о возникавшей интеллектуальной прессе см.: Ibid. P. 116.]. Зарождение нового типа образованной публики на российской сцене наглядно продемонстрировала невероятная популярность лекций Грановского, о чем так блестяще писала Присцилла Рузвельт (см. сноску 49) {в электронной версии книги – сноска 507. – Прим. верстальщика.}. Анненков вспоминает, что, приехав в Москву осенью 1843 года, он «застал ученое, так сказать, межсословное торжество <…> по случаю первых публичных лекций Грановского, собравшего около себя не только людей науки, все литературные партии и обычных восторженных своих слушателей – молодежь университета, но также и весь образованный класс города»[505 - Annenkov P.V. The Extraordinary Decade. P. 81.]. Это было беспрецедентное событие, немыслимое и невозможное до тех пор, пока не появились для массовой публики «предметы уважения, кроме тех, которые издавна указаны ей общим голосом или официально»[506 - Ibid.], – те объекты поклонения, которые были выкованы в огне новой университетской культуры.
Царское правительство еще не примирилось с появлением открыто оппозиционной интеллектуальной культуры, и вскоре последовал период реакции. В результате к 1848 году было сокращено число студентов, запрещены командировки за границу, была даже прекращена практика литографирования лекционных курсов, доступных в Публичной библиотеке. После скандала, произведенного защитой магистерской диссертации Грановского в 1845 году, были введены новые правила, ограничивавшие доступ на публичные защиты и устанавливающие новую систему пригласительных билетов[507 - Roosevelt P. Apostle of Russian Liberalism: Timofei Granovsky. Newtonville, 1986. P. 106.]. В соответствии с новой системой, созданной для предотвращения беспорядков во время публичных защит диссертаций, пригласительные билеты для дальнейшего распространения раздавались преподавателям в соответствии с их рангом, лишь ректор мог пригласить любое количество гостей. Кроме этого, попечитель учебного округа мог выдать дополнительные билеты, чтобы сделать научные диспуты доступными для ревнителей образования, но делалось это под жестким контролем[508 - См.: Дело Совета Императорского С.-Петербургского университета «О приглашении лиц к присутствию на публичных защищениях ученых диссертаций», 20 декабря 1850 г. // ЦГИА Санкт-Петербурга. Ф. 14. Оп. 1. Д. 4965. Л. 1.]. И уже в следующем месяце (словно прежних мер оказалось недостаточно) специальным циркуляром были введены ограничения, посредством которых контролировались уже не только диссертации, но и тезисы, формулируемые на их основе для диспутов, для того, чтобы нельзя было «понимать разным образом одно и то же предложение». Задачей попечителей было также следить, чтобы на защитах не «допускать в смысле одобрительном обсуждения начал, противных нашему государственному устройству»[509 - Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности министерства народного просвещения, 1802–1902. СПб, 1902. С. 264.]. Именно в такой атмосфере могла возникнуть ситуация, когда на защите диссертации по эмбриологии кандидата обвиняли в нелояльности по отношению к России потому, что он использовал латинскую, немецкую и французскую научную терминологию. Защита стала напоминать «вместо ученого диспута» «полицейский донос»[510 - Цит. по: Roosevelt P. Apostle of Russian Liberalism. P. 142 (см.: Никитенко А.В. Дневник. Л., 1955. Т. 1. С. 316, запись от 6 декабря 1848 года); см. также: Ibid. P. 210. Note 61.]. Только после ослабления этого тиранического режима, последовавшего после поражения в Крымской войне и смерти «Имперникеля» (Николая I, как его насмешливо назвал Герцен), образованная публика вместе с академическим сообществом – оба этих института все это время продолжали разрастаться и развиваться – смогли превратить защиту диссертации в средство публичной коммуникации и социальной легитимизации.
Как показывает краткое описание защиты Вернадского в 1917 году, со временем сложилось сочетание формальной процедуры и детально разработанного ритуала. На практике, в течение всего периода существования в университете формальной системы присуждения степеней, с 1804 по 1917 год, путь вверх по этой лестнице осуществлялся примерно следующим образом[511 - В целях обобщения я делаю допущение, что отдельной кандидатской степени не существует (как определялось уставом 1884 года) и что соискатели докторской степени не сдают экзамены (реформа 1863 года).]. Студент, успешно завершивший курс обучения в университете, получал диплом[512 - Каждая из университетских степеней соответствовала определенному чину в дореволюционной «Табели о рангах». Соответствие степеней определенным чинам менялось в течение примерно столетия, пока функционировала эта система. Кроме того, связь между университетской степенью, относившейся к науке, и чином, относившимся к бюрократической иерархии, беспокоила некоторых членов научного сообщества. Здесь мы не будем затрагивать данные вопросы, поскольку наш основной предмет – защиты и их роль.]. Если он учился достаточно хорошо и произвел впечатление на преподавателей, получив золотую или серебряную медаль в конкурсе сочинений, его «оставляли при кафедре» для «подготовки к профессорскому званию»[513 - По имеющимся у меня сведениям, до революции в Московском и Санкт-Петербургском университетах только две женщины получили ученые степени по истории выше степени бакалавра – а именно Мария Александровна Островская и Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская. Островская защитила магистерскую диссертацию «Земельный быт сельского населения Русского Севера в XVI–XVIII веках» (СПб., 1913) в марте 1914 года. Если какая-либо другая женщина не защитила диссертацию в другом российском университете ранее, то тогда Островская является первой женщиной-историком со степенью магистра. Добиаш-Рождественская стала первой женщиной, получившей магистерскую степень по всеобщей истории в результате защиты работы «Церковное общество Франции в XIII веке» (СПб., 1914), а также первой женщиной, получившей докторскую степень по всеобщей истории после защиты работы «Культ св. Михаила в латинском Средневековье», которая состоялась в апреле 1918 года (опубликована литографическим способом с машинописного текста из-за условий, в которых в то время находилась Россия). Об Островской см.: Семевский В. М.А. Островская // Голос минувшего. 1914. № 4. С. 292–297; о Добиаш-Рождественской см.: Ершова В.М. О.А. Добиаш-Рождественская. Л., 1988. С. 47–50, 60–61. Я благодарен Алексею Николаевичу Цамутали за информацию об этой работе. Статья А.Д. Люблинской о Добиаш-Рождественской (Modern Encyclopedia of Russian and Soviet History / J.L. Wieczynski (ed.). Vol. 9. Gulf Breeze, 1978. P. 184) содержит двусмысленную формулировку, утверждая, что она была «первой женщиной в Российской империи, получившей степень магистра (1915) и доктора (1918)». Разумеется, в 1918 году империи уже не существовало, и она была первой женщиной, получившей обе степени, однако она не была первой женщиной, защитившей магистерскую диссертацию даже в своем родном Санкт-Петербургском университете, не говоря уже об империи. См.: Магистерский диспут М.А. Островской в Петербургском университете // Научный исторический журнал. 1914. № 5. С. 143, где указано, что именно это – «первый женский диспут в Петербургском университете».]. После дальнейшей учебы студент сдавал письменные и устные экзамены по различным предметам. Для кандидата по истории России программа включала, в самом ее простом варианте, историю России, всемирную историю и политическую экономию. На устных экзаменах присутствовали все члены факультета, могли также присутствовать и другие лица, имеющие степень или признанную научную репутацию. Успешная сдача этих экзаменов (что не было самим собой разумеющимся[514 - Николай Павлович Павлов-Сильванский, который позже получил признание, особенно за свою работу о русском феодализме, провалился на своих магистерских экзаменах (в первую очередь, из-за возражений Николая Кареева) и так и не предпринял попытку получить следующую степень. См.: Цамутали А.Н. Борьба направлений в русской историографии в период империализма: Историографические очерки. Л., 1986. С. 212. Если студент не сдавал экзамен, он мог пройти его заново, однако не ранее, чем через год.]) давала студенту право приступить к научной работе и написанию диссертации. Для того чтобы содержать себя во время академических занятий и подготовки диссертации, многие преподавали или в гимназии, или на Высших женских курсах, или в качестве приват-доцентов в университете, или в каких-нибудь других институтах. Некоторые уезжали за границу на два года либо на большее время, хотя и не все научные командировки предполагали поездки за границу.
Когда кандидат дописывал диссертацию, он передавал ее на рассмотрение факультета. Факультетское собрание назначало одного или нескольких преподавателей для написания отзыва на работу, хотя теоретически ознакомиться с ней должны были все преподаватели. На основании этого отзыва факультет принимал решение о допуске к защите. Если решение было отрицательным, могли быть даны рекомендации по внесению каких-либо изменений, либо же диссертация отклонялась полностью. В этом случае кандидат мог попытаться получить положительный отзыв на свою диссертацию в другом университете и там же ее защитить. В случае положительного отзыва задачей кандидата было опубликовать свою диссертацию[515 - О том, что этот ритуал воспринимался очень серьезно, свидетельствует недовольство Платонова, когда он узнал, что Вернадский уже опубликовал свою диссертацию в 1917 году еще до того, как она была официально одобрена деканом факультета. Хотя факультет уже согласился опубликовать диссертацию в своих «Записках», что свидетельствовало о ее безоговорочном одобрении, Платонов был очень расстроен. Этот «промах, который чуть было не испортил мои отношения с Платоновым», пришлось позднее исправлять. См.: Вернадский Г.В. Из воспоминаний… С. 218–219.]. В некоторых случаях диссертация печаталась частями в толстых журналах, таких как «Русская мысль» или «Журнал министерства народного просвещения», в дополнение к отдельному книжному изданию. Часто рецензии на работу появлялись еще до ее защиты. Одной из целей этой процедуры было стремление создать больше возможностей для ознакомления с работой до самого диспута. Кроме того, объявление о защите должно было трижды публиковаться в местной прессе. Эти меры обеспечивали определенную степень информированности заинтересованной общественности. Некоторые защиты собирали полные аудитории, но даже авторы самых скучных и малопонятных диссертаций могли рассчитывать на присутствие своих друзей, родных и студентов. К тому же заинтересованность образованной части населения в серьезных исторических исследованиях была в XIX веке достаточно высока, о чем свидетельствует тот факт, что центральные газеты регулярно печатали информацию о новых исторических публикациях и отчеты о защитах диссертаций. Так как многие из кандидатов были активными исследователями и преподавателями на протяжении ряда лет, у них сложилась определенная репутация среди заинтересованной публики, и большинство защит собирало вполне представительную аудиторию[516 - Необходимо учитывать то, что соискатель докторской степени уже имел опубликованную магистерскую диссертацию. Даже у соискателей магистерской степени часто были публикации и рецензии.]. Помимо достоинств самого кандидата и его диссертации, публику привлекало также участие в диспутах светил академического мира.
Кто бы ни руководил диспутом, начинал он его с зачитывания подробной академической биографии кандидата, после чего слово предоставлялось самому соискателю[517 - Мое внимание сосредоточено на защитах магистерских и докторских диссертаций по истории в Московском и Санкт-Петербургском университетах. Правила и практики отличались в разных университетах и на факультетах. История, будучи наукой более доступной и популярной, привлекала, несомненно, большее внимание образованной публики, чем химия или сравнительная анатомия, однако общая модель публичных диспутов, сопровождавших защиты, характеризует дореволюционную университетскую систему в целом. См., например, «полицейский донос», связанный с защитой диссертации по эмбриологии, о котором упоминалось выше. Также можно вспомнить знаменитый случай с участием Владимира Онуфриевича Ковалевского. Человек, получивший докторскую степень в зарубежном университете, мог подать ту же диссертацию на соискание степени магистра, сдав при этом сопутствующие экзамены (См.: Сборник постановлений по министерству народного просвещения. Т. 3. Царствование императора Александра II, 1855–1864. СПб., 1865. № 472. 18 июня 1863 года. Общий устав императорских российских университетов. Гл. IX. Примеч. к п. 113, с. 953). Ковалевский, чья диссертация, защищенная в Йенском университете, считалась лучшей в палеонтологии за предшествующие двадцать пять лет (сейчас Ковалевский считается одним из основателей сравнительной палеонтологии), был вынужден дважды сдавать магистерские экзамены из-за ревности своих коллег. См.: Соболева Е.В. Организация науки в пореформенной России. Л., 1983. С. 209. Я благодарен Александру Вусиничу, который обратил мое внимание на этот эпизод.]. В некоторых случаях, например, во время защиты диссертации Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского в 1890 году или Александра Евгеньевича Преснякова в 1918 году, эта часть диспута – точно названная речь перед защитой – превращалась в теоретически насыщенную, нередко весьма элегантную речь[518 - См. перепечатку речи Лаппо-Данилевского перед защитой его магистерской диссертации «Организация прямого обложения в Московском государстве со времен Смуты до эпохи преобразований» в: Исторические диспуты в 1890 г. // Историческое обозрение. Т. 1. СПб., 1890. С. 283–294. О докторской защите А.Е. Преснякова см.: Пресняков А.Е. Речь перед защитой диссертации под заглавием «Образование Великорусского государства». Пг., 1920.]. Благодарная публика обычно приветствовала окончание этой речи «громогласными» аплодисментами, после чего официальные оппоненты высказывали свои замечания[519 - Неизвестно, какие еще правила определяли выбор официальных оппонентов помимо того, что их должно было быть как минимум двое. См.: Сборник постановлений по министерству народного просвещения. Т. 2. Царствование императора Николая, 1825–1855. Отделение второе, 1840–1855. СПб., 1864. С. 364. Ст 47 (1844 г.), где говорится, что «возражателей на тезисы», как тогда назывались официальные оппоненты, должно было быть не менее двух. В случае с Кареевым Герье был его Doktorvater’ом и поэтому присутствовал в качестве официального оппонента на обеих защитах. С другой стороны, на защите М.М. Богословского, ученика В.О. Ключевского, официальными оппонентами были М.К. Любавский и А.А. Кизеветтер, который к тому времени еще не защитил свою магистерскую диссертацию. См.: Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий (Воспоминания 1884–1914). Прага, 1929. С. 24–25, где он сетует на отсутствие или нехватку публичных аудиторий. Защиты в данном контексте он не обсуждает.]. Как правило, они сначала отмечали положительные моменты работы и лишь потом переходили к критике. После выступления всех оппонентов кандидату давали возможность ответить, после чего председатель обращался к публике и спрашивал, есть ли еще у кого-либо замечания («Не угодно ли еще кому-нибудь возразить?»)[520 - Н.Н. По поводу одного диспута // Исторический вестник. 1888. Октябрь. С. 263.]. Очевидно, «неофициальным оппонентам» давалось право вступать с кандидатом в пространные дебаты, если их считали в том или ином смысле достойными собеседниками. В результате диспут мог продолжаться довольно долго. В конце концов, когда вопросы иссякали, комиссия голосовала за утверждение диссертации. Эта процедура была простой формальностью. Если кандидата допускали к публичной защите, решение о присуждении ему степени (которое должно было получить подтверждение министерства) было заранее принято. Как правило, комиссия не покидала зал для голосования, а часто председатель даже не проводил формальных консультаций с присутствовавшими преподавателями, прежде чем объявить об одобрении диссертации («полностью достоин искомой степени»). В этот момент нового обладателя научной степени приветствовали восторженными аплодисментами, члены комиссии обнимали его и обменивались с ним поцелуями. В один из последующих дней защитившийся кандидат устраивал праздничный обед для своих близких и для официальных участников защиты[521 - Эта обобщающая модель основывается на значительном круге источников по данной проблеме. Наиболее подробным обзором процесса присуждения степеней во всех областях науки является статья: Кричевский Г.Г. Ученые степени в университетах дореволюционной России // История СССР. 1985. № 2. С. 141–153. Некоторые части предыдущего абзаца основаны на его рассуждениях на с. 145–150. Другой интересной работой по этой теме является: Соболева Е.В. Организация науки в пореформенной России. Гл. 3 «Подготовка научных кадров». С. 170–242.].
Г.Г. Кричевский в своей статье приводит интересные статистические данные относительно результатов этого сложного процесса. За исключением степеней в медицинских науках, c 1805 по 1863 год было присуждено в общей сложности 625 степеней, из них 160 докторских. Почти половина была получена в Москве (153) и в Санкт-Петербурге (152), несмотря на то, что Санкт-Петербургский университет был открыт в 1819 году и первая защита там прошла в 1830-х годах. Из общего числа защит на долю преподавателей историко-филологических факультетов приходилось 30 %[522 - Кричевский Г.Г. Ученые степени в университетах… С. 143. В других университетах были следующие показатели: Дерпт – 135, Харьков – 80, Казань – 45, Киев (также молодой университет) – 60.]. После 1863 года число присужденных степеней более чем утроилось, но общий принцип не изменился. На долю Санкт-Петербурга (760) и Москвы (538) приходилось чуть более половины из всех 2266 степеней (включая 880 докторских). Процент степеней, присужденных историко-филологическими факультетами, остался неизменным, но Санкт-Петербургский университет вышел из тени Московского и теперь стремился превзойти его и занять ведущие позиции[523 - Там же. С. 150. В других университетах расширившейся системы высшего образования были следующие показатели: Киев – 218, Дерпт – 214, Харьков – 184, Казань – 179, Новороссийск – 125, Варшава – 42, Томск – 6. Кричевский отмечает, но не объясняет «резкое уменьшение их [т. е. защит] числа» в Москве с 1880 года до начала ХХ века и в Петербурге в 1890-е годы. Объяснить его, скорее всего, можно реформой образования 1884 года, которая ввела более строгие классические требования. Соболева однозначно объясняет снижение последствиями этой реформы. По ее расчетам, не включающим медиков, за десятилетие с 1863 по 1874 год в среднем ежегодно защищалось 26 докторских диссертаций и 24 магистерских. За десятилетний период с 1886 по 1896 год соответствующие показатели – 12 и 15. Соболева Е.В. Организация науки в пореформенной России. С. 207.]. Безусловно, не все из тех, кто получил степень магистра, стремились к докторской степени. Для тех же, кто приступал к написанию докторской диссертации, время между получением этих двух степеней составляло в среднем пять с половиной лет. В большинстве случаев научные степени действительно оказывались «заработанными»[524 - Эта ситуация не изменялась в течение всего периода, начиная с 1860-х годов и до революции. В то же время на физико-математических и юридических факультетах среднее время между защитой магистерской и докторской диссертации выросло с 3,5 лет в 1860-е годы до 6,7 лет за десятилетие между 1900–1909 годами для физиков и математиков и с 4,7 в 1860-е годы до 6,4 лет в начале столетия – для юристов. См.: Там же. С. 149.].
Пять десятилетий с момента вступления Александра II на престол в 1855 году и до начала революции 1905 года можно рассматривать как золотой век защиты диссертаций. Именно в этот период (особенно во второй его половине) ученые, следовавшие строжайшим мировым стандартам в своей области, обсуждали с восприимчивой и компетентной публикой вопросы, затрагиваемые в их диссертациях. Как мы видели, защиты проходили до самого конца существования империи и даже позже. Тем не менее бесспорно, что в некоторые периоды процедура защиты играла более важную роль, чем в прочие, более «нейтральные» времена. Так, публичные собрания приобрели большее значение во время реакции 1880-х годов, последовавшей за убийством Александра II[525 - См.: Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий… С. 280.]. Создание национального представительного органа и сферы публичной политики после 1905 года способствовало постепенному устранению наиболее явных политических аспектов из большинства диспутов. К 1906 году «многие профессора в силу своей веры в стабильность новой конституционной структуры надеялись, что университетский вопрос просто сойдет на нет. Дума придет на смену университетским аудиториям в качестве общенационального политического форума»[526 - Kassow S.D. Students, Professors and the State in Tsarist Russia. Berkeley, 1989. P. 296. Эта работа является лучшим общим исследованием того запутанного комплекса профессиональных, педагогических и политических вопросов, с которыми приходилось иметь дело профессуре в целом.]. Пичета, прокомментировавший это явление в более непосредственной форме, чем кто-либо другой, считал, что после революции 1905 года на защиты приходили лишь отдельные сторонние слушатели, оставляя это мероприятие всецело вниманию профессоров, студентов и знакомых кандидата[527 - Пичета получил образование до революции и сделал выдающуюся карьеру как историк и славист в СССР. См.: Королюк В.Д. Владимир Иванович Пичета // Славяне в эпоху феодализма. К столетию академика В.И. Пичеты. М., 1978. С. 5–25. Цитата приводится по: Пичета В.И. Воспоминания о Московском университете (1897–1901) // Славяне в эпоху феодализма. С. 61. Эти воспоминания, которые в действительности рассматривают и события после 1901 года, были написаны в 1931 году – пожалуй, в наиболее мрачный период для историков в сталинскую эпоху, – поэтому оценки, данные в ряде мест, кажутся подозрительно политически ортодоксальными. Однако это относится скорее к конкретным историкам и их концепциям, а не к высказываниям Пичеты о роли диспутов в обществе, как, например, когда он пишет о докторской диссертации политически и методологически консервативного М.К. Любавского «Литовско-русский сейм: опыт по истории учреждений в связи с внутренним строем и внешнею жизнью государства» (М., 1901): «Теперь мне ясны все недостатки этой работы, несмотря на большие ее достоинства, но в мои студенческие годы она мне казалась образцовой» (Там же. С. 64). О Пичете см. также в сн. 116.]. Тем не менее, диспут сохранил свое социальное, интеллектуальное и политическое значение, необходимое для существования системы.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: