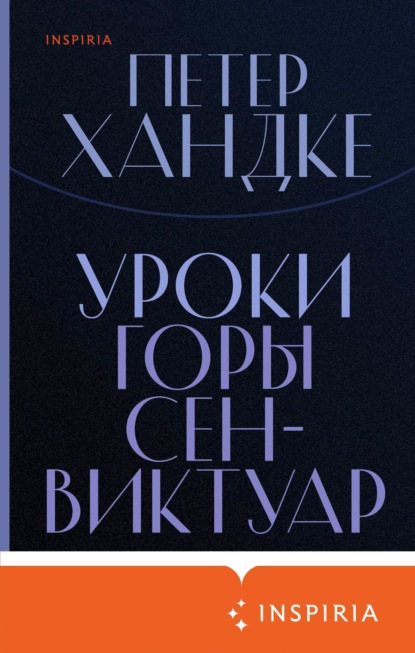По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Уроки горы Сен-Виктуар
Автор
Жанр
Год написания книги
1979
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он предпочитал рисовать, а не фотографировать, даже если речь шла о материале для работы, потому что только тогда он постигал ландшафт во всех его формах, и всякий раз он не уставал удивляться тому, какое множество форм обнаруживалось при этом даже в тех местах, которые на первый взгляд казались пустынными и монотонными. Кроме того, перенося на бумагу, линия за линией, рельеф той или иной местности – по возможности максимально точно, избегая принятой в его науке схематизации и ничего не опуская, – он одновременно приближал к себе эту местность, так что потом он с чистой совестью мог сказать, пусть всего-навсего самому себе, что действительно побывал там.
Водное пространство, как обычно в это время года, было пустынным, и вместе с тем оно казалось в это словно воссиявшее из недр земли утро как будто снова вздыбленным по краям той краткой эпохой рубежа веков, когда оно, со всеми тогдашними колесными пароходами, курсировавшими по нему, со всеми доками и складами, размещенными тут торговыми компаниями, со всеми золотоискателями, заполонившими все вокруг, влилось во всемирную историю: и все то, что безвозвратно ушло в пластмассовые дуршлаги из искусственной «trading post», в миниатюрные экспедиционные сани, которые вырезали индейцы, работавшие на дому, и стершиеся надписи на надгробиях, которые от резкой смены погоды здесь стираются быстрее, чем в других регионах земли, – все это двигалось, увлекаемое безвременно-бессознательным потоком, превратившись в сознательное вечное течение; и наблюдатель, ощутив умиротворение, утешился, повеселел, и ему захотелось что-нибудь сотворить.
Прочная матовая гладкая бумага блокнота, под углом очиненный карандаш для толстых и тонких линий, красота вспыхивающего и затухающего огонька сигареты, и безветрие, когда дым не улетает, а медленно стелется по земле.
Первые краски ландшафта как самодостаточные предметы: красный цвет щебенки, синий – канистры, желтый – ланцетовидных листьев, белый – березовых стволов. В траве виднелись раскрывшиеся бутоны дождевиков. А где-то там поднимался мохнатый стебель мака, цветок которого был не красного, а восхитительного матерчато-желтого цвета. Акации, как водится с темными колючками, росли тут только кустами, а не деревьями. От ярко-красных ягод рябины, внутри с ледяною мякотью, холоднее любого снежка, еще долго жгло ладони. Кирпично-красный цвет ивовых веток как на картинках. И почти такой же коричневый цвет косматой медвежьей шкуры, прибитой гвоздями к стене сарая.
Первые движения – легкий туман над поверхностью воды, тянущийся на восток. Из отверстий в глиняном берегу вылетело несколько ласточек-береговушек, которые тут же вернулись назад. Черные дворняги копались в мусоре, а потом превратились в гигантских ворон, взмыли в воздух и принялись кружить, с шумом взмахивая крыльями, над человеком; с хриплыми призывными криками они развернулись и полетели прочь; одна из них сделала еще круг над стоящим, она летела совершенно беззвучно и так низко, что взмах ее крыльев можно было принять за гудение приводного ремня.
Выброшенные за ночь на берег рыбы уже все были съедены; от выклеванных глаз остались только тут и там следы на мягком песке. Бездомная собака рыскала по берегу, серебристо-серого цвета, с голубоватыми глазами и белой мордой: настоящее лицо. Она подцепила мертвую чайку и принялась таскать ее по песку, вгрызаясь в нее клыками – единственный звук во всей округе. Цепные псы в поселке повылезали из землянок и, разбежавшись, насколько позволяли цепи, в стороны, скулили и подвывали, пока еще со сдержанной яростью.
Потом подключился обычный утренний шум от транспорта, но на земле не видно было ни одной машины, зато над кустами возникло множество небольших самолетов, и такие же небольшие самолеты загудели в пространстве на той стороне реки. «Ты должен знать, что еще ни один человек на свете не отдавался настолько, что ему уже нечего было бы больше отдать».
Кого ему чтить? Разве почитание не было его сокровенной потребностью? Разве он не хотел быть зависимым от кого-нибудь? Есть ли на свете тот, для кого он мог бы сделать что-нибудь? И где он теперь?
Банки из-под пива, не просто сплющенные колесами машин, но еще и вмятые в грунт дороги, являли собою неопровержимое доказательство дошедшего до предела насилия и неведомого ему доселе отчаяния, которое он теперь отчетливо ощущал, отчаяния от неисправимости дефекта и каменного отсутствия, от которого теперь взвыли все собаки в деревне, заходясь в бешеном лае.
Коллега Лауффер, облаченный уже в свою неизменную жилетку с множеством карманов и высокие сапоги, бегал теперь где-то на заднем плане перед развевающейся на ветру сетчатой корзиной, которая помещалась над входной дверью, и играл сам с собою в баскетбол, а Зоргер на подходе к дому прибавил шагу, подбежал и, перехватив у приятеля мяч, включился в игру.
Солнце начало подниматься, далеко-далеко в долине, медленно и немного под углом, оно затемнило ландшафт густыми тенями: и эта темнота или, скорее, тьма повисла на целый день, зияя между деревьями и кустами провалами, которые практически не уменьшались и никуда не смещались; и вот на этом самом месте с того самого момента, когда Зоргер включился в игру, время перевоплотилось, как на открытой сцене, в сумеречно-солнечное пространство, обыденно, без смены дня и ночи, и он утратил самоощущение: он не был ни активным носителем действия, ни бездействующим, ни вмешивающимся в ход событий, ни свидетелем.
Он как раз отпихнул своего противника, понюхал мяч, вдохнул запах чужого пота, потом своего, а сильный Лауффер обхватил его за пояс и, не церемонясь, отставил в сторону, – когда несколько отдельных ласточек, покинутых стаей, с белыми брюшками, более круглые и мелкие, чем в других местах, выпорхнуло из своих гнезд на берегу и устремилось на середину реки, чтобы потом, словно долетев до невидимой запретной черты, резко развернуться и полететь обратно, и так они носились целый день, повторяя это свое двучастное длинно-короткое движение, и все последующие дни, пересекаясь порою с неторопливо летевшим вверх по течению светло-белым орлом, с которым они проделывали тогда какую-то часть пути.
В этом временном пространстве царило бесконечное настоящее, бесконечная всеобщность, бесконечная обитаемость. Настоящее являло собою всесущее, где некогда любимые умершие дышали вместе со всеми, а самые далекие возлюбленные, находясь в доступном пространстве, чувствовали себя защищенными и пребывали в хорошем расположении духа; всеобщность была чужбиной, в которой не было больше вынужденного бегства или возвращения домой, как не было и принудительного участия в привычках местных коренных жителей; и обитаемость означала одомашненность и офабриченность всей местности, где была возможна индивидуальная отделенность при отсутствии необходимости следовать устоявшимся привычкам, какие обычно вырабатываются в жилых помещениях.
Осеннее солнце светило слабо, быть может, оно было жарким, а может, оно поблескивало где-то там, на поверхности воды, – в любом случае оно было чем-то бо?льшим, чем просто равнодушный источник света за спиной или перед глазами. И листья падали на тарелки, расставленные на столах, вынесенных на улицу, или сбивались в светлые стаи и неслись по течению реки; а может быть, это были вовсе не листья, птицами они вспархивали из травы и исчезали в кустах, застывали на месте, скованные закружившим их ужасом, чтобы потом помчаться земными тварями совсем в другом направлении, или выглядывать лягушачьими головами из-под желтого слоя листвы в черноватом болотце, или упасть на землю диким зверем, убежавшим далеко-далеко в долину и настигнутым пулей; а может быть, все это в конечном счете было лишь листьями (подобно тому как тела птиц, падавших с деревьев, оказывались всего-навсего корой, облетавшей на ветру).
В это время такие процессы протекали не просто как странные недоразумения, возникшие по безобидной неосмотрительности того, кто случайно упустил из виду отдельные детали и все перепутал, они были настойчивыми знаками, обращенными к самим процессам, которые, подобно времени года, преобразующемуся в большой круг («годовой цикл»), могут, каждый в отдельности, независимо от того, кто наблюдает за этим в данный момент, превращаться из однозначных временных процессов в многообразные пространственные события: путаница лишь на первый взгляд, на самом деле преображения, столь желанные вовне, там, где, согласно законам природного действа, в глубоком смотровом пространстве происходят «постоянные, уникальные» встречи растений с животными, с людьми, а также отсутствующего с происходящим там. Пейзаж, смешав в процессе преображения историю Зоргера с событием северной осени, превратился снова под действием этой человеческой истории во временной свод, внутри которого все еще пребывал этот самозабвенный человек, без судьбы, но и без ощущения неполноценности (вообще избавленный от чувства перемен).
В пейзаже даже было место (которое Зоргер каждый день зарисовывал), где вся эта всемирная история, в которой больше не происходило ничего выдающегося или хотя бы неожиданного, разворачивалась перед его взором в обозримом пространстве. Это место не то чтобы бросалось в глаза, как определенная точка или пятно; оно возникало лишь по мере того, как рисовальщик углублялся в процесс рисования, и только потому поддавалось описанию.
Речь шла о срединном участке совершенно обычного ландшафтного среза, выбранном Зоргером из-за изломанной линии, возникшей вследствие землетрясения на переднем плане, и фрагмента лёссовой террасы вдали. Этот срединный участок, в котором не было ничего особенного – ни единой ландшафтной формы, никакой заболоченной впадинки – и который он зарисовывал, подчиняясь своеобразному чувству долга, превратился со временем без каких бы то ни было усилий с его стороны в совершенно самостоятельную часть пейзажа. Это была совершенно гладкая степная поверхность, без древостоя или подлеска, с несколькими хижинами и прямой, будто начерченной по линейке, дорогой перед ними, на заднем плане ограниченная не слишком плотным лесным массивом, который, однако, был достаточно близко, чтобы хорошо видеть его, в то время как все то, что располагалось на переднем плане, все эти бесчисленные мелкие формы, доступные непосредственному наблюдению, складывались в глазах рисовальщика в некую разбитую на множество садовых участков полосу, тянувшуюся как будто по краю леса: между этими двумя участками, отчетливо выделявшимися на фоне общей картины пейзажа, виднелась бесформенная промежуточная территория, которая между тем находилась на одном и том же уровне с ними, как будто помещенная туда кем-то, напоминая луг, образовавшийся за несколько недель, и вместе с тем являя собою в конечном счете образец человеческой долины в области вполне допустимого вечного покоя.
Пересекавшие эту осенне-солнечную территорию индейцы передвигались по ней каждый божий день либо влево, по направлению к работе, либо назад, вправо, следуя домой, точно так же как их дети по утрам отправлялись в школу, каждый сам по себе, с тем чтобы днем, уже группами, вместе идти домой: здесь и проходили все их жизненные процессы без каких бы то ни было особых происшествий; всякий, кто вступал на эту сцену, заменял собою того, кто только что сошел с нее на другом конце; те же, чьи пути пересекались, останавливались ненадолго и снова расходились, они перемещались только между дворами и никогда не выходили за пределы общего пространства, занимаемого деревней, а лающие собаки в кузовах грузовиков выполняли роль их домашних животных, которых они выводили на прогулку.
Совершенно иначе, чем в супермаркетах, или в клубе, или в баре, выглядели все эти находящиеся в постоянном движении люди, перемещавшиеся по срединному участку, являя собою крепкое, живое, а по временам и весьма жизнерадостное сообщество; эта картина разрушала представление Зоргера о них, сложившееся из множества предубеждений, и он знал, что может верить этой картине. До сих пор индейцы действительно представали нередко как некая враждебная раса, а он сам был на их территории незваным гостем, который к тому же, если судить по внешним признакам, принадлежал к западной части мира. «Великий индейский народ» – так мог он когда-то думать про себя, теперь же, когда его наконец перестали воспринимать как «чужака» и вообще как «другого», он позволил себе включиться в их жизнь или же был просто рядом, что воспринималось как само собой разумеющееся; в результате их бесконечные ругательства в адрес «белых» относились к нему лишь в последнюю очередь.
Все эти месяцы они просто не замечали Зоргера. Они глядели прямо перед собой, когда он проходил мимо, иногда слегка задевали его, а потом оборачивались ему вслед, чтобы посмотреть, что это за препятствие возникло у них на пути, как оборачиваются после столкновения, чтобы понять, что это был за предмет, из-за которого все произошло; теперь же, когда он стал относиться к ним как к равноправным членам единой деревенской общины, он заметил, что и они со своей стороны стали хоть как-то его воспринимать, и он узнал, что только самому себе обязан тем, что они его не презирают. Правда, и теперь не бывало такого, чтобы они, проходя мимо, когда он стоял погруженный в свои мысли, со своими приборами, удостаивали его кивка головы, и все же с тех пор, как исчезли барьеры, отделявшие его от них, он был уверен, что стал им значительно ближе: он больше не мешал им, и они перестали напрягаться при виде его, уже одним только этим выказывая по отношению к нему некое внимание, что само по себе было знаком дружеского расположения.
У Зоргера было такое чувство, будто здесь, на этой сцене, он впервые видит, как играют дети индейцев, будто он вообще впервые видит детей за Полярным кругом, будто даже взрослые стали такими близкими и понятными, что у него появилось ощущение, словно и они, независимо от того, что они такое делают, – пусть даже просто проносятся в автомобиле, – они играют для него. Он стал раскованным, и они тут же принялись играть.
А вечером он и впрямь отправился в переполненный бар, где они сидели как в полутемном кинотеатре, друг за дружкой. Он ни на кого особенно не смотрел (его взгляд улавливал сразу множество лиц), и они не обращали на него особого внимания: только в их движениях вокруг его места чувствовалось внимание, в них было что-то от танца. Бывало, конечно, такое, что какая-нибудь физиономия с нескрываемой угрозой приблизится к нему, но уже через мгновение это лицо исчезало, сделавшись вполне миролюбивым, потому что в ответном взгляде не было никакой реакции на эту угрозу, но не на лицо. (Если же захмелевший забияка продолжал угрожающе стоять, потому что не желал вникать в смысл взгляда другого, то тогда обыкновенно подходила какая-нибудь индианка, из старших, поворачивала застывшую фигуру к себе и увлекала его за собою, погружая его в долгий печальный танец, после которого он уже не возвращался.)
Зоргер не был частью племени индейцев, но он сливался с ними, когда оказывался в помещении бара, или в поселке, или вообще на их территории; он не то чтобы забыл, что у них другой цвет кожи, он просто перестал ощущать собственный цвет кожи, когда находился среди них. Порою он даже думал, что мог бы вполне остаться здесь навсегда, войдя в один из их кланов; а может быть, все дело было в том осеннем пространстве, которое являло собою нечто вроде естественного представления, рожденного видениями дня, представления, которое затмевало мир личных представлений Зоргера: словно сама природа являла этому мужчине, довольному одним своим присутствием здесь, соответствующую сверхличную историю. Он жил бы здесь со своей семьей, в деревне, в которой, конечно же, есть церковь и школа, и, быть может, своей работой он смог бы даже приносить какую-то пользу общине. Церковь, школа, семья, деревня: за всем этим скрывались какие-то совершенно новые жизненные возможности, и Зоргер воспринимал теперь дым, который днем поднимался над крышами хижин, что стояли на срединной полосе, как нечто совершенно новое; разумеется, он уже не раз видел этот дым, но так, как теперь, он видел только однажды – вот только где и когда? Без «где и когда» – это было облегчение оттого, что теперь не нужно было думать, будто здешние люди – всеми забытые и никому не нужные, живущие на заброшенной полоске земли, «где ничего нет». Здесь было все.
Теперь он встречался с индианкой открыто и даже представил ее своему коллеге Лауфферу, хотя обычно он не афишировал свои связи с женщинами. «Это моя подруга», – сказал он, и с тех пор она иногда даже приходила к нему в дом с высокой крышей, приходила с детьми или же одна, чтобы составить партию в карты. Зоргеру даже хотелось показаться с ней, только он не знал кому. Прежде он никогда не чувствовал, что взгляд ее необыкновенных глаз с едва различимыми на фоне темной радужной оболочки черными зрачками обращен именно к нему, теперь же он доверял ей – и ловил ее взгляд (который был таким же, как и всегда). Бывая у нее, он по-прежнему как будто отсутствовал, но в то же время чувствовал постоянную связь с ней и не испытывал при этом больше чувства стыда, а только принадлежащее наконец только ему и никому больше желание, в котором теперь для него не было ничего странного. Ему казалось, будто только в ней он обретал настоящее ощущение притяжения земли; и как-то раз ночью они оказались на высокогорном плато, которое неожиданно оказалось слишком малым для них: они разрослись до нечеловеческих размеров и превратились, не веря самим себе от желания, в целый мир друг для друга.
Давным-давно Зоргер приписал себе способность к счастью. Эта способность проявлялась в виде братской легкомысленности, которая порою сообщалась и другим. Постепенно потребность в состоянии счастья исчезла; он даже боялся этого, как какой-нибудь болезни. И только иногда он несказанно удивлялся тому, как радостно бывает другим людям рядом с ним: именно это сообщило ему, пусть ненадолго, чувство уверенности в том, что он, живя против течения времени, все равно ведет правильную жизнь, хотя это и не избавляло от постоянно возникающего чувства вины за то, что он не беспокоился о продолжении. Правда, теперь он не обещал больше будущего, он был всего-навсего поводом; а ведь однажды ему привиделось, будто они с женщиной раскланялись и разошлись, каждый в свою сторону; но так, как они могли теперь быть вместе, – это было союзом навсегда.
Прощаясь, он свободно двигался теперь в другом языке, не стараясь, правда, при помощи особых словечек или интонации подделаться под местных. Он утратил ощущение собственного голоса в процессе говорения; подобно тому как он, являя собою сущность, оказался пережитым осенним ландшафтом, так и говорение представлялось ему сливающимся с говорением другого. Он вообще начал получать новое удовольствие от иностранных языков и собирался освоить еще несколько. Он сказал:
– В той стране, откуда я родом, невозможно было и помыслить себе, что ты принадлежишь к этой стране и к этим людям. Не было даже и самого представления «страна и люди». И вот теперь именно эти дикие места заставляют меня задуматься над тем, чем может быть деревня. Почему только эта чужая земля оказалась тем местом, где можно остаться?
Теперь и Лауффер, которому после его Европы казалось, будто время тут слишком тянется – он, как ребенок, рано ложился спать – «как в интернате, чтобы можно было подумать о родных» – и подолгу спал, он, как какой-нибудь добропорядочный крестьянин, хозяйничал в округе, словно это был его геологический сад.
Нередко он поднимался раньше своего приятеля и сооружал из бутылок, дощечек и металлических пластинок приборы, при помощи которых он мог фиксировать изменения берегов под действием воды и ветра, сдвиги склонов (подземное «оползание» или «течение»), вспучивание грунта, вызванное мерзлотой.
Лауффер, исследователь склонов, перестал в конце концов, как прежде, запаковывать себя в свой рабочий костюм, в котором он, надо сказать, выглядел по-исследовательски, но вместе с тем как-то удивительно бездарно: в своей полурасстегнутой фланелевой рубашке, в светлых льняных брюках, сужающихся книзу, на широких подтяжках, он превратился в обычную неспешную фигуру местного ландшафта, ничем не отличаясь от других.
Сооружал он в основном разнообразные так называемые песчаные ловушки – горизонтальные, с расположенными в ряд отделениями (они служили для измерения перемещения песка по горизонтали), и вертикальные, в несколько этажей, для измерения количества перемещенного ветром песка от поверхности земли вверх. Кроме того, он использовал бутылку-ловушку, которую он прятал в песке, так что наружу, из недр земного царства, неприметная постороннему глазу, выглядывала лишь вставленная в горлышко воронка, обращенная отверстием к скользящему по поверхности земли ветру. Свои многочисленные ящики для сбора мелкого щебня, размещенные им у основания каждого склона, добросовестный Лауффер, во избежание попадания щебеночных включений со стороны, которые искажали бы реальное движение склона, обнес заборчиками. А для того, чтобы можно было определить то, что в его терминологии называлось «раскаблучиванием» камней в недрах склона, он брал свинцовые пластинки и погружал их в вертикальном положении в отверстия в грунте, пользуясь при этом специальным зондом, который имел точно такую же форму, что и пластина, – так наблюдал он за перемещением щебенки, которое он измерял по наклону пластинки, после того как осторожно раскапывал ее. Оборудовав территорию всеми этими приспособлениями, он целыми днями ходил от одного к другому в ожидании результата, как какой-нибудь зверолов.
Но больше всего его привлекали участки земли под хижинами, покоящимися на сваях: эти малые грунтовые формы, не подверженные влиянию погодных условий сверху, были иными, чем те изначально родственные им формы за пределами свайного пространства, которые с течением времени подверглись разрушению.
Это микроскопическое наблюдение, ставшее его открытием, необычайно взволновало его: небольшая природная форма, не уничтоженная цивилизацией, а, напротив, сохранившаяся именно благодаря ей и почти что не тронутая временем. Аналогичное явление, только с обратным знаком, можно наблюдать в южноамериканской пустыне, где никогда не бывает ни дождей, ни оттепелей, где уже сто лет не было ветра и потому сохранились не тронутые природой следы человеческих ног и лошадиных копыт из давних-давних времен. (Горы в той пустыне под воздействием ветров стали совершенно темными, так что теперь излучаемое ими тепло не пропускает никакого ветра.) Лауффер хотел написать специальную работу, где собирался сравнить оба явления. «Это будет не исследование, – говорил он, – а скорее описание картин».
Зоргер сказал:
– У меня бывает так, что иногда, когда я пытаюсь представить себе возраст и возникновение различных форм в одном и том же ландшафте и то, как они соотносятся друг с другом, я, именно из-за головокружительного многообразия, открывающегося в этом одном-единственном емком воображаемом образе, начинаю, если мне все же удается в конце концов вызвать его, фантазировать. В такие мгновения я, не будучи философом, все же знаю, что я совершенно естественным образом философствую.
Лауффер:
– Но в этом случае твои мысли не имеют отношения ни к существу изучаемого предмета, как того требует профессиональный подход, ни к настоящей философии, судить о которой мы не имеем никакого права. Мне лично доставляет радость – при этом сугубо индивидуальную – только какая-нибудь мимолетная философская фантазия. Моя наука дает мне возможность видеть такие сны наяву, каких другие не видят даже во сне.
Зоргер:
– Тогда тебе есть что мне рассказать.
Лауффер:
– О ландшафте?
Зоргер:
– О ландшафте и о себе.
Страсть к собирательству; удовольствие от порядка (даже от прямоугольного стола); наслаждение просто от жизни в помещении; вновь обретенная радость ученичества; удовлетворенность телом: его потребностями, даже если это просто функционирование. И то, что ничего больше не нужно хотеть: не беда. Исполнение: ничего сверхъестественного. Мысль никуда не делась, но перестала упрямо думаться. Ощущение постоянно теплой головы: нет личных мыслей, нет никакой устремленности к концу, нет никого, кто, задыхаясь, продумал бы тебя («помоги мне»), есть только глубокое дыхание («кому быть благодарным?»), а потом – ничего кроме со-мыслия. Со-мыслие с землей в мысленном представлении о земле как о мыслящем мире без границ. Мире, приведенном в движение моим собственным кровообращением, мире, который кружится вместе со мною, наконец-то помысленным как нечто всего лишь мыслимое. И больше никакой крови, никакого сердцебиения, никакого человеческого времени: только мощно пульсирующая и содрогающаяся от собственного пульса всепрозрачность – и ничего больше. И нет столетия, есть только время года. Лечь – встать, встать – прыгнуть и побежать. Желание говорить и спорить. Нежелание играть, но вместе с тем удовольствие наблюдать за тем, как играют другие. Сильный порыв ветра, но ни один лист не падает с берез. Некоторое время тишина: а потом другой легкий ветер, и листья стаями слетают на землю. Высохшая пойма реки и сбившиеся в стаю чайки, которых с неспешностью облака относит куда-то в сторону. Белый вороний помет на дохлых рыбинах, из которых торчат ивовые прутья. Стреляные гильзы на песке, выстрелы где-то в другом месте. На стуле в доме висит рубашка, сквозь верхнюю петельку просвечивает низкое солнце. Комната, вздрагивающая под тенью пролетающей птицы (или самолета). «Привет вам, улыбающиеся мертвецы»: но только собственная память улыбается в голове подо лбом, слишком слабая, чтобы вернуть мертвецов, которые на мгновение всплывают наподобие скособочившихся мешков. Эй, река! И ты, дом! (Выкрики.) В проеме открытого окна снаружи стоит вернувшийся с работы друг. В лужах кружатся по кругу листья. И травинки кажутся опавшими листьями.
День накануне отъезда Зоргера из северной долины совпал с годовщиной открытия континента и считался праздничным. Была уже почти середина октября, и с утра на реке было слышно легкое пощелкивание воды о тонкую кромку льда, выросшего внизу у высоких берегов; на льду лежали разбросанные кристаллики снега; небольшие льдины на поверхности воды оказались все теми же чайками, которых сносило все дальше и дальше.
Рядом с заброшенной, уже полуразвалившейся хижиной стояла береза, на которой все еще висела баскетбольная корзина с сеткой, завернувшейся от сильного порыва ветра на железное кольцо. Испещренная мелкими морщинами река являла собою ландшафт, в котором движение ветра отметило темные места наподобие песчаных отмелей, перемещающихся под водой. Белые стволы деревьев с пятнами теней нередко напоминали Зоргеру впоследствии кошку, как она, свернувшись клубком, лежала на столе перед окном, такая уютная и домашняя, какими бывают только домашние животные.
Лауффер еще спал, свернувшись калачиком, как кошка; среди ночи он встал и отправился в гостиную. На вопрос о том, что он там делал, он только пошевелил своими толстыми губами (которые напомнили сидящему в постели Зоргеру брата) и что-то пробормотал, с трудом ворочая языком, при каждом звуке закрывая глаза (не просто моргая), как это у него непроизвольно получалось, когда он лгал: только тогда Зоргер понял, что его друг страдает лунатизмом.
Теперь он выглядел так, будто собирался еще долго спать; а в его ловушки тем временем ветер нагнал большой улов. Глядя на него и на животное у окна, Зоргер вновь обрел (столь легкомысленно забытое) чувство течения времени и одновременно с этим обнаружил, как не хватало ему его собственного невесомого бытия последних дней, которые прошли у него так, словно уже «настало время, когда его здесь не будет»: во всех этих картинах, свободно разворачивающихся на среднем плане без рождения и смерти, ему тем не менее не хватало не столько чувства самого себя, сколько осознания себя как чувства формы: и открыл он ее только сейчас, когда, глядя на скрюченного лежащего человека, осознал себя созерцающим, в овале его смертных глаз, прозревающих еще только чистую образность – осознание было чувством этой формы, и чувство формы было умиротворением. – Нет, он не хотел быть ничем.
Зоргер вместе с кошкой, которая последовала за ним и «сегодня, казалось, кое-что знала», вышел на улицу. На песке были выложены кольцами выброшенные на берег палки, или их прибило сюда так случайно, и он представил себе, что, быть может, это индейцы решили этими кольцами отгородиться от праздника и от тех, о ком нужно было вспоминать в связи с этим, и весь поселок предстал перед ним как некое тайное кольцо, внутри которого он, как посвященный, совершает свой последний обход.
И действительно, кое-где телеграфные столбы на военной дороге были расписаны тотемными символами. Следы от шин на раскисшей дороге можно было вполне принять за индейскую тайнопись; а лосиные рога, красовавшиеся над дверями приземистых деревянных клозетов, призваны были, наверное, отпугивать чужаков, которые проникли сюда, не имея на то никакого права. «Да, открыто» – эта обычная общеконтинентальная формула на дверях супермаркета приобретала в этот день государственного праздника другое, особое значение, а из полицейской машины, проносящейся мимо (Зоргеру еще ни разу не доводилось видеть ничего подобного в здешних местах), смотрели торжественным строем невозмутимые анонимные лица оккупационной власти, на которую народ только и мог что спустить своих собак.
Водное пространство, как обычно в это время года, было пустынным, и вместе с тем оно казалось в это словно воссиявшее из недр земли утро как будто снова вздыбленным по краям той краткой эпохой рубежа веков, когда оно, со всеми тогдашними колесными пароходами, курсировавшими по нему, со всеми доками и складами, размещенными тут торговыми компаниями, со всеми золотоискателями, заполонившими все вокруг, влилось во всемирную историю: и все то, что безвозвратно ушло в пластмассовые дуршлаги из искусственной «trading post», в миниатюрные экспедиционные сани, которые вырезали индейцы, работавшие на дому, и стершиеся надписи на надгробиях, которые от резкой смены погоды здесь стираются быстрее, чем в других регионах земли, – все это двигалось, увлекаемое безвременно-бессознательным потоком, превратившись в сознательное вечное течение; и наблюдатель, ощутив умиротворение, утешился, повеселел, и ему захотелось что-нибудь сотворить.
Прочная матовая гладкая бумага блокнота, под углом очиненный карандаш для толстых и тонких линий, красота вспыхивающего и затухающего огонька сигареты, и безветрие, когда дым не улетает, а медленно стелется по земле.
Первые краски ландшафта как самодостаточные предметы: красный цвет щебенки, синий – канистры, желтый – ланцетовидных листьев, белый – березовых стволов. В траве виднелись раскрывшиеся бутоны дождевиков. А где-то там поднимался мохнатый стебель мака, цветок которого был не красного, а восхитительного матерчато-желтого цвета. Акации, как водится с темными колючками, росли тут только кустами, а не деревьями. От ярко-красных ягод рябины, внутри с ледяною мякотью, холоднее любого снежка, еще долго жгло ладони. Кирпично-красный цвет ивовых веток как на картинках. И почти такой же коричневый цвет косматой медвежьей шкуры, прибитой гвоздями к стене сарая.
Первые движения – легкий туман над поверхностью воды, тянущийся на восток. Из отверстий в глиняном берегу вылетело несколько ласточек-береговушек, которые тут же вернулись назад. Черные дворняги копались в мусоре, а потом превратились в гигантских ворон, взмыли в воздух и принялись кружить, с шумом взмахивая крыльями, над человеком; с хриплыми призывными криками они развернулись и полетели прочь; одна из них сделала еще круг над стоящим, она летела совершенно беззвучно и так низко, что взмах ее крыльев можно было принять за гудение приводного ремня.
Выброшенные за ночь на берег рыбы уже все были съедены; от выклеванных глаз остались только тут и там следы на мягком песке. Бездомная собака рыскала по берегу, серебристо-серого цвета, с голубоватыми глазами и белой мордой: настоящее лицо. Она подцепила мертвую чайку и принялась таскать ее по песку, вгрызаясь в нее клыками – единственный звук во всей округе. Цепные псы в поселке повылезали из землянок и, разбежавшись, насколько позволяли цепи, в стороны, скулили и подвывали, пока еще со сдержанной яростью.
Потом подключился обычный утренний шум от транспорта, но на земле не видно было ни одной машины, зато над кустами возникло множество небольших самолетов, и такие же небольшие самолеты загудели в пространстве на той стороне реки. «Ты должен знать, что еще ни один человек на свете не отдавался настолько, что ему уже нечего было бы больше отдать».
Кого ему чтить? Разве почитание не было его сокровенной потребностью? Разве он не хотел быть зависимым от кого-нибудь? Есть ли на свете тот, для кого он мог бы сделать что-нибудь? И где он теперь?
Банки из-под пива, не просто сплющенные колесами машин, но еще и вмятые в грунт дороги, являли собою неопровержимое доказательство дошедшего до предела насилия и неведомого ему доселе отчаяния, которое он теперь отчетливо ощущал, отчаяния от неисправимости дефекта и каменного отсутствия, от которого теперь взвыли все собаки в деревне, заходясь в бешеном лае.
Коллега Лауффер, облаченный уже в свою неизменную жилетку с множеством карманов и высокие сапоги, бегал теперь где-то на заднем плане перед развевающейся на ветру сетчатой корзиной, которая помещалась над входной дверью, и играл сам с собою в баскетбол, а Зоргер на подходе к дому прибавил шагу, подбежал и, перехватив у приятеля мяч, включился в игру.
Солнце начало подниматься, далеко-далеко в долине, медленно и немного под углом, оно затемнило ландшафт густыми тенями: и эта темнота или, скорее, тьма повисла на целый день, зияя между деревьями и кустами провалами, которые практически не уменьшались и никуда не смещались; и вот на этом самом месте с того самого момента, когда Зоргер включился в игру, время перевоплотилось, как на открытой сцене, в сумеречно-солнечное пространство, обыденно, без смены дня и ночи, и он утратил самоощущение: он не был ни активным носителем действия, ни бездействующим, ни вмешивающимся в ход событий, ни свидетелем.
Он как раз отпихнул своего противника, понюхал мяч, вдохнул запах чужого пота, потом своего, а сильный Лауффер обхватил его за пояс и, не церемонясь, отставил в сторону, – когда несколько отдельных ласточек, покинутых стаей, с белыми брюшками, более круглые и мелкие, чем в других местах, выпорхнуло из своих гнезд на берегу и устремилось на середину реки, чтобы потом, словно долетев до невидимой запретной черты, резко развернуться и полететь обратно, и так они носились целый день, повторяя это свое двучастное длинно-короткое движение, и все последующие дни, пересекаясь порою с неторопливо летевшим вверх по течению светло-белым орлом, с которым они проделывали тогда какую-то часть пути.
В этом временном пространстве царило бесконечное настоящее, бесконечная всеобщность, бесконечная обитаемость. Настоящее являло собою всесущее, где некогда любимые умершие дышали вместе со всеми, а самые далекие возлюбленные, находясь в доступном пространстве, чувствовали себя защищенными и пребывали в хорошем расположении духа; всеобщность была чужбиной, в которой не было больше вынужденного бегства или возвращения домой, как не было и принудительного участия в привычках местных коренных жителей; и обитаемость означала одомашненность и офабриченность всей местности, где была возможна индивидуальная отделенность при отсутствии необходимости следовать устоявшимся привычкам, какие обычно вырабатываются в жилых помещениях.
Осеннее солнце светило слабо, быть может, оно было жарким, а может, оно поблескивало где-то там, на поверхности воды, – в любом случае оно было чем-то бо?льшим, чем просто равнодушный источник света за спиной или перед глазами. И листья падали на тарелки, расставленные на столах, вынесенных на улицу, или сбивались в светлые стаи и неслись по течению реки; а может быть, это были вовсе не листья, птицами они вспархивали из травы и исчезали в кустах, застывали на месте, скованные закружившим их ужасом, чтобы потом помчаться земными тварями совсем в другом направлении, или выглядывать лягушачьими головами из-под желтого слоя листвы в черноватом болотце, или упасть на землю диким зверем, убежавшим далеко-далеко в долину и настигнутым пулей; а может быть, все это в конечном счете было лишь листьями (подобно тому как тела птиц, падавших с деревьев, оказывались всего-навсего корой, облетавшей на ветру).
В это время такие процессы протекали не просто как странные недоразумения, возникшие по безобидной неосмотрительности того, кто случайно упустил из виду отдельные детали и все перепутал, они были настойчивыми знаками, обращенными к самим процессам, которые, подобно времени года, преобразующемуся в большой круг («годовой цикл»), могут, каждый в отдельности, независимо от того, кто наблюдает за этим в данный момент, превращаться из однозначных временных процессов в многообразные пространственные события: путаница лишь на первый взгляд, на самом деле преображения, столь желанные вовне, там, где, согласно законам природного действа, в глубоком смотровом пространстве происходят «постоянные, уникальные» встречи растений с животными, с людьми, а также отсутствующего с происходящим там. Пейзаж, смешав в процессе преображения историю Зоргера с событием северной осени, превратился снова под действием этой человеческой истории во временной свод, внутри которого все еще пребывал этот самозабвенный человек, без судьбы, но и без ощущения неполноценности (вообще избавленный от чувства перемен).
В пейзаже даже было место (которое Зоргер каждый день зарисовывал), где вся эта всемирная история, в которой больше не происходило ничего выдающегося или хотя бы неожиданного, разворачивалась перед его взором в обозримом пространстве. Это место не то чтобы бросалось в глаза, как определенная точка или пятно; оно возникало лишь по мере того, как рисовальщик углублялся в процесс рисования, и только потому поддавалось описанию.
Речь шла о срединном участке совершенно обычного ландшафтного среза, выбранном Зоргером из-за изломанной линии, возникшей вследствие землетрясения на переднем плане, и фрагмента лёссовой террасы вдали. Этот срединный участок, в котором не было ничего особенного – ни единой ландшафтной формы, никакой заболоченной впадинки – и который он зарисовывал, подчиняясь своеобразному чувству долга, превратился со временем без каких бы то ни было усилий с его стороны в совершенно самостоятельную часть пейзажа. Это была совершенно гладкая степная поверхность, без древостоя или подлеска, с несколькими хижинами и прямой, будто начерченной по линейке, дорогой перед ними, на заднем плане ограниченная не слишком плотным лесным массивом, который, однако, был достаточно близко, чтобы хорошо видеть его, в то время как все то, что располагалось на переднем плане, все эти бесчисленные мелкие формы, доступные непосредственному наблюдению, складывались в глазах рисовальщика в некую разбитую на множество садовых участков полосу, тянувшуюся как будто по краю леса: между этими двумя участками, отчетливо выделявшимися на фоне общей картины пейзажа, виднелась бесформенная промежуточная территория, которая между тем находилась на одном и том же уровне с ними, как будто помещенная туда кем-то, напоминая луг, образовавшийся за несколько недель, и вместе с тем являя собою в конечном счете образец человеческой долины в области вполне допустимого вечного покоя.
Пересекавшие эту осенне-солнечную территорию индейцы передвигались по ней каждый божий день либо влево, по направлению к работе, либо назад, вправо, следуя домой, точно так же как их дети по утрам отправлялись в школу, каждый сам по себе, с тем чтобы днем, уже группами, вместе идти домой: здесь и проходили все их жизненные процессы без каких бы то ни было особых происшествий; всякий, кто вступал на эту сцену, заменял собою того, кто только что сошел с нее на другом конце; те же, чьи пути пересекались, останавливались ненадолго и снова расходились, они перемещались только между дворами и никогда не выходили за пределы общего пространства, занимаемого деревней, а лающие собаки в кузовах грузовиков выполняли роль их домашних животных, которых они выводили на прогулку.
Совершенно иначе, чем в супермаркетах, или в клубе, или в баре, выглядели все эти находящиеся в постоянном движении люди, перемещавшиеся по срединному участку, являя собою крепкое, живое, а по временам и весьма жизнерадостное сообщество; эта картина разрушала представление Зоргера о них, сложившееся из множества предубеждений, и он знал, что может верить этой картине. До сих пор индейцы действительно представали нередко как некая враждебная раса, а он сам был на их территории незваным гостем, который к тому же, если судить по внешним признакам, принадлежал к западной части мира. «Великий индейский народ» – так мог он когда-то думать про себя, теперь же, когда его наконец перестали воспринимать как «чужака» и вообще как «другого», он позволил себе включиться в их жизнь или же был просто рядом, что воспринималось как само собой разумеющееся; в результате их бесконечные ругательства в адрес «белых» относились к нему лишь в последнюю очередь.
Все эти месяцы они просто не замечали Зоргера. Они глядели прямо перед собой, когда он проходил мимо, иногда слегка задевали его, а потом оборачивались ему вслед, чтобы посмотреть, что это за препятствие возникло у них на пути, как оборачиваются после столкновения, чтобы понять, что это был за предмет, из-за которого все произошло; теперь же, когда он стал относиться к ним как к равноправным членам единой деревенской общины, он заметил, что и они со своей стороны стали хоть как-то его воспринимать, и он узнал, что только самому себе обязан тем, что они его не презирают. Правда, и теперь не бывало такого, чтобы они, проходя мимо, когда он стоял погруженный в свои мысли, со своими приборами, удостаивали его кивка головы, и все же с тех пор, как исчезли барьеры, отделявшие его от них, он был уверен, что стал им значительно ближе: он больше не мешал им, и они перестали напрягаться при виде его, уже одним только этим выказывая по отношению к нему некое внимание, что само по себе было знаком дружеского расположения.
У Зоргера было такое чувство, будто здесь, на этой сцене, он впервые видит, как играют дети индейцев, будто он вообще впервые видит детей за Полярным кругом, будто даже взрослые стали такими близкими и понятными, что у него появилось ощущение, словно и они, независимо от того, что они такое делают, – пусть даже просто проносятся в автомобиле, – они играют для него. Он стал раскованным, и они тут же принялись играть.
А вечером он и впрямь отправился в переполненный бар, где они сидели как в полутемном кинотеатре, друг за дружкой. Он ни на кого особенно не смотрел (его взгляд улавливал сразу множество лиц), и они не обращали на него особого внимания: только в их движениях вокруг его места чувствовалось внимание, в них было что-то от танца. Бывало, конечно, такое, что какая-нибудь физиономия с нескрываемой угрозой приблизится к нему, но уже через мгновение это лицо исчезало, сделавшись вполне миролюбивым, потому что в ответном взгляде не было никакой реакции на эту угрозу, но не на лицо. (Если же захмелевший забияка продолжал угрожающе стоять, потому что не желал вникать в смысл взгляда другого, то тогда обыкновенно подходила какая-нибудь индианка, из старших, поворачивала застывшую фигуру к себе и увлекала его за собою, погружая его в долгий печальный танец, после которого он уже не возвращался.)
Зоргер не был частью племени индейцев, но он сливался с ними, когда оказывался в помещении бара, или в поселке, или вообще на их территории; он не то чтобы забыл, что у них другой цвет кожи, он просто перестал ощущать собственный цвет кожи, когда находился среди них. Порою он даже думал, что мог бы вполне остаться здесь навсегда, войдя в один из их кланов; а может быть, все дело было в том осеннем пространстве, которое являло собою нечто вроде естественного представления, рожденного видениями дня, представления, которое затмевало мир личных представлений Зоргера: словно сама природа являла этому мужчине, довольному одним своим присутствием здесь, соответствующую сверхличную историю. Он жил бы здесь со своей семьей, в деревне, в которой, конечно же, есть церковь и школа, и, быть может, своей работой он смог бы даже приносить какую-то пользу общине. Церковь, школа, семья, деревня: за всем этим скрывались какие-то совершенно новые жизненные возможности, и Зоргер воспринимал теперь дым, который днем поднимался над крышами хижин, что стояли на срединной полосе, как нечто совершенно новое; разумеется, он уже не раз видел этот дым, но так, как теперь, он видел только однажды – вот только где и когда? Без «где и когда» – это было облегчение оттого, что теперь не нужно было думать, будто здешние люди – всеми забытые и никому не нужные, живущие на заброшенной полоске земли, «где ничего нет». Здесь было все.
Теперь он встречался с индианкой открыто и даже представил ее своему коллеге Лауфферу, хотя обычно он не афишировал свои связи с женщинами. «Это моя подруга», – сказал он, и с тех пор она иногда даже приходила к нему в дом с высокой крышей, приходила с детьми или же одна, чтобы составить партию в карты. Зоргеру даже хотелось показаться с ней, только он не знал кому. Прежде он никогда не чувствовал, что взгляд ее необыкновенных глаз с едва различимыми на фоне темной радужной оболочки черными зрачками обращен именно к нему, теперь же он доверял ей – и ловил ее взгляд (который был таким же, как и всегда). Бывая у нее, он по-прежнему как будто отсутствовал, но в то же время чувствовал постоянную связь с ней и не испытывал при этом больше чувства стыда, а только принадлежащее наконец только ему и никому больше желание, в котором теперь для него не было ничего странного. Ему казалось, будто только в ней он обретал настоящее ощущение притяжения земли; и как-то раз ночью они оказались на высокогорном плато, которое неожиданно оказалось слишком малым для них: они разрослись до нечеловеческих размеров и превратились, не веря самим себе от желания, в целый мир друг для друга.
Давным-давно Зоргер приписал себе способность к счастью. Эта способность проявлялась в виде братской легкомысленности, которая порою сообщалась и другим. Постепенно потребность в состоянии счастья исчезла; он даже боялся этого, как какой-нибудь болезни. И только иногда он несказанно удивлялся тому, как радостно бывает другим людям рядом с ним: именно это сообщило ему, пусть ненадолго, чувство уверенности в том, что он, живя против течения времени, все равно ведет правильную жизнь, хотя это и не избавляло от постоянно возникающего чувства вины за то, что он не беспокоился о продолжении. Правда, теперь он не обещал больше будущего, он был всего-навсего поводом; а ведь однажды ему привиделось, будто они с женщиной раскланялись и разошлись, каждый в свою сторону; но так, как они могли теперь быть вместе, – это было союзом навсегда.
Прощаясь, он свободно двигался теперь в другом языке, не стараясь, правда, при помощи особых словечек или интонации подделаться под местных. Он утратил ощущение собственного голоса в процессе говорения; подобно тому как он, являя собою сущность, оказался пережитым осенним ландшафтом, так и говорение представлялось ему сливающимся с говорением другого. Он вообще начал получать новое удовольствие от иностранных языков и собирался освоить еще несколько. Он сказал:
– В той стране, откуда я родом, невозможно было и помыслить себе, что ты принадлежишь к этой стране и к этим людям. Не было даже и самого представления «страна и люди». И вот теперь именно эти дикие места заставляют меня задуматься над тем, чем может быть деревня. Почему только эта чужая земля оказалась тем местом, где можно остаться?
Теперь и Лауффер, которому после его Европы казалось, будто время тут слишком тянется – он, как ребенок, рано ложился спать – «как в интернате, чтобы можно было подумать о родных» – и подолгу спал, он, как какой-нибудь добропорядочный крестьянин, хозяйничал в округе, словно это был его геологический сад.
Нередко он поднимался раньше своего приятеля и сооружал из бутылок, дощечек и металлических пластинок приборы, при помощи которых он мог фиксировать изменения берегов под действием воды и ветра, сдвиги склонов (подземное «оползание» или «течение»), вспучивание грунта, вызванное мерзлотой.
Лауффер, исследователь склонов, перестал в конце концов, как прежде, запаковывать себя в свой рабочий костюм, в котором он, надо сказать, выглядел по-исследовательски, но вместе с тем как-то удивительно бездарно: в своей полурасстегнутой фланелевой рубашке, в светлых льняных брюках, сужающихся книзу, на широких подтяжках, он превратился в обычную неспешную фигуру местного ландшафта, ничем не отличаясь от других.
Сооружал он в основном разнообразные так называемые песчаные ловушки – горизонтальные, с расположенными в ряд отделениями (они служили для измерения перемещения песка по горизонтали), и вертикальные, в несколько этажей, для измерения количества перемещенного ветром песка от поверхности земли вверх. Кроме того, он использовал бутылку-ловушку, которую он прятал в песке, так что наружу, из недр земного царства, неприметная постороннему глазу, выглядывала лишь вставленная в горлышко воронка, обращенная отверстием к скользящему по поверхности земли ветру. Свои многочисленные ящики для сбора мелкого щебня, размещенные им у основания каждого склона, добросовестный Лауффер, во избежание попадания щебеночных включений со стороны, которые искажали бы реальное движение склона, обнес заборчиками. А для того, чтобы можно было определить то, что в его терминологии называлось «раскаблучиванием» камней в недрах склона, он брал свинцовые пластинки и погружал их в вертикальном положении в отверстия в грунте, пользуясь при этом специальным зондом, который имел точно такую же форму, что и пластина, – так наблюдал он за перемещением щебенки, которое он измерял по наклону пластинки, после того как осторожно раскапывал ее. Оборудовав территорию всеми этими приспособлениями, он целыми днями ходил от одного к другому в ожидании результата, как какой-нибудь зверолов.
Но больше всего его привлекали участки земли под хижинами, покоящимися на сваях: эти малые грунтовые формы, не подверженные влиянию погодных условий сверху, были иными, чем те изначально родственные им формы за пределами свайного пространства, которые с течением времени подверглись разрушению.
Это микроскопическое наблюдение, ставшее его открытием, необычайно взволновало его: небольшая природная форма, не уничтоженная цивилизацией, а, напротив, сохранившаяся именно благодаря ей и почти что не тронутая временем. Аналогичное явление, только с обратным знаком, можно наблюдать в южноамериканской пустыне, где никогда не бывает ни дождей, ни оттепелей, где уже сто лет не было ветра и потому сохранились не тронутые природой следы человеческих ног и лошадиных копыт из давних-давних времен. (Горы в той пустыне под воздействием ветров стали совершенно темными, так что теперь излучаемое ими тепло не пропускает никакого ветра.) Лауффер хотел написать специальную работу, где собирался сравнить оба явления. «Это будет не исследование, – говорил он, – а скорее описание картин».
Зоргер сказал:
– У меня бывает так, что иногда, когда я пытаюсь представить себе возраст и возникновение различных форм в одном и том же ландшафте и то, как они соотносятся друг с другом, я, именно из-за головокружительного многообразия, открывающегося в этом одном-единственном емком воображаемом образе, начинаю, если мне все же удается в конце концов вызвать его, фантазировать. В такие мгновения я, не будучи философом, все же знаю, что я совершенно естественным образом философствую.
Лауффер:
– Но в этом случае твои мысли не имеют отношения ни к существу изучаемого предмета, как того требует профессиональный подход, ни к настоящей философии, судить о которой мы не имеем никакого права. Мне лично доставляет радость – при этом сугубо индивидуальную – только какая-нибудь мимолетная философская фантазия. Моя наука дает мне возможность видеть такие сны наяву, каких другие не видят даже во сне.
Зоргер:
– Тогда тебе есть что мне рассказать.
Лауффер:
– О ландшафте?
Зоргер:
– О ландшафте и о себе.
Страсть к собирательству; удовольствие от порядка (даже от прямоугольного стола); наслаждение просто от жизни в помещении; вновь обретенная радость ученичества; удовлетворенность телом: его потребностями, даже если это просто функционирование. И то, что ничего больше не нужно хотеть: не беда. Исполнение: ничего сверхъестественного. Мысль никуда не делась, но перестала упрямо думаться. Ощущение постоянно теплой головы: нет личных мыслей, нет никакой устремленности к концу, нет никого, кто, задыхаясь, продумал бы тебя («помоги мне»), есть только глубокое дыхание («кому быть благодарным?»), а потом – ничего кроме со-мыслия. Со-мыслие с землей в мысленном представлении о земле как о мыслящем мире без границ. Мире, приведенном в движение моим собственным кровообращением, мире, который кружится вместе со мною, наконец-то помысленным как нечто всего лишь мыслимое. И больше никакой крови, никакого сердцебиения, никакого человеческого времени: только мощно пульсирующая и содрогающаяся от собственного пульса всепрозрачность – и ничего больше. И нет столетия, есть только время года. Лечь – встать, встать – прыгнуть и побежать. Желание говорить и спорить. Нежелание играть, но вместе с тем удовольствие наблюдать за тем, как играют другие. Сильный порыв ветра, но ни один лист не падает с берез. Некоторое время тишина: а потом другой легкий ветер, и листья стаями слетают на землю. Высохшая пойма реки и сбившиеся в стаю чайки, которых с неспешностью облака относит куда-то в сторону. Белый вороний помет на дохлых рыбинах, из которых торчат ивовые прутья. Стреляные гильзы на песке, выстрелы где-то в другом месте. На стуле в доме висит рубашка, сквозь верхнюю петельку просвечивает низкое солнце. Комната, вздрагивающая под тенью пролетающей птицы (или самолета). «Привет вам, улыбающиеся мертвецы»: но только собственная память улыбается в голове подо лбом, слишком слабая, чтобы вернуть мертвецов, которые на мгновение всплывают наподобие скособочившихся мешков. Эй, река! И ты, дом! (Выкрики.) В проеме открытого окна снаружи стоит вернувшийся с работы друг. В лужах кружатся по кругу листья. И травинки кажутся опавшими листьями.
День накануне отъезда Зоргера из северной долины совпал с годовщиной открытия континента и считался праздничным. Была уже почти середина октября, и с утра на реке было слышно легкое пощелкивание воды о тонкую кромку льда, выросшего внизу у высоких берегов; на льду лежали разбросанные кристаллики снега; небольшие льдины на поверхности воды оказались все теми же чайками, которых сносило все дальше и дальше.
Рядом с заброшенной, уже полуразвалившейся хижиной стояла береза, на которой все еще висела баскетбольная корзина с сеткой, завернувшейся от сильного порыва ветра на железное кольцо. Испещренная мелкими морщинами река являла собою ландшафт, в котором движение ветра отметило темные места наподобие песчаных отмелей, перемещающихся под водой. Белые стволы деревьев с пятнами теней нередко напоминали Зоргеру впоследствии кошку, как она, свернувшись клубком, лежала на столе перед окном, такая уютная и домашняя, какими бывают только домашние животные.
Лауффер еще спал, свернувшись калачиком, как кошка; среди ночи он встал и отправился в гостиную. На вопрос о том, что он там делал, он только пошевелил своими толстыми губами (которые напомнили сидящему в постели Зоргеру брата) и что-то пробормотал, с трудом ворочая языком, при каждом звуке закрывая глаза (не просто моргая), как это у него непроизвольно получалось, когда он лгал: только тогда Зоргер понял, что его друг страдает лунатизмом.
Теперь он выглядел так, будто собирался еще долго спать; а в его ловушки тем временем ветер нагнал большой улов. Глядя на него и на животное у окна, Зоргер вновь обрел (столь легкомысленно забытое) чувство течения времени и одновременно с этим обнаружил, как не хватало ему его собственного невесомого бытия последних дней, которые прошли у него так, словно уже «настало время, когда его здесь не будет»: во всех этих картинах, свободно разворачивающихся на среднем плане без рождения и смерти, ему тем не менее не хватало не столько чувства самого себя, сколько осознания себя как чувства формы: и открыл он ее только сейчас, когда, глядя на скрюченного лежащего человека, осознал себя созерцающим, в овале его смертных глаз, прозревающих еще только чистую образность – осознание было чувством этой формы, и чувство формы было умиротворением. – Нет, он не хотел быть ничем.
Зоргер вместе с кошкой, которая последовала за ним и «сегодня, казалось, кое-что знала», вышел на улицу. На песке были выложены кольцами выброшенные на берег палки, или их прибило сюда так случайно, и он представил себе, что, быть может, это индейцы решили этими кольцами отгородиться от праздника и от тех, о ком нужно было вспоминать в связи с этим, и весь поселок предстал перед ним как некое тайное кольцо, внутри которого он, как посвященный, совершает свой последний обход.
И действительно, кое-где телеграфные столбы на военной дороге были расписаны тотемными символами. Следы от шин на раскисшей дороге можно было вполне принять за индейскую тайнопись; а лосиные рога, красовавшиеся над дверями приземистых деревянных клозетов, призваны были, наверное, отпугивать чужаков, которые проникли сюда, не имея на то никакого права. «Да, открыто» – эта обычная общеконтинентальная формула на дверях супермаркета приобретала в этот день государственного праздника другое, особое значение, а из полицейской машины, проносящейся мимо (Зоргеру еще ни разу не доводилось видеть ничего подобного в здешних местах), смотрели торжественным строем невозмутимые анонимные лица оккупационной власти, на которую народ только и мог что спустить своих собак.