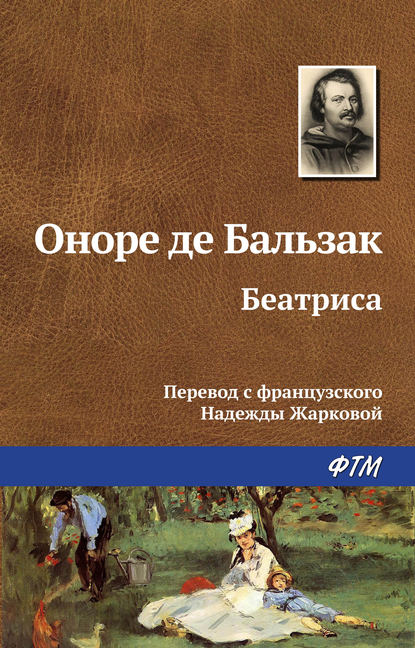По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Беатриса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В течение двух месяцев вся Геранда, видя, как ее гордость, ее цвет – Каллист дю Геник то вечером, то утром, а чаще всего и утром и вечером шагает по направлению к Тушу, не сомневалась, что мадемуазель Фелисите де Туш безумно влюблена в этого красавца и что на нем она испытывает свои чары. Не одна юная девица, не одна молодая дама безуспешно старалась понять, каким же волшебством старая женщина могла покорить своей власти их ангела. Итак, когда Каллист шел по Главной улице, направляясь к Круазикским воротам, немало женских глаз украдкой следило за ним.
Здесь мы должны разъяснить ходившие по городу слухи относительно той особы, к которой направлялся сейчас Каллист. Эти слухи, удесятеренные бретонскими сплетниками, раздутые невежеством герандцев, дошли до священника. Сборщик налогов, мировой судья, директор сен-назерской таможни и прочие просвещенные особы Геранды и ее окрестностей лишь усилили тревогу аббата Гримона, рассказав ему о странной жизни женщины-писателя, укрывшейся под мужским именем – Камилл Мопен. Правда, она, благодарение богу, не пожирала маленьких детей; не убивала рабов на манер Клеопатры; по ее повелению мужчин не сбрасывали с утеса в реку, в чем совершенно несправедливо упрекали героиню «Нельской башни»[21 - «Нельская башня» – историческая драма Александра Дюма-отца и Фредерика Гайарде (1832). Легенда о Нельской башне связана с именем жены французского короля Людовика X Маргариты Бургундской, обвиненной королем в измене и по его приказанию задушенной.], – но в глазах аббата Гримона это ужасное создание, слывшее сиреной и безбожницей, являло страшное и безнравственное сочетание женщины и философа и разрушало все социальные законы, изобретенные для того, чтобы держать в повиновении представительниц прекрасного пола или обращать на пользу их слабости и несовершенства.
Подобно тому как женское имя Клара Гасуль[22 - Клара Гасуль – псевдоним, под которым французский писатель Проспер Мериме (1803–1870) издал свою первую книгу «Театр Клары Гасуль» – сборник небольших пьес, проникнутых антифеодальной и антиклерикальной тенденцией (1825).] было псевдонимом мужчины великого ума, а мужское имя Жорж Санд – псевдоним женщины великого таланта, под именем Камилла Мопена долгое время скрывалась очаровательная девушка хорошего рода, бретонка по происхождению, звавшаяся Фелисите де Туш, женщина, которая причинила столько страданий баронессе дю Геник и беспокойства доброму герандскому священнику. Семейство де Туш не имело ничего общего с де Тушами из Турени, от которых происходил посланник Регента, прославившийся более своим литературным именем, нежели дипломатическими талантами. Камилл Мопен – псевдоним одной из наиболее знаменитых женщин XIX века – долгое время считался реально существующим автором, столь мужественны были по духу первые его произведения. Ныне все знают два сборника пьес, не рассчитанных на сценическое воплощение, хоть и написанных в манере Шекспира или Лопе де Вега; они вышли в свет в 1822 году и произвели своего рода революцию в литературе, ибо как раз в тот момент все газеты, все литературные кружки и даже сама Академия страстно обсуждали великую проблему романтизма и классицизма. С тех пор Камилл Мопен написала еще несколько пьес и опубликовала роман, которые поддержали славу ее первых произведений, ныне не совсем заслуженно забытых. Благодаря стечению каких обстоятельств произошло перевоплощение юной девушки, каким образом Фелисите де Туш стала мужчиной и писателем, почему, более счастливо, чем г-жа де Сталь[23 - Г-жа де Сталь. – Французская писательница, принадлежавшая к романтическому направлению, Жермена де Сталь (1766–1817), дочь министра Людовика XVI Неккера.], она сохранила свою свободу (а это заставляло снисходительней отнестись к ее славе), – объяснить все это нужно хотя бы для того, чтобы удовлетворить законное любопытство толпы в отношении к целой плеяде прославленных женщин, которые выделяются как некое исключительное, почти противоестественное и вместе с тем величественное явление в истории человечества, ибо в течение двадцати веков вы не насчитаете и двадцати великих женщин. И хотя мадемуазель де Туш является второстепенным действующим лицом в этой повести, ее огромное влияние на Каллиста и та роль, которую она играет в истории литературы нашего времени, позволяет нам остановиться на этой особе несколько дольше, чем того требуют законы современной поэтики.
Мадемуазель Фелисите де Туш осталась сиротой в 1793 году. Таким образом, ее владения избежали конфискации, что непременно произошло бы, останься в живых ее отец и брат. Но отец Фелисите погиб десятого августа[24 - Десятое августа. – 10 августа 1792 г. в Париже восставший народ овладел королевской резиденцией, дворцом Тюильри. Король Людовик XVI был низложен.], – он был убит у входа во дворец вместе с другими защитниками короля, при котором состоял в чине начальника дворцовой охраны. Ее юный брат, служивший в лейб-гвардии, был убит в Кармелитском монастыре. Фелисите де Туш исполнилось два года, когда ее мать, не выдержав второго удара – смерти сына, угасла в несколько дней. Умирая, г-жа де Туш поручила дочку своей сестре, монахине Шельского монастыря. Монахиня, г-жа де Фокомб, из осторожности перевезла малютку в Фокомб, большое поместье, расположенное неподалеку от Нанта и принадлежавшее покойной г-же де Туш. Здесь тетка поселилась с малюткой-племянницей и тремя монахинями своего монастыря. В последние дни террора замок был разрушен, а монахинь заключили в тюрьму по навету людей, утверждавших, что они принимали у себя эмиссаров Питта и Кобурга[25 - Питт, Кобург – вдохновители и организаторы контрреволюционной борьбы против республиканской Франции. Питт Вильям Младший (1759–1806) – английский политический деятель, премьер-министр. Герцог Кобургский – австрийский фельдмаршал; командовал войсками коалиции.]; вместе с ними была взята и мадемуазель де Туш. После девятого термидора[26 - Девятое термидора (27 июля 1794 г.) – день контрреволюционного переворота, когда революционная диктатура якобинцев была низвергнута и к власти пришла реакционная буржуазия.] их выпустили. Тетка Фелисите умерла от испуга, две монахини покинули пределы Франции, за ними последовала и третья, поручив девочку попечению самого близкого теперь ее родственника, двоюродного деда с материнской стороны, г-на де Фокомба из Нанта. Г-н де Фокомб, в ту пору шестидесятилетний старик, женился на молодой женщине и передал ей бразды правления. Сам он занимался только археологией, которая стала его страстью или, вернее, манией, – такие мании поддерживают в стариках иллюзию жизни. Воспитание малютки было предоставлено случаю. Молодая жена старика Фокомба, следуя нравам Империи, занята была только развлечениями. Девочка росла, как мальчик, без присмотра; она целые дни проводила вместе с дедом в его библиотеке и читала все, что попадалось под руку. Таким образом, она познала жизнь в теории, но, утратив невинность мысли, оставалась чистой. Ее ум погрузился в запретные для девушки сферы науки, а сердце оставалось нетронутым. Знания Фелисите были поразительно обширны, ею двигала страсть к чтению, а прекрасная память помогала усваивать прочитанное. В восемнадцать лет она обладала такими познаниями, которые не мешало бы приобрести нашим теперешним молодым писателям, прежде чем браться за перо. Невероятная начитанность Фелисите гораздо надежнее сдерживала ее страсти, чем жизнь в монастыре, разжигающая воображение девушек. Ее мозг, начиненный знаниями, которых он не мог ни переварить, ни систематизировать, господствовал над ее полудетским сердцем. Этот любопытный случай умственной порчи, которая не коснулась целомудрия, удивил бы философа или опытного наблюдателя, если бы только во всем Нанте нашелся хоть один человек, способный оценить достоинства мадемуазель де Туш. Но результат был самый неожиданный: Фелисите не имела ни малейшей склонности ко злу, все постигала умом и воздерживалась от дурных поступков; она очаровала старика деда и помогала ему в его научных изысканиях; она написала три работы за этого благодушного дворянина, который охотно счел их своими собственными, ибо авторское тщеславие так же слепо, как и любовь. Усиленные занятия, мешавшие развитию юного организма, оказали свое действие: Фелисите слегла в постель. Ее кровь воспламенилась, опасались грудной болезни. Врачи прописали больной ездить верхом и вести более рассеянный образ жизни. Мадемуазель де Туш стала превосходной наездницей и через два-три месяца была совершенно здорова. В восемнадцать лет тетка вывезла ее впервые в свет, и Фелисите имела такой головокружительный успех, что в Нанте ее не называли иначе, как прекрасной барышней де Туш; но восхищение мужчин оставляло ее холодной. Причина ее увлеченья светскою жизнью крылась в тщеславии, от которого не свободны даже самые незаурядные женщины. Задетая насмешками тетки и двоюродных сестер, трунивших над ее ученостью и намекавших на то, что она сторонится поклонников просто потому, что не умеет нравиться мужчинам, Фелисите решила быть кокетливой и легкомысленной, словом, стать настоящей женщиной. Она рассчитывала встретить людей, с которыми возможен обмен мыслей и чувств, надеялась даже, что соблазны будут хотя бы достойны ее высоких умственных качеств, ее обширных знаний; а ей приходилось с отвращением выслушивать общие места и пошлые комплименты; особенно же ее коробило самодовольство и высокомерие военных, которые в ту пору были властителями дум и сердец. Естественно, что в детстве она пренебрегла изучением салонных искусств и теперь живо почувствовала пробелы своего воспитания, видя, как великосветские куклы бойко бренчат на фортепьяно и мило распевают романсы. Она тоже решила стать музыкантшей, снова удалилась от света и начала упорно заниматься музыкой у лучшего в Нанте учителя. Фелисите была богата и, к великому удивлению своих сограждан, выписала самого Стейбельта. До сих пор в Нанте говорят об этой «безумной прихоти». Пребывание прославленного немецкого маэстро в Нанте и его уроки обошлись мадемуазель де Туш в двенадцать тысяч франков. Зато она стала прекрасной музыкантшей. Позже в Париже она изучала гармонию, контрапункт и написала две оперы, которые имели шумный успех, хотя публика так и не узнала имени автора. Считалось, что эти оперы создал Конти, один из выдающихся композиторов нашего времени; но это обстоятельство относится уже к области сердечных дел Фелисите и будет разъяснено в свое время и на своем месте. Посредственность провинциального общества до того опостылела ей, в ее воображении теснились такие грандиозные идеи и замыслы, что она бежала из нантских салонов, промелькнув в них как метеор, затмив всех женщин блеском своей красоты, а всех салонных музыкантш прелестью своей игры и очаровав всех умных людей. Но, доказав силу своих женских чар двум кузинам и разбив сердца двум воздыхателям, Фелисите вновь взялась за книги, за Бетховена, за археологические изыскания вместе со стариком Фокомбом. В 1812 году, когда ей минул двадцать один год, старый археолог сложил с себя опекунские обязанности и дал полный отчет по опеке; с этого времени она стала самостоятельно распоряжаться своими капиталами, состоявшими из пятнадцати тысяч ливров годового дохода от отцовского имения Туш, из двенадцати тысяч франков, которые приносили земли де Фокомбов (доход с этих земель возрос на одну треть при возобновлении аренды) и из трехсот тысяч франков, нажитых для нее опекуном. Провинциальная жизнь научила Фелисите только одному, а именно: ценить богатство и вести дела, что восполняет состоятельным провинциалам утечку их капиталов в столицу. Она вынула триста тысяч франков из банка, куда поместил их старый археолог, и вложила в государственную ренту как раз во время разгрома Наполеона и его отступления из Москвы. Таким образом, годового дохода у нее стало на тридцать тысяч ливров больше. За вычетом всех расходов у Фелисите оставалось пятьдесят тысяч свободных денег, которые можно было пустить в оборот. Девушка двадцати одного года, обладающая такой силой воли, стоит любого тридцатилетнего мужчины. Ее ум развился до чрезвычайности, а ее критическое чувство помогало ей здраво судить о людях, об искусстве, делах и политике. Она решила было покинуть Нант, но тут старика Фокомба сразил смертельный недуг. Фелисите стала для деда как бы преданной супругой, она ухаживала за ним в течение полутора лет, как самая заботливая сиделка, и закрыла ему глаза в тот момент, когда Наполеон воевал со всей Европой на трупе Франции. Она отложила свой приезд в Париж до окончания войны. Будучи роялисткой, она торопилась попасть в столицу, чтобы присутствовать при возвращении Бурбонов. В Париже она поселилась у Гранлье, с которыми состояла в отдаленном родстве, но разыгрались события двадцатого марта[27 - …события двадцатого марта… – 20 марта 1815 г. Наполеон, бежавший с острова Эльбы, вступил в Париж. Начался период так называемых «Ста дней». 22 июня 1815 г., после поражения при Ватерлоо, Наполеон вновь отрекся от престола.], и снова почва ушла у нее из-под ног. Фелисите стала свидетельницей последней драмы Империи и восхищалась войсками, когда они, проходя по Марсову полю, как римские гладиаторы по арене цирка, приветствовали цезаря, перед тем как сложить головы под Ватерлоо. Это зрелище поразило благородную душу Фелисите. Политические бури, – вернее, та феерия, которая вошла в историю под именем «Ста дней», – захватили ее и уберегли от всех страстей, когда эти потрясения обрушились на роялистскую среду, где Фелисите начала свою парижскую жизнь. Семейство Гранлье последовало за Бурбонами в Гент и предоставило свой особняк в распоряжение мадемуазель де Туш. Однако Фелисите, не желая жить на положении провинциальной кузины у знатных родственников, купила за сто тридцать тысяч франков великолепный особняк на улице Монблан. Один его сад оценивается нынче в два миллиона. Здесь она и жила в 1815 году, когда Бурбоны возвратились во Францию. Привыкнув с детства к полной свободе и самостоятельности, Фелисите прекрасно справлялась со всеми делами, которые издавна почитаются мужскими. В 1816 году ей исполнилось двадцать пять лет. Она не могла представить себе супружеской жизни и лишь в мыслях допускала возможность вступить в брак; раздумывая о браке, она видела только побуждающие причины, а не следствия, и подчеркивала его темные стороны. Ее исключительный ум не мог примириться с тем, что женщина, выходя замуж, вынуждена отказаться от всех своих прав; она слишком живо чувствовала цену независимости, а материнские заботы казались ей скучными. Мы говорим обо всех этих вещах, чтобы объяснить непонятные черты характера Камилла Мопена. Фелисите не помнила ни отца, ни матери. Она сама с детских лет была полной хозяйкой своей судьбы, опекуном ее оказался старый археолог, случай бросил ее в царство науки и воображения, в литературный мир, вместо того чтобы ограничить ее обычным кругом поверхностного воспитания, которое у нас дается девушкам, – то есть материнскими наставлениями касательно туалетов, лицемерных приличий и великого искусства охотиться за женихами. Еще задолго до того, как мадемуазель де Туш стала знаменитостью, можно было угадать, что она никогда в жизни не играла в куклы. К концу 1817 года Фелисите вдруг заметила, что она не то что поблекла, но что в ее лице проглядывает усталость. Она поняла, что, упорно отказываясь от брака, рискует потерять красоту, а она хотела быть прекрасной, ибо в те годы дорожила своей внешностью. Изучение наук открыло ей, что природа равно мстит как тем своим чадам, которые пренебрегают ее законами, так и тем, которые, следуя им, нарушают меру. Вспоминая иссохшее лицо своей тетки-монахини, она вздрагивала от ужаса. «Если уж выбирать между браком и свободной страстью, лучше сохранить свободу», – думала Фелисите и, во всяком случае, перестала пренебрегать окружающим ее поклонением. К тому моменту, с которого начинается наш рассказ, Фелисите почти не изменилась, хотя с 1817 года прошло восемнадцать лет. В сорок лет она казалась двадцатипятилетней. Поэтому ее портреты 1836 и 1817 годов неизбежно походят друг на друга. Представительницы прекрасного пола, знающие, сколь трудно защитить женщине свои чувства и красоту от руки времени, поймут, как достигла этого Фелисите де Туш, когда вглядятся в ее портрет, для которого мы не пожалели ни самой богатой рамы, ни самых ярких красок.
Странно, но в Бретани, находящейся в столь близком соседстве с Англией и столь сходной с ней климатическими условиями, преобладают темные волосы, темные глаза и смуглый цвет лица. Отчего это зависит? От такого важного фактора, как национальность, или тут играет роль какое-либо природное, еще не изученное воздействие? Быть может, когда-нибудь позже ученые дознаются о причинах этого неразгаданного явления, которое не распространяется уже на соседнюю с Бретанью провинцию, а именно на Нормандию. Но так или иначе, мы являемся свидетелями причудливой игры природы: белокурые женщины величайшая редкость среди бретонок; у всех уроженок Бретани живой, как у южанок, взгляд, но они не обладают змеиной гибкостью итальянок или испанок; бретонки по большей части невысоки, плотно сбиты, но ладно скроены, – исключение составляют представительницы высших классов, где скрещиваются несколько аристократических линий. Как истая дочь Бретани, мадемуазель де Туш была среднего роста – футов около пяти, но производила впечатление высокой, что объяснялось осанкой Фелисите, придававшей ей роста. При дневном свете лицо ее имело смугло-оливковый оттенок, а при свечах казалось бледным, – отличительная черта итальянской красоты; вы сравнили бы цвет ее кожи со слоновой костью, в которую вдохнули жизнь; солнечный луч скользил по коже Фелисите, как по гладкой поверхности зеркала, и зажигал ее своим блеском; только глубокое волнение вызывало на щеках два слабых розовых пятна, которые тут же исчезали. Эта особенность придавала ее чертам какую-то дикарскую невозмутимость. Лицо у нее было слегка удлиненное, не овальное и напоминало изображение прекрасной Изиды на египетских барельефах. Вам невольно вспомнилась бы также голова сфинкса, отполированная огненным дыханием пустыни, обласканная жгучим полуденным солнцем. Итак, цвет лица был в полной гармонии с правильностью черт. Черные и густые волосы косами спускались на шею, как двойная повязка, украшающая мемфисские статуи, и превосходно оттеняли ее строгие линии. Лоб был открытый, широкий, выпуклый у висков, той же формы, что у Дианы-охотницы, мощный и волевой лоб, спокойное и невозмутимое чело, на блестящей глади которого играл дневной свет. Резко очерченные брови крутыми дугами лежали над черными глазами, которые порою мерцали, как звезды. Глазной белок не отливал голубизной, не поражал ослепительной белизной, его не прорезала сетка красных прожилок, – он был плотен, как рог, и светился теплым блеском. Зрачок был обведен золотистой каймой; он напоминал бронзу, оправленную в золото, но золото было живое, а бронза – дышала. В этих глубоких глазах не было того холодного, зеркального отражения света, которое придает глазам человека кошачье или тигриное выражение; они не отпугивали людей впечатлительных странной неподвижностью, но в них таилась бесконечность более притягательная, чем властность хищного взора. Взгляд человека наблюдательного мог потонуть в этой душе, которая проливалась из бархатных глаз, то застывая в их взгляде, то вдруг покидая его. В минуты страстного волнения взгляд Камилла Мопена становился небесным: золото зажигало легкую желтизну белка, и взгляд пылал, как факел; но в спокойные минуты он тускнел, в часы глубокого раздумья мог показаться даже глуповатым; когда потухала душа, лицо становилось печальным. Ресницы у Фелисите были короткие, но густые и черные, как хвост горностая. Темные веки с тончайшими красными прожилками придавали ее лицу и грацию и силу – два качества, столь редко сочетающиеся в женщине. Кожа вокруг глаз была гладкой, без единой морщинки. И здесь тоже вы сравнили бы ее с гранитом древних египетских статуй. Однако скулы, хотя и нежных очертаний, выступали сильнее, чем обычно выступают они у женщин, и довершали впечатление силы, которую выражало лицо Фелисите. Резко очерченные, страстно раздувавшиеся ноздри позволяли видеть их нежную, розовую, как раковина, глубину. Лоб изящно переходил в линию прямого носа тонкой лепки и ослепительно белого от переносицы до самого кончика, – этот милый кончик забавно шевелился, когда Фелисите негодовала, гневалась или возмущалась. Именно к кончику носа советовал присматриваться Тальма тем, кто наблюдает, как зарождается на лице гения гнев или насмешка. Неподвижные ноздри отличают черствую натуру. Ноздри скупца сводит та же судорога, которой сжаты его губы, так что все лицо его кажется наглухо замкнутым. Изогнутые, как контуры лука, яркие губы Фелисите, к которым живым пурпуром приливала кровь, складывались в прелестную, задумчивую улыбку, и самый робкий поклонник, отпугнутый величественной важностью лица, не мог отвести глаз от этого рта. Верхняя губа была тонкая, бороздка, идущая от носа, глубоко врезалась в нее, что придавало лицу какое-то высокомерное выражение. Фелисите не требовалось хмурить бровей, чтобы выразить свой гнев. Красивая верхняя губка едва касалась припухлой нижней губы, которая говорила о доброте и любви; казалось, из-под резца самого Фидия вышел этот ярко-красный, как половинка сочного граната, рот. Подбородок сильно выдавался; пожалуй, он был несколько тяжел, но выражал решимость и прекрасно довершал этот профиль богини. Заметим, что верхняя губа была покрыта легким прелестным пушком. Природа совершила бы непростительный промах, забудь она затенить губу этой сладостной дымкой. Извилины ушных раковин были мягких очертаний, что указывало на скрытую нежность характера. Торс у Фелисите был широкий, грудь невысокая, но пышная, бедра узкие и изящные. Великолепный изгиб спины и талии скорее напоминал Бахуса, чем Венеру Каллинигийскую. Именно это отличает знаменитых женщин от прочих представительниц их пола, и именно этим они несколько схожи с мужчинами: нет у них тех широких могучих бедер, какими природа одаряет женщину-мать; их походка не напоминает плавную дамскую поступь. Впрочем, наблюдение это, так сказать, обоюдоострое, ибо мужчины хитрые, коварные, фальшивые и трусы как раз напоминают линией бедер женщин. Шея Фелисите переходила в плечи ровно, как колонна, даже без ямки у затылка, – явственный признак силы. Иногда на этой шее проступали мышцы, великолепные, как у атлета. Разворот плечей и предплечие были бы под стать великанше. И так же мощно вылепленные руки оканчивались прелестной чисто английской кистью, пухлой, маленькой, в ямочках, а красивые выпуклые миндалевидные ногти с ярко-белыми лунками свидетельствовали, что это округлое, упругое, складное тело окрашено совсем иначе, чем лицо. Холодное и замкнутое выражение лица смягчал подвижной рот, то и дело менявший выражение, а ноздри трепетали, выдавая художественную натуру. Но вопреки этим волнующим и сулящим блаженство приметам, впрочем, понятным только посвященному, на лице лежала печать какого-то вызывающего спокойствия. Грусть, рожденная постоянными размышлениями, доброта, а еще более меланхолия и серьезность – вот что читалось на этом лице. Мадемуазель де Туш чаще слушала, чем говорила. Это молчание смущало, особенно когда она вперяла в собеседника остановившийся глубокий взгляд. При виде Фелисите любой образованный человек сравнил бы ее с Клеопатрой, с этой черноволосой маленькой женщиной, чуть было не изменившей лицо мира: но в Камилле плотское начало было столь властно выражено, столь совершенно, исполнено такого львиного благородства, что мужчина несколько турецкого склада характера, желая видеть в ней женщину, и только женщину, пожалел бы, что в этом роскошном теле живет высокий ум. Каждый содрогается, когда ему приходится повстречаться с дьявольски причудливой человеческой душой. Быть может, страсти Фелисите были разъяты холодным анализом и ясностью мысли? Быть может, она рассуждала, вместо того чтобы чувствовать? Или, что еще страшнее, уж не чувствовала ли она и рассуждала одновременно? Постигая все умом, не переходит ли она той грани, перед которой останавливаются другие женщины? Сохранилось ли в ней при этой силе интеллекта слабое женское сердце? Да и была ли в ней женственность? Снисходила ли она до тех трогательных пустячков, которыми женщина развлекает, занимает, очаровывает любимого человека? Не разрушала ли она своей рукою чувство, требуя, чтобы оно вмещало в себя ту бездну, которую она умела охватить внутренним оком? Что могло бы заполнить бездну ее собственного взора? В ней чувствовалось что-то девственное, непокорное. Пусть сильная женщина останется для нас только символом, как реальное существо она отпугивает! Камилл Мопен была отчасти живым воплощением шиллеровской Изиды: скрытая от нечестивых глаз, высится она в глубине храма; у ног богини жрецы находят на заре трупы смельчаков, посмевших вопрошать о своей судьбе. Некоторую загадочность облика Камилла Мопена поддерживала молва, приписывавшая ей множество любовных похождений. Фелисите не опровергала россказней. Кто знает, может быть, эта клевета была ей по душе? Даже самый характер ее красоты способствовал такой репутации, так же как ее состояние и положение выдвинули ее в обществе. Если бы скульптор решил изваять статую Бретани, он не нашел бы лучшей модели, чем мадемуазель де Туш. Этот сангвинический, желчный темперамент как нельзя надежнее противостоял действию времени. Природа дала женщинам только одно-единственное оружие, которое защищает их от морщин, – а именно как бы покрытую глазурью кожу, непрерывно питаемую внутренними соками. Впрочем, хозяйку Туша уберегла от преждевременных примет старости неподвижность ее лица.
В 1817 году эта очаровательная девушка открыла двери своего дома артистам, знаменитым писателям, ученым, известным журналистам, – ее тянуло к этой среде. В ее салоне, как и у барона Жерара, бывали аристократы, знаменитости, прославленные парижские красавицы. Создать в Париже свой собственный круг – дело нелегкое, и если Фелисите удалось добиться успеха, то в этом ей помогли ее родня и богатство, которое еще возросло после смерти тетки-монахини, отказавшей племяннице все свое состояние. Независимость мадемуазель де Туш была не последней причиной ее успеха. Не одна маменька питала в глубине сердца честолюбивый замысел соединить Фелисите узами брака со своим детищем, счастливым обладателем пышного герба и куда менее завидного состояния. Не один пэр Франции, прельщенный годовым доходом в восемьдесят тысяч ливров, приводил в салон мадемуазель де Туш своих несговорчивых и чванливых тетушек. Дипломаты, которые всегда и везде ищут развлечений, охотно посещали дом Фелисите. Перед мадемуазель де Туш, ставшей центром стольких чаяний и вожделений, разыгрывались многообразные комедии, где заглавные роли выполняли баловни нашего общества, вдохновленные страстью, алчностью или честолюбием. Фелисите увидела вскоре свет таким, каков он есть, и радовалась, что ее не захватила слишком рано та всепоглощающая любовь, которая оттесняет на задний план ум, способности и мешает здравым суждениям. Обычно женщина сначала живет чувством, затем наслаждениями и, наконец, рассудком: таким образом, в жизни женщины существуют как бы три различные эпохи, последняя из которых обычно совпадает с печальной порой увядания. Но мадемуазель де Туш нарушила этот незыблемый порядок. Ее юность была укрыта снегом науки и одета льдом размышлений. Этот обратный ход и объясняет некоторые странности ее поведения и характер ее таланта. Она наблюдала многих мужчин, будучи в том нежном возрасте, когда юная дева видит перед собой только одного – своего избранника. Она презирала то, что восхищало других; под льстивыми словами, которым верили ее подруги, она чуяла ложь, она смеялась над тем, к чему они прислушивались с серьезным видом. Это отклонение длилось долгое время, и закончилось оно трагически: ей довелось испытать чувство первой любви во всей его свежести тогда, когда сама природа вынуждает женщину смирять свое сердце. Первая ее связь сохранялась в такой тайне, что никто о ней ничего не знал. Фелисите, как и все женщины, доверилась голосу сердца, по телесной красоте судила о красоте души и влюбилась в прекрасную внешность, но вскоре познала она всю глупость обольстителя, который видел в ней только женщину. Ей потребовалось немало времени, чтобы оправиться от горечи отвращения, которую оставила в ней эта безрассудная связь. Ее печаль разгадал один человек и стал утешать ее без всякой задней мысли, или, во всяком случае, умело скрывая свои замыслы. Фелисите решила, что здесь она наконец нашла благородное сердце и ум, которых так недоставало ее красавцу. Человек, о котором идет здесь речь, был одним из самых своеобразных умов того времени. Он тоже писал под псевдонимом и в первых же своих произведениях показал себя страстным поклонником Италии. Фелисите решила путешествовать, чтобы пополнить единственный пробел в своем образовании. Новый друг Фелисите, скептик и насмешник, повез ее в классическую страну искусства. В сущности, этот знаменитый незнакомец был учителем и создателем Камилла Мопена. Он помог ей привести в порядок ее огромные знания, развил их изучением шедевров, которыми так богата Италия; это от него она переняла искусный и тонкий, насмешливый и глубокий стиль – характерную особенность его таланта, несколько необычного по форме выражения, – зато мягкостью чувства и обычной у женщин изобретательностью Камилл Мопеп была обязана только самой себе; это он привил ей вкус к немецкой и английской литературе и научил ее во время их путешествия этим двум языкам. В Риме в 1820 году он бросил мадемуазель де Туш для прекрасной итальянки. Не испытай Фелисите такого удара, кто знает – сумела ли бы она прославиться? Наполеон недаром называл неудачу повитухой гения. Это повое крушение научило мадемуазель де Туш презирать человеческий род, и презрение стало ее силой. Фелисите умерла, и родился Камилл. В Париж она возвратилась вместе с Конти, крупным композитором, к двум операм которого она написала либретто; но Фелисите не питала более иллюзий и стала, тайком от света, своего рода Дон-Жуаном в юбке, только без долгов и без любовных побед. Ободренная первым успехом, она выпустила два тома пьес, сразу же завоевавших Камиллу Мопену первое место среди прославленных анонимов. Свою страсть и свои страдания она рассказывала в небольшом очаровательном романе, который по праву считается шедевром того времени. Ее книга в качестве опасного примера ставилась рядом с «Адольфом», но страшную скорбь Бенжамена Констана[28 - Бенжамен Констан (1767–1830) – французский писатель-романтик. «Адольф» – роман Констана (1816).] Камилл превратила в своего рода анти-Адольфа. Утонченность ее литературной метаморфозы и поныне еще понятна далеко не всем. Только несколько тонких умов угадали в этом акте великодушный жест, – мужское имя отдавало писателя на произвол критики и избавляло пишущую женщину от славы, позволяя ей оставаться в тени. Но вопреки желанию Фелисите слава ее росла с каждым днем, чему причиной было влияние ее салона, равно как и ее меткие и острые словечки, правильность ее суждений, обширность ее познаний. Она становилась авторитетом, ее остроты повторялись многими, она не могла отказаться от обязанностей, которые на нее налагало парижское общество. Она стала признанным исключением. Свет склонился перед талантом и богатством этой необычной девушки; он признал, он санкционировал ее независимость; женщины восхищались ее умом, а мужчины – ее красотой. Впрочем, Фелисите ни в чем не преступала светских приличий. Все ее дружеские связи считались чисто платоническими. Она была женщиной-писателем, и только. Мадемуазель де Туш слыла очаровательной светской дамой, в нужные минуты слабой, праздной, кокетливой, занятой нарядами, восторгающейся пустячками, которые так милы женщинам и поэтам. Она прекрасно понимала, что после г-жи де Сталь в нашем веке нет места для Сафо и что Нинон не могла бы существовать в нынешнем Париже, где нет ни вельмож, ни сладострастного двора. Она была Нинон в области интеллекта, она обожала искусство и художников, она дружила то с поэтом, то с музыкантом, то со скульптором, то с романистом. Она была само благородство, само великодушие и не раз становилась жертвой обмана, так переполняла ее жалость к несчастным и презрение к счастливчикам. До 1830 года она жила в избранном кругу испытанных друзей, связанных любовью и уважением. Равно далекая от оглушительной славы г-жи де Сталь и от политических битв, она сама подтрунивала над Камиллом Мопеном, младшим братом Жорж Санд, которую она называла своим Каином, ибо ее молодая слава затмила славу Фелисите. Мадемуазель де Туш восхищалась успехами счастливой соперницы с ангельской кротостью, без малейшей зависти, безо всякой задней мысли.
До того времени, когда начинается наша повесть, Фелисите жила самой счастливой жизнью, какая только может выпасть на долю женщины, достаточно сильной, чтобы постоять за себя. С 1817 по 1834 год она раз пять или шесть наезжала в Туш. Первый раз она посетила это имение после первой своей любовной драмы, в 1818 году. Барский дом в Туше был вовсе непригоден для жилья; она поселила управителя в Геранде, а сама заняла его квартиру в Туше. Она не подозревала тогда, что ее ждет слава, была печальна, ни с кем не встречалась, ей хотелось, после крушения, приглядеться к самой себе. Она написала одной парижской приятельнице письмо, в котором сообщала о своем желании обосноваться в Туше и просила прислать мебель, чтобы обставить сельский дом. Мебель прибыла водой в Нант. Оттуда на барже ее доставили до Круазика, а из Круазика не без труда довезли через пески до Туша. Фелисите выписала из Парижа рабочих и поселилась в именье, которое понравилось ей до чрезвычайности. Здесь, как в своем собственном монастыре, она могла размышлять о том, что сделала с нею жизнь. В начале зимы Фелисите выехала в Париж. Геранда сгорала от любопытства: в маленьком городке не было иных разговоров, как о восточной роскоши в доме мадемуазель де Туш. Нотариус, который вел ее дела, разрешил желающим посещать Туш. Любопытные приезжали из Батца, из Круазика, из Савенэ. Эти посещения принесли за два года неслыханное богатство семьям сторожа и садовника – целых семнадцать франков. Сама хозяйка появилась в Туше только два года спустя, по возвращении из Италии, и проехала в свое имение через Круазик. Герандцы долгое время оставались в неведении относительно того, что мадемуазель де Туш уже среди них, а с нею и композитор Конти. Ее наезды из Туша в Геранду не возбуждали особого любопытства у жителей этого богоспасаемого городка. Только управляющий, да еще нотариус хозяйки Туша были посвящены в тайну прославленного Камилла Мопена. Но в те дни поветрие новых идей понемногу распространилось даже в Геранде, и многие горожане узнали о второй ипостаси мадемуазель де Туш. Директор почты получал письма, адресованные в Туш на имя Камилла Мопена. Наконец завеса разорвалась. В этом ревностно католическом, отсталом краю, где так живы предрассудки, странная жизнь прославленной женщины должна была стать предметом сплетен и пересудов, которые до смерти перепугали аббата Гримона и не могли найти здесь ни оправдания, ни снисхождения; нет ничего удивительного, что все единодушно сошлись во мнении: Фелисите – чудовище. На этот раз мадемуазель де Туш также приехала в имение не одна, – она привезла с собою гостя. Этим гостем был Клод Виньон, все презирающий и надменный литератор, который хоть и писал только критические статьи, тем не менее сумел внушить публике и своим собратьям по перу высокое мнение о самом себе. В течение семи лет он посещал салон мадемуазель де Туш вместе с другими писателями, журналистами, художниками и светскими львами, и хозяйка изучила его характер, лишенный силы, знала его леность, его вечную нищету, его беспечность и его отвращение ко всему на свете. Тем не менее, судя по тому, как она вела себя с Клодом, можно было предположить, что она собирается выйти за него замуж. Свое поведение, непостижимое для ее друзей, она объяснила честолюбием и страхом перед надвигающейся старостью: ей хотелось посвятить остаток своих дней человеку незаурядному, которому ее состояние послужило бы первой ступенькой в карьере и который помог бы ей сохранить влияние в литературном мире. Итак, она, как орел, уносящий в когтях ягненка, похитила из Парижа Клода Виньона и увезла в Туш, чтобы изучить его на досуге и принять наконец твердое решение; но она обманывала одновременно и Клода и Каллиста: она не думала о замужестве, ее душу терзали мучительные страдания, знакомые лишь сильным натурам; она понимала, что ум обманул ее, что жизнь ее слишком поздно озарило солнце любви, той пламенной любви, которая горит в сердце двадцатилетних.
А вот и обитель той, что околдовала Каллиста.
Шагах в ста от Геранды природа положила границу плодородным почвам Бретани – тут начинаются соляные озера и дюны. По узкой непроезжей дороге пешеход вступает в песчаную пустыню, которая пролегала между морем и бретонскими черноземами. Среди бесплодных песков лежат озера причудливых очертаний, окруженные бурыми гребнями; здесь добывают соль, сюда вдается морской залив, отделяющий Круазик от континента. Хотя с точки зрения географа Круазик – полуостров и соединен с континентом плоским перешейком, идущим вплоть до местечка Батц, вернее было бы называть его островом, так как пробраться по зыбучим и бесплодным пескам перешейка – предприятие не из легких. В том месте, где тропинка, ведущая в Геранду, выходит на проторенную дорогу, стоит дом, окруженный большим садом; главная примечательность его – кривые, изогнутые сосны; одни раскинули свои ветви широким зонтом, зато другие почти вовсе голы, местами из-под ободранной коры проступает гладкий красноватый ствол. Этот сосняк, жертва злых ураганов, поднявшийся вопреки ветру и прибоям, если можно так выразиться, подготовляет душу к грустному и странному зрелищу: перед путником возникают соляные озера и дюны, напоминающие вздыбленные и застывшие волны. Дом, сложенный из сланца, скрепленного известковым раствором, стоит на гранитном фундаменте, построен без всякого архитектурного замысла и являет взору голые стены, прорезанные через равные промежутки проемами окон. На втором этаже в окна вставлены большие стекла, а в нижнем они переделены на маленькие квадратики. Под высокой островерхой двускатной крышей со слуховым окошком над обоими фасадами тянется вдоль всего второго этажа длинный чердак. Под каждым из треугольных скатов крыши имеется окно, похожее на глаз циклопа. Одно смотрит на запад – на море, а другое на восток – на Геранду. Одним своим фасадом дом выходит на дорогу, ведущую к Геранде, а другим – к пустыне, которая подбирается к самому Круазику. За Круазиком начинаются морские просторы. Из-под каменной ограды парка пробивается ручеек, он течет вдоль дороги, идущей к Круазику, пересекает ее и теряется в песках, – может быть, впадает в маленькое соляное озерцо, оставленное среди дюн и болот морем, отступившим от пустыни. Проезжая дорога длиной всего в несколько туазов ведет к усадьбе, в которую входят через большие ворота. Двор окружен службами непритязательного вида; здесь имеются конюшня, каретный сарай, домик садовника, а за ним – птичий двор, которым пользуется не столько сама хозяйка, сколько сторож. Сероватые тона дома чудесно гармонируют с окружающим пейзажем. Парк зеленым оазисом лежит среди этой пустыни, и она первая встречает путешественника, когда тот минует глинобитный домишко, где круглые сутки дежурят таможенники. Усадьба де Туш не имеет земли, – вернее, земли ее расположены на территории Геранды; соляные озера приносят десять тысяч ливров дохода, а остальной доход поступает от арендаторов-земледельцев. Таково владение де Тушей, которых революция лишила феодальных поборов. Ныне Туш просто господский дом, но болотари продолжают по-прежнему называть его замком; они бы и владельца усадьбы называли сеньором, если бы земли не перешли в руки женщины. Когда Фелисите решила восстановить Туш, она, как истый художник, не позволила ничего изменить во внешнем облике этого уединенного дома, похожего на тюрьму. Было допущено только одно отступление – главные ворота украсила галерея с двумя кирпичными колоннами, под которой могла проехать карета. Двор был засажен деревьями и цветами.
Расположение комнат нижнего этажа такое же, как и в любом помещичьем доме, построенном в прошлом веке. Очевидно, это здание было возведено на развалинах небольшого замка, который возвышался здесь, владычествуя над соляными озерами, и был как бы соединительным звеном между крепостью Геранды и двумя замками сеньоров, в Батце и Круазике. Перед лестницей устроен перистиль. В просторную прихожую с паркетным полом Фелисите велела поставить биллиард; из этой комнаты попадали в огромную гостиную с шестью окнами; два из них, по торцовой стороне, доходили до самого пола, образуя двери, ведущие в сад, в который спускались по двенадцати ступенькам; две противоположные двери гостиной соединяли ее с биллиардной и столовой. Кухня, помещавшаяся в другом конце дома, сообщалась со столовой через буфетную. Лестница отделяла биллиардную от кухни; прежде из кухни можно было попасть прямо в перистиль, но Фелисите приказала заложить дверь и прорубить другую, во двор. Высокие потолки, огромные комнаты – все это позволило Фелисите убрать нижний этаж с благородной простотой. Она благоразумно решила не ставить здесь никаких роскошных вещей. Гостиная, выкрашенная в серый цвет, была обставлена старинной мебелью красного дерева, обитой зеленым шелком, на окнах висели белые коленкоровые занавески с зеленой каймой; кроме того, там стояли две консоли и круглый столик, на полу лежал ковер в крупную клетку; на высоком камине с огромным зеркалом красовались часы в форме колесницы Аполлона и два канделябра в стиле времен Империи. В биллиардной занавеси были из серого коленкора тоже с зеленой каймой, и там стояли два дивана. Обстановку столовой составляли стол, четыре больших буфета красного дерева, дюжина таких же стульев, обитых волосяной материей; по стенам висели великолепные гравюры Одрана в рамках того же дерева. С потолка спускался изящный фонарь с двумя лампами вроде тех, какие ставят на лестницах в богатых домах. Во всех комнатах потолки, с выступающими балками, были выкрашены под цвет дерева. На старой лестнице с толстыми деревянными балясинами перил лежала зеленая дорожка.
В верхнем этаже было две половины, разделенные площадкой лестницы. Для себя Фелисите облюбовала ту половину, которая выходила на озера, на море и дюны, и устроила здесь гостиную, спальню, туалетную комнату и рабочий кабинет. Во второй половине по ее приказанию были устроены две спальни, и при каждой из них имелась своя прихожая и кабинет. Прислуга жила в горенках, расположенных под самой крышей. Комнаты, предназначениые для гостей, сначала были обставлены скромно, в них поставили только самую необходимую мебель. Роскошная обстановка, выписанная из Парижа, украшала собственные апартаменты Фелисите. Она решила собрать здесь, в этом унылом и печальном жилище, стоявшем среди унылых, печальных дюн, самые редкостные произведения искусства. Маленькая гостиная была обтянута гобеленами, заключенными в чудеснейшие резные багеты. Старинные занавеси из дорогой парчи, обшитые пышной бахромой, подхваченные шнуром с великолепными кистями, спадали тяжелыми складками до самого пола и отливали золотом и пурпуром, янтарем и изумрудом. В гостиной стоял резной ларь, который нашел для Фелисите ее управляющий, – сейчас такой ларь стоит не меньше семи-восьми тысяч франков; стол из черного дерева, весь покрытый резьбой, привезенный из Италии секретер с бесчисленными ящичками, инкрустированный слоновой костью, и еще несколько вещей в готическом стиле. Картины и статуэтки – всё редкости – отыскал для Фелисите один из ее друзей, художник: в 1819 году антиквары еще не подозревали, в какой цене будут эти сокровища через несколько лет. На столе стояли прекрасные японские вазы с фантастическими рисунками. Пол устилал настоящий персидский ковер, приобретенный у контрабандиста и доставленный сюда через дюны. Спальня Фелисите была выдержана в стиле Людовика XV. Здесь стояла кровать белого с резьбой дерева под шелковым золотистым одеялом; на выгнутых спинках кровати деревянные амуры осыпали друг друга цветами; пышный балдахин украшали по углам четыре плюмажа; стены спальни были обиты простеганной шелковыми шнурками персидской тканью; камин – с лепными украшениями в форме раковин; меж двух огромных ваз из синего севрского фарфора, оправленных в позолоченную медь, стояли золотые с чеканным узором часы, рамка зеркала была выдержана в том же духе; обстановку довершали задрапированный кружевами туалетный столик в стиле Помпадур с овальным зеркалом и затем различная мебель причудливой формы – козетки, низкие кресла, жесткие диванчики, пуфы со стегаными спинками, лакированные ширмы; занавеси были из того же шелка, которым была обита мебель, на розовой атласной подкладке и с толстыми шнурами; на полу лежал савонрийский ковер; повсюду были разбросаны изящные, богатые, хрупкие и роскошные вещицы, среди которых развлекались любовью красавицы XVIII века. Кабинет красного дерева, убранный в современном духе, являл полную противоположность галантному стилю Людовика XV; а огромная библиотека походила на будуар, – здесь тоже стояли диваны. Эту комнату заполняли очаровательные пустячки в современном вкусе, столь милые женскому сердцу: книги с застежками, шкатулки для перчаток и носовых платков, раскрашенные абажуры и статуэтки, китайские болванчики, письменные принадлежности, два-три альбома, пресс-папье и, наконец, множество модных безделушек. Возможно, что случайный посетитель бывал удивлен и даже встревожен, увидев здесь пистолеты, кальян, хлыст, гамак, трубки, охотничье ружье, табак, кисет, странную смесь предметов, которые как нельзя лучше живописуют характер Фелисите.
Человек, способный чувствовать природу, попав в комнаты мадемуазель де Туш, был бы поражен особой прелестью пейзажа, открывавшегося из окна: за парком, последним оазисом плодородной земли, расстилались дюны. Среди унылых четырехугольников соленой воды, разделенных узенькими беленькими тропками, с утра до вечера бродит болотарь в белом балахоне, подгребая граблями соль и складывая ее в кучи; птицы не пролетают над этими пространствами, от которых подымаются тяжелые, насыщенные солью испарения; здесь ничто не произрастает, лишь изредка взоры, утомленные однообразием песков, порадует низенькая жесткая травка, ухитряющаяся даже в этой пустыне расцвести бледно-розовыми цветочками, да кое-где подымает свои головки дикая гвоздика; дальше – озеро, наполненное морской водой, пески и дюны, и на горизонте – Круазик, миниатюрный городок, вдающийся в открытое море, подобно Венеции, и, наконец, безбрежный океан, окаймляющий бахромой пены гранитные утесы, что еще резче подчеркивает их причудливые очертания; это зрелище уводит ввысь мысли человека и одновременно навевает грусть; впрочем, перед величественными образами природы душа всегда с невольной тоской устремляется к неведомому, которое открывается нам в недоступных далях. Первобытная гармония понятна только великим умам и великой скорби. Вот почему эта холмистая пустыня, где солнечные лучи, отраженные водами соленых озер и песками, вдруг зальют ярким светом местечко Батц и заиграют нестерпимым блеском на крышах Круазика, так часто занимала воображение Фелисите. Почти никогда не обращала она взоров в сторону Геранды, к очаровательным зеленым лугам, рощицам и цветущим изгородям, к милому городку, похожему на новобрачную, убранную лентами, цветами, вуалями и оборками. Зрелище это причиняло Камиллу Мопену ужасные, непонятные страдания.
Как только в конце обсаженной терновником дороги, над верхушками кривых сосен, показались два флюгера, украшавшие с двух концов крышу, Каллист вздохнул полной грудью – так легок показался ему здешний воздух; Геранда была ему тюрьмой, жизнь начиналась в Туше. Кто не поймет, какое очарование черпал здесь чистый юноша? Любовь, подобная любви Керубино[29 - …подобная любви Керубино… – Керубино – персонаж комедии Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», юноша, влюбленный в свою крестную мать, графиню Альмавива.], бросила Каллиста к ногам той, что стала для него великой, прежде чем стать просто женщиной. Но чувство юноши наталкивалось на необъяснимую холодность Фелисите. Со свойственной ей проницательностью Фелисите поняла, что это не любовь, а скорее потребность любить, – вот чем, пожалуй, объяснялось ее благородное упорство, которого не мог оценить Каллист. Кроме того, в Туше его ослепляли чудеса современной цивилизации, представлявшие резкую противоположность с Герандой, где даже нищета дю Геников почиталась роскошью. Здесь перед восхищенными взорами несведущего юноши, знавшего только дрок Бретани да вереск Вандеи, открывался некий новый мир, все богатство современного Парижа, и здесь также он впервые услышал незнакомую и благозвучную столичную речь. Здесь Каллист наслаждался поэтическими напевами прекраснейшей музыки, удивительной музыки XIX века, где мелодия и гармония одинаково мощны, где голосоведение и инструментовка достигли неслыханного ранее совершенства. Здесь он увидел творения богатой французской живописи, которая стала ныне наследницей итальянской, испанской и фламандской школ, но талант сделался в Париже явлением заурядным: все взоры, все сердца, пресытившиеся талантами, с тоской взывают о гении. Здесь он познакомился с удивительными созданиями современной литературы, которые производят глубокое впечатление на неискушенные сердца. Одним словом, наш великий XIX век представал перед Каллистом в своем разнообразном блеске; он узнал критический дух, свойственный веку, его стремление обновить все сферы жизни, его головокружительные замыслы, под стать властителю, который пытался водрузить свои знамена над колыбелью века, баюкая его звуками воинственных песен, сопровождаемых рыкающим басом орудий. Приобщенный к прославленным произведениям, великого мастерства которых, быть может, не замечали даже те, кто над ними трудился, кто создавал их, Каллист удовлетворял в Туше склонность к необычному, столь настоятельную в его возрасте; им владело наивное восхищение, которое, подобно первой полудетской любви, глухо ко всем критическим суждениям. Это так же свойственно юности, как пламени свойственно подыматься вверх. Он внимал этой блестящей парижской иронии, изящной сатире, и ему открывалась сущность французского ума, пробуждались тысячи мыслей, мирно спавших в тихом оцепенении родительского дома. Каллист считал мадемуазель де Туш матерью своего интеллекта, матерью, которую он мог любить невозбранно. Фелисите была так добра к нему; женщина всегда хороша с мужчиной, которому она внушила любовь, пусть даже она как будто и не разделяет его чувств. Теперь Фелисите занималась с Каллистом музыкой. Для юноши этот дом, высокие и просторные покои нижнего этажа, казавшиеся еще просторнее благодаря широкому виду из окон на искусно расположенные лужайки и массивы кустов в парке, площадка лестницы, уставленная творениями итальянских мастеров, вся в резном дереве, во флорентийских и венецианских мозаиках, с барельефами из слоновой кости и из мрамора, с занятными безделушками, как будто вышедшими из-под палочки средневековой волшебницы; изящно убранные комнаты самой Фелисите свидетельствовали о смелом вкусе хозяйки, они были овеяны дыханием творчества, озарены необычным светом ума живого и щедрого. Современный мир, с его поэзией, резко противостоял мертвенному и патриархальному миру Геранды; здесь столкнулись лицом к лицу два начала: с одной стороны, многоликое разнообразие, с другой – монотонность дикой Бретани.
Теперь понятно, почему бедного юношу, которому тонкости «мушки» наскучили не меньше, чем его матери, охватывал радостный трепет всякий раз, как он приближался к этому дому, звонил у ворот, шел по двору. Следует заметить, что подобные ощущения неведомы человеку зрелому, познавшему тяготы жизни, человеку, которого ничто больше не удивляет и не страшит. Открыв дверь, Каллист услыхал звуки рояля и решил, что Камилл Мопен в гостиной, но, когда он пересек биллиардную, музыка стала тише. Значит, Фелисите играла наверху, у себя, на маленьком своем рояле, который привез из Англии композитор Конти. Толстый ковер, покрывавший лестницу, заглушал шаги, и, чем выше подымался Каллист, тем нерешительнее они становились. Музыка, доносившаяся сверху, поразила его своей необычайностью, как откровение. Фелисите играла для себя, она беседовала сама с собой. Юноша не посмел войти в гостиную, он остановился на площадке лестницы и присел на обитую зеленым бархатом готическую скамью у окна, красивые наличники которого были искусно выточены из дерева, отделанного под орех и покрытого лаком. Услышав импровизацию Камилла, вы невольно бы сравнили эти звуки с воплем души, взывающей из гроба к господу, так таинственно-печальна была эта музыка. Влюбленному юноше слышались в этих звуках моления безнадежной любви, покорная нежная жалоба, стенания сдерживаемой грусти. Фелисите импровизировала, развивая и усложняя вступление к каватине «Пощада мне, пощада и тебе», в которой, по существу, выражен весь четвертый акт «Роберта-Дьявола». Она запела этот отрывок трагическим голосом и вдруг замолчала. Каллист вошел в гостиную и понял, почему пресекся голос певицы. Несчастная Камилл Мопен, прекрасная Фелисите, без тени кокетства повернула к нему залитое слезами лицо, взяла носовой платок, вытерла глаза и просто сказала:
– Добрый день!
В утреннем туалете она была восхитительна. Из-под модной сетки, сплетенной из красной синели, спадали блестящие пряди черных волос. На Фелисите был коротенький казакин, напоминавший греческую тунику, из-под него выглядывали батистовые панталоны, вышитые у щиколотки, и очаровательные турецкие туфельки, красные с золотом.
– Что с вами? – спросил Каллист.
– Он не вернулся, – ответила она и, подойдя к окну, стала смотреть на пески, морской залив и озера.
Этот ответ объяснял изысканность ее одежды. Фелисите, должно быть, ждала Клода Виньона, она была обеспокоена, как женщина, понявшая, что усилия ее более не достигают цели. Мужчина в тридцать лет сразу понял бы это. Каллист видел только страдание.
– Вы встревожены? – спросил он.
– Да, – ответила Фелисите, и в голосе ее прозвучала печаль, которой не мог разгадать этот юноша.
Быстрыми шагами Каллист направился к двери.
– Куда же вы?
– Искать его, – ответил Каллист.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: