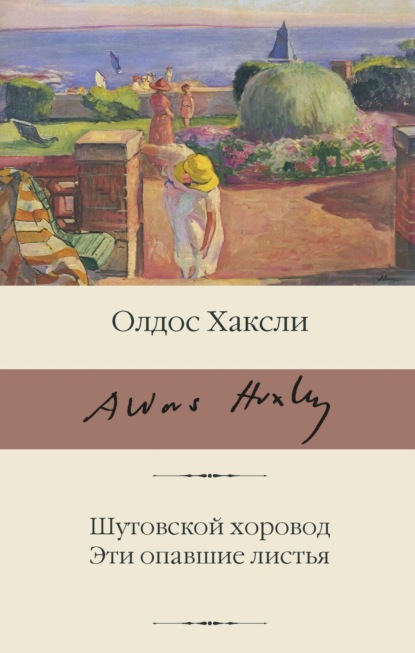По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шутовской хоровод. Эти опавшие листья
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А какая польза будет, по-вашему, от революции, мистер Бодженос? – спросил он наконец.
Мистер Бодженос снова положил руку за борт.
– Никакой, мистер Гамбрил, – сказал он. – Решительно никакой.
– Но свобода, – предложил Гамбрил, – равенство и так далее. Как насчет этого, мистер Бодженос?
Мистер Бодженос улыбнулся снисходительно и добродушно, как он улыбнулся бы человеку, предложившему, скажем, носить при вечернем костюме засученные до колен брюки.
– Свобода, мистер Гамбрил? – сказал он. – Неужели, по-вашему, хоть один здравомыслящий человек воображает, что революция принесет свободу?
– Революционеры всегда требуют именно свободы.
– А получают они ее когда-нибудь, мистер Гамбрил? – Мистер Бодженос игриво склонил голову набок и улыбнулся. – Обратимся к истории, мистер Гамбрил. Сначала французская революция. Народ требует политической свободы. И получает ее. Потом – билль о реформах, потом сорок восьмой год, потом всякие там освободительные акты и избирательное право для женщин – с каждым разом все больше и больше политической свободы. А в результате что, мистер Гамбрил? Ровно ничего. Кто стал свободней благодаря политической свободе? Ни одна душа, мистер Гамбрил. Более гнусного издевательства не знала история. А как подумаешь о несчастных молодых людях, вроде Шелли, которые о ней говорили, так просто жалко становится, – сказал мистер Бодженос, качая головой, – по-человечески жалко. Политическая свобода – надувательство, потому что никто не тратит время на то, чтобы заниматься политикой. Время тратят на сон, еду, немного на развлечения и на работу – больше всего на работу. Когда они получили все политические свободы, какие им хотелось – или каких им даже, собственно, и не хотелось, – они начали понимать это. Вот теперь они и заговорили об индустриальной революции, мистер Гамбрил. Да Господь с вами, ведь это новое надувательство, почище старого. Может ли быть при какой-нибудь системе свобода? Сколько вы ни делите прибыли между рабочими, сколько ни устанавливайте у них самоуправление, или создавайте гигиенические условия, или стройте коттеджи или площадки для игр, самое главное рабство все равно останется – подневольный труд. Свобода? Да ее не существует! Свободы в этом мире нет; только позолоченные клетки. Да наконец, мистер Гамбрил, представьте себе, что удалось бы как-нибудь избавиться от необходимости работать, представьте себе, что у человека все время будет свободным. А сам он станет ли от этого свободней? Я ничего не говорю об естественном рабстве еды, сна и так далее, мистер Гамбрил; об этом я ничего не говорю, потому что тут уж пойдет отвлеченная метафизика. Но я спрашиваю вас вот о чем, – и мистер Бодженос почти сердито погрозил пальцем своему сонному собеседнику, – будет ли свободным человек с неограниченным досугом? Я говорю, что нет. Он будет свободным, только если он окажется, как мы с вами, мистер Гамбрил, человеком здравомыслящим и независимым в суждениях. Рядовой человек свободным не будет. Потому что убивать свой досуг он умеет только теми способами, какие навяжут ему другие люди. В наше время никто не умеет развлекаться сам по себе; все предоставляют другим развлекать их. Что им подсунешь, то они и глотают. Им приходится глотать, хотят они этого или нет. Кино, газеты, журналы, граммофоны, футбольные матчи, радио – попробуйте-ка обойтись без них, если вы хотите развлекаться. Рядовой человек без них не обойдется. Он пользуется ими; а что это, как не рабство? Так что видите, мистер Гамбрил, – и мистер Бодженос улыбнулся с каким-то лукавым торжеством, – даже в чисто гипотетическом случае, когда у человека будет неограниченное количество свободного времени, сам он свободным не станет… А случай этот, как я уже сказал, чисто гипотетический; по крайней мере поскольку дело касается людей, стремящихся к революции. Что же до тех, кто умеет пользоваться досугом, так я вам скажу, мистер Гамбрил, что мы с вами оба хорошо знакомы со сливками общества и знаем, что свобода, кроме разве свободы половых общений, – это у них слабое место. А что такое половая свобода? – драматически вопросил мистер Бодженос. – Мы с вами, мистер Гамбрил, знаем, – конфиденциально ответил он. – Это ужасное, отвратительное рабство. Вот что это такое. Или, может быть, это не так, мистер Гамбрил?
– Так, так, вы совершенно правы, мистер Бодженос, – поспешил ответить Гамбрил.
– А отсюда следует, – продолжал мистер Бодженос, – что для всех людей, кроме немногих избранных, вроде нас с вами, мистер Гамбрил, свободы не существует. Это химера, мистер Гамбрил. Гнусная выдумка.
– Но в таком случае, мистер Бодженос, почему вам так хочется, чтобы произошла революция? – осведомился Гамбрил.
Мистер Бодженос задумался и еще больше заострил кончики своих нафиксатуаренных усов.
– Все-таки, – сказал он наконец, – все-таки перемена. Я всегда стоял за перемены и небольшие встряски. К тому же есть еще научный интерес. Вы ведь никогда не знаете, чем кончится опыт, разве не так, мистер Гамбрил? Я помню, когда я был маленьким, мой старик отец – он был великий садовод, можно сказать, настоящий флорикультурист – устроил опыт по прививке глазка розы Gloire de Dijon[22 - Слава Дижона (фр.).] к кусту черной смородины. И поверите, мистер Гамбрил, розы вышли черные, черные как уголь. Никто этого бы не подумал, если бы он не попробовал. Вот то же я говорю и о революции. Нипочем не узнаешь, что из этого выйдет, пока не попробуешь. Черные розы, голубые розы – кто знает, мистер Гамбрил, кто знает?
– В самом деле, кто? – Гамбрил посмотрел на часы. – Кстати, о брюках… – добавил он.
– Об этих одеждах, – поправил его мистер Бодженос. – Ах да. Скажем, в будущий вторник?
– Что ж, скажем, в будущий вторник. – Гамбрил открыл дверь мастерской. – До свиданья, мистер Бодженос.
Мистер Бодженос проводил его таким поклоном, точно он был принцем крови.
Сияло солнце, и небо в пролете улицы было голубое. Полупрозрачная даль расплывалась в нежных и светлых тонах; казалось, каждая улица затянута золотистым шелковым газом, который чем дальше, тем становился плотней. На деревьях Ганновер-сквера молодые листья еще не потеряли свежести и были похожи на языки зеленого пламени, а закопченные стволы казались более черными и грязными, чем всегда. Если бы закуковала кукушка, это было бы как нельзя более уместно и приятно. Но даже и без кукушки день был чудесный. Такой день, подумал Гамбрил, лениво шагая по улице, что хочется влюбиться.
Из мира портных Гамбрил перешел в мир торговцев искусственным жемчугом; он не торопясь брел по тротуару благоухающей Бонд-стрит, еще острей ощущая влюбленность, разлитую в воздухе в этот ясный весенний день. С чувством глубокого удовлетворения он вспомнил шестьдесят три письменных работы о Рисорджименто. Как приятно болтаться без дела! Особенно на Бонд-стрит, где из этого занятия можно извлечь массу удовольствия. Он прошелся по залам весенней выставки в Гровноре и вышел, немного жалея в душе о восемнадцати пенсах, истраченных на входной билет. После этого он сделал вид, будто собирается купить концертный рояль. Кончив играть свои любимые пассажи на великолепном инструменте, который ему подобострастно предоставили, он заглянул на несколько минут к Содби, подышал пылью старинных книг и побрел дальше, любуясь сигарами, прозрачными флаконами духов, носками, старыми мастерами, изумрудными колье – одним словом, всеми предметами во всех витринах, мимо которых он проходил.
«В Скором Времени Открывается Выставка Картин Казимира Липиата». Афиша привлекла его взгляд. Значит, старина Липиат снова на боевой тропе, подумал он, толкая дверь выставочного зала Олбермэла. Бедный старина Липиат! Или, пожалуй, даже – милый старина Липиат. Он любил Липиата. Конечно, у него есть свои недостатки. Забавно было бы снова встретиться с ним.
Гамбрил очутился среди угнетающего собрания гравюр. Он просмотрел их, спрашивая себя, как это получается, что в наши дни, когда ни одному художнику не удается продать своих картин, любой дурак, умеющий нацарапать банальный вид с двумя лодками, намеком на облако и плоским морем, без всякого труда сбывает свои произведения дюжинами, и к тому же по гинее за штуку. Его размышления были прерваны приближением молодого человека, на чьей обязанности лежало водить посетителей по выставке. Он подошел робко и неуверенно, но с решимостью человека, задавшегося целью выполнить свой долг, и выполнить его с честью. Это был очень молодой человек с бесцветными волосами, которым густой слой бриолина придавал удивительный сероватый оттенок; младенчески-круглые щечки делали его похожим на маленького мальчика, играющего во взрослого. Он работал здесь всего несколько недель и находил свою работу очень трудной.
– Вот это, – заметил он, слегка кашлянув, чтобы обратить на себя внимание, и показывая на один из видов с двумя лодками и плоским морем, – это более ранний вариант, чем тот. – И он показал на другой вид, где лодок было по-прежнему две, а море казалось все таким же плоским – хотя при более близком рассмотрении оно могло показаться, пожалуй, еще более плоским.
– В самом деле, – сказал Гамбрил.
Его холодность, видимо, задела молодого человека. Он покраснел, но заставил себя продолжать.
– Некоторые знатоки, – сказал он, – предпочитают более ранний вариант, хотя в нем меньше законченности.
– Да?
– Замечательно передан воздух, не правда ли? – Молодой человек склонил голову набок и с видом ценителя сложил свои детские губки сердечком.
Гамбрил кивнул.
В полном отчаянии молодой человек ткнул пальцем в затененную корму одной из лодок.
– В этом пятне столько настроения, – сказал он, краснея еще больше.
– Масса экспрессии, – сказал Гамбрил.
Молодой человек благодарно улыбнулся ему.
– Вот именно, – сказал он в восторге. – Экспрессия. Вы совершенно правы. Масса экспрессии. – Он повторил это слово несколько раз, точно стараясь запомнить его на тот случай, когда им можно будет воспользоваться снова. Он изо всех сил старался с честью выполнять свой долг.
– Кажется, здесь скоро будет выставка Липиата, – заметил Гамбрил, которому порядком надоели лодки.
– Как раз в эту минуту он окончательно договаривается с мистером Олбермэлом, – торжествующе сказал молодой человек с видом фокусника, в самый критический момент извлекающего из своей шляпы кролика.
– Да что вы говорите! – Фокус произвел на Гамбрила должное впечатление. – Тогда я подожду его здесь, – сказал он, усаживаясь спиной к лодкам.
Молодой человек вернулся к своему столу и взял вечное перо с золотым колпачком, подаренное тетушкой на Рождество, когда он впервые поступил на службу. «Масса экспрессии, – написал он заглавными буквами на листке из блокнота. – В этом пятне масса экспрессии». Несколько секунд он пристально смотрел на бумажку, потом аккуратно сложил ее и спрятал в жилетный карман. «Бери все на заметку». Это был один из его девизов; он сам старательно написал его тушью, старинным готическим шрифтом. Он висел у него над кроватью между изречением «Господь – мой пастырь» (подарок матери) и цитатой из доктора Фрэнка Крэйна: «Улыбка на лице продаст больше товара, чем острый язык». Однако молодому человеку не раз приходило в голову, что острый язык – вещь весьма полезная, особенно на этой службе. Он спрашивал себя, можно ли сказать, что композиция картины полна экспрессии. Он заметил, что конек мистера Олбермэла – композиция. Но, пожалуй, благоразумней придерживаться более обычного «удачная композиция»: выражение, правда, несколько избитое, но зато безопасное. Надо будет спросить мистера Олбермэла. И еще все эти разговоры о пластической линии и чистой пластичности. Он вздохнул. Все это ужасно сложно! Прямо из кожи вон лезешь, чтобы быть на высоте положения; но когда речь заходит обо всех этих воздухах, и экспрессии, и пластичности – ну что тут будешь делать? Брать на заметку. Больше ничего не остается.
В кабинете мистера Олбермэла Казимир Липиат стукнул кулаком по столу.
– Масштаб, мистер Олбермэл, – говорил он, – масштаб, и сила, и идейная содержательность – у стариков все это было, а у нас нет… – И он подкреплял свои слова жестами. Выражение его лица все время менялось, а зеленые глаза, глубоко сидящие в темных, словно обугленных впадинах, светились беспокойным огнем. Лоб у него был крутой, нос длинный и острый, губы непропорционально большие и толстые для костлявого скуластого лица.
– Вот именно, вот именно, – сказал мистер Олбермэл своим сочным голосом. Это был кругленький гладенький человечек с яйцевидной головой; в его манерах была напыщенная торжественность старого мажордома, которую сам он, видимо, считал весьма аристократической.
– Я задался целью возродить все это, – продолжал Липиат, – возродить масштабы и мастерство старых мастеров.
Когда он говорил, он чувствовал, как его заливает волна теплоты, его щеки пылали, и горячая кровь пульсировала в его глазах, словно он выпил глоток бодрящего красного вина. Его собственные слова возбуждали его, он размахивал руками, как пьяный, и он действительно был точно пьяный. Он чувствовал в себе величие старых мастеров. Он мог сделать все, что делали они. Не было ничего, что было бы ему не по силам.
Яйцеголовый Олбермэл сидел перед ним, безупречный мажордом, раздражающе невозмутимый. Олбермэла тоже следовало бы заставить гореть. Он еще раз стукнул по столу и снова взорвался.
– Такова была моя миссия, – кричал он, – все эти годы!
Все эти годы… Время обнажило его виски; высокий крутой лоб казался еще выше, чем он был на самом деле. Теперь ему было сорок; юному бунтарю Липиату, объявившему некогда, что никто не может создать ничего дельного после тридцати лет, было теперь сорок. Но в минуты неистовства он забывал о своих годах, он забывал о разочарованиях, о непроданных картинах, о ругательных отзывах.
– Моя миссия, – повторил он, – и будь я проклят, если я не сумею ее выполнить!
Кровь горячо пульсировала в его глазах.
– Безусловно, – сказал мистер Олбермэл, кивая яйцом. – Безусловно.
– А как все измельчало в наше время! – продолжал с пафосом Липиат. – Как банальны сюжеты, как ограниченны возможности! У нас нет ни художников-скульпторов-поэтов, как Микеланджело; ни художников-ученых, как Леонардо; ни математиков-придворных, как Бошкович; ни композиторов-импресарио, как Гендель; ни всесторонних гениев, как Рен. Я восстаю против этой унизительной специализации. Я один противостою ей своим примером. – Липиат поднял руку. Он стоял, как статуя Свободы, колоссальный и одинокий.
– Однако же… – начал мистер Олбермэл.