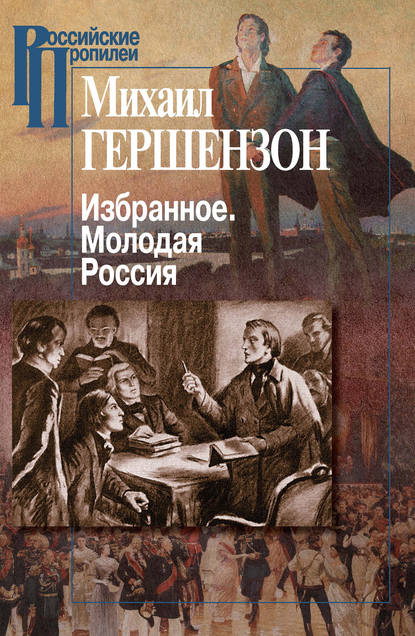По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Избранное. Молодая Россия
Жанр
Серия
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
1) Недостаток в пище и пропитании. Я не думаю, чтоб нашелся хотя один чиновник в дивизии, который осмелился не допустить солдату следуемую ему пищу, положенную правительством, но ежели сверх чаяния моего таковые злоупотребления существуют где-либо в полках вверенной мне дивизии, то виновные недолго от меня скроются, и я обязуюсь перед всеми честным моим словом, что предам их военному суду, какого бы звания и чина они ни были, все прежние их заслуги падут пред сею непростительною виною, ибо нет заслуг, которые могли бы в таком случае отвратить от преступного начальника тяжкого наказания.
2) Послабление военной дисциплины. Сим разумею я некоторый дух беспечности и нерадения, в частных начальниках тем более предосудительный, что пример их действует быстро на самих солдат, порождает в сих последних леность и от лености все пороки. Я прошу г.г. офицеров заняться крепко своим делом, быть часто с солдатами, говорить с ними, внушать им все солдатские добродетели, пещись о всех их нуждах, давать им пример деятельности и возбуждать любовь к Отечеству, поручившему им свое хранение и свою безопасность.
Когда солдат будет чувствовать все достоинство своего звания, тогда одним разом прекратятся многие злоупотребления, а от сего первого шага будет зависеть все устройство дивизии. Большая часть солдат легко поймут таковые наставления, они увидят попечение начальства и сами почувствуют свои обязанности. Я сам почитаю себе честного солдата и другом и братом.
Слишком строгое обращение с солдатами и дисциплина, основанная на побоях. Я почитаю великим злодеем того офицера, который, следуя внушению слепой ярости, без осмотрительности, без предварительного обличения, часто без нужды и даже без причины употребляет вверенную ему власть на истязание солдат. Я прошу г.г. офицеров подумать о следующем: от жестокости и несправедливости в наказаниях может родиться отчаяние, от отчаяния произойти побег, а побег за границу наказывается смертью; следовательно, начальник, который жестокостью или несправедливостью побудит солдата к побегу, делается настоящим его убийцею; строгость и жестокость суть две вещи разные, одна прилична тем людям, кои сотворены для начальства, другая свойственна тем только, коим никакого начальства поручать не должно. Сим правилом я буду руководствоваться, и г.г. офицеры могут быть уверены, что тот из них, который обличится в жестокости, лишится в то же время навсегда команды своей.
Из сего приказа моего легко можно усмотреть, в каком духе я буду командовать дивизиею. В следующих приказах я дам на сей предмет положительные правила, но я желаю, чтобы прежде всего г.г. начальники вникнули в мое намерение и, убедившись в необходимости такового с солдатами обращения, сделались бы мне сподвижниками в учреждении строгой, но справедливой дисциплины.
Предписываю в заключение прочитать приказ сей войскам в каждой роте самому ротному командиру, для чего, буде рота рассеяна по разным квартирам, то сделать общий объезд оным. Ежели при объезде полков солдаты по спросе моем скажут, что им сей приказ не извещен, то я за сие строго взыщу с ротных командиров. Подлинный подписал генерал-майор Орлов 1-й.»
Другой приказ Орлова относится к январю 1822 г., то есть к последним дням его командования 16-й дивизией.
«Думал я до сих пор, что ежели нужно нижним чинам делать строгие приказы, то достаточно для офицеров просто объяснить их обязанности, и что они почтут за счастье исполнять все желания и мысли своих начальников; но, к удивлению моему, вышло совсем противное. Солдаты внемлют одному слову начальника; сказал: побеги вас бесчестят, и побеги прекратились. Офицеров, напротив того, просил неотступно укротить их обращение с солдатами, заниматься своим делом, прекратить самоправные наказания, считать себя отцами своих подчиненных; но и по сих пор многие из них, несмотря на увещания мои, ни на угрозы, ни на самые строгие примеры, продолжают самоправное управление вверенными им частями, бьют солдат, а не наказывают, и не только пренебрегают исполнением моих приказов, но не уважают даже и голоса самого главнокомандующего.
В Охотском пехотном полку гг. майор Вержейский, капитан Гимбут и прапорщик Понаревский жестокостями своими вывели из терпения солдат. Общая жалоба нижних чинов побудила меня сделать подробное исследование, по которому открылись такие неистовства, что всех сих трех офицеров принужден представить я к военному суду. Да испытывают они в солдатских крестах, какова солдатская должность. Для них и им подобных не будет во мне ни помилования, ни сострадания.
И что ж? Лучше ли был батальон от их жестокости? Ни частной выправки, ни точности в маневрах, ни даже опрятности в одеянии – я ничего не нашел; дисциплина упала, а нет солдата в батальоне, который бы не почувствовал своими плечами, что есть у него начальник.
После сего примера, кто меня уверит, что есть польза в жестокости и что русский солдат, сей достойный сын отечества, который в целой Европе почитаем, не может быть доведен без побоев до исправности? Мне стыдно распространяться более о сем предмете, но пора быть уверенным всем г.г. офицерам, кои держатся правилам и примерам Вержейского и ему подобных, что я им не товарищ и они заблаговременно могут оставить сию дивизию, где найдут во мне строгого мстителя за их беззаконные поступки.
Обратимся к нашей военной истории: Суворов, Румянцев, Потемкин, все люди, приобретшие себе и отечеству славу, были друзьями солдат и пеклись об их благосостоянии. Все же изверги, кои одними побоями доводили их полки до наружной исправности, все погибли или погибнут; вот примеры, которые ясно говорят всем и каждому, что жестокое обращение к нижним чинам противно не только всем правилам, но и всем опытам. В заключение сего объявляю по дивизии: 1-е, г. майору Вержейскому отказать от батальона, а на место него назначаю 32-го егерского полка майора Юмина, 2-е, г. капитану Гимбуту отказать от роты; 3-е, прапорщику Понаревскому отказать от всякого рода команды:; 4-е, всех сих офицеров представляю к военному суду и предписываю содержать на гауптвахте под арестом впредь до разрешения начальства.
Кроме сего, по делу оказались менее виноватыми следующие офицеры, как-то: поручику Васильеву в уважение того, что он молодых лет и бил тесаками нижних чинов прежде приказов г. главнокомандующего, г. корпусного командира и моего, майорам Карчевскому и Данилевичу, капитану Парчевскому, штабс-капитанам Станкевичу и Гнилосирову, поручикам Калковскому и Тимченке и подпоручику Китицыну за самоправные наказания, за битье из собственных своих рук, делаю строгий выговор. Объявляю им две вещи: первую, что так как многие из них не спрошены комиссиею, то могут они, если чувствуют себя невинными, рапортами прямо на мое имя требовать суда, но тогда подвергнутся всем последствиям оного, и 2-е, что ежели за ними откроются таковые поступки, то подвергнутся участи Вержейского, Гимбута и Понаревского.
Предписываю приказ сей прочесть по ротам и объявить совершенную мою благодарность низшим чинам за прекращение побегов в течение моего командования.»
Когда позднее над Орловым было наряжено следствие, ему, между прочим, был поставлен в вину случай с рядовым Суярченкой, и вот как сам Орлов излагал это дело в своем ответном донесении. Во время смотра 31-го егерского полка при опросе 9-й роты рядовой Алексей Суярченко заявил ему, что ротный командир, поручик Турчанинов, ударил его эфесом в бок так сильно, что он долго не мог дышать. Орлов вызвал Турчанинова в круг роты и пригрозил, что отнимет у него команду; Турчанинов извинился, прося приписать свой поступок минутной вспыльчивости, а не обычаю обращаться жестоко с нижними чинами. Чтобы удостовериться в этом, Орлов, отослав поручика, опросил роту, и когда все солдаты единогласно подтвердили ему, что не имеют никакой другой жалобы на своего ротного командира, он снова призвал Турчанинова в круг роты и сказал ему:
– Вы счастливы, что командуете честными солдатами, которые не хотели воспользоваться гневом моим против вас. Ваша участь зависела от них. Ежели б один рядовой еще пожаловался на вас, то после примера вашей вспыльчивости, в коем вы сами предо мною сознались, я был бы принужден отдать вас под следствие и отнять роту. Помните мое снисхождение и старайтесь на будущее время не употреблять законопротивных наказаний.
VIII
Не прошло и года, как имя командира 16-й пехотной дивизии сделалось как бы нарицательным. Разумеется, о нем пошла двойная слава. Как смотрели на него подчиненные и солдаты, об этом, можно сказать, художественно свидетельствует донесение тайного агента из Кишинева, 1821 года. В ланкастерской школе, сообщает он, учат «кроме грамоты» «и толкуют о каком-то просвещении». «Нижние чины говорят: дивизионный командир (то есть Орлов) наш отец, он нас просвещает. 16-ю дивизию называют орловщиной… Липранди (подполковник, член тайного общества) говорит часовым, у него стоящим: «не утаивайте от меня, кто вас обидел, я тотчас доведу до дивизионного командира. Я ваш защитник. Молите Бога за него и за меня. Мы вас в обиду не дадим, и как часовые, так и вестовые, наставление сие передайте один другому»[28 - Русская Старина. 1883, декабрь. С. 657–58.]. Здесь характерно и отношение к Орлову Липранди. Еще более, интимнее был ему предан Охотников, а В. Ф. Раевский в марте 1822 года из Петропавловской крепости писал кишиневским друзьям:
Скажите от меня Орлову,
Что я судьбу мою сурову
С терпеньем мраморным сносил,
Нигде себе не изменил.
Очевидно, ему еще и тут было нужно и дорого одобрение Орлова.
А начальство Орлова, ближнее и дальнее, смотрело на него косо и позаботилось учредить за его дивизией секретный надзор. Прежде всего, его дивизия сильно отставала от фронтовой части, потому что без смертного боя нельзя было вдолбить знаменитые три учебных шага; а затем, в штабе 2-й армии, к которой принадлежала дивизия Орлова, уже знали о неблагонадежности В. Ф. Раевского. Начальником этого штаба был Киселев, искренно любивший и уважавший Орлова, но державшийся правила, что в «службе нет дружбы».
Надо думать, что Сабанеев, корпусный командир, то есть ближайший начальник Орлова, ждал только первого случая, чтобы освободиться от него. Таким случаем и явился небольшой бунт в Камчатском полку[17 - 3 декабря 1821 г. четверо рядовых Камчатского полка, по договоренности с фельдфебелем, вырвали из рук унтер-офицеров своего товарища, подвергавшегося экзекуции по приказу ротного командира Брюхатова. Орлов не только не пресек «бунта», но отстранил капитана Брюхатова от командования.], входившем в состав Орловской дивизии. Узнав об этом происшествии от самих ослушников, Орлов приказал бригадному командиру Пущину произвести следствие, а сам в тот же день, как и предполагал заранее, выехал к больной жене в Киев. Тайно извещенный Сабанеев нагрянул из Тирасполя на следующий день, когда Пущин еще и не начинал следствия, и, не застав Орлова, поднял шум[29 - Воспоминания Липранди. – Русский Архив. 1866. № 10. С. 1438–41.]. Это было в декабре 1821 года, всего через полгода после женитьбы Орлова. В высших военных сферах началось против него дело, еще более осложнившееся после того, как в феврале следующего года Киселев решился наконец, арестовать В. Ф. Раевского по обвинению в преступной пропаганде среди солдат.
Орлова обвиняли в том, что распустил дисциплину в своей дивизии, потакает солдатам, ведет панибратство с подчиненными, вверил учебные заведения первому вольнодумцу в армии. Ему ставились в вину, между прочим, и приведенные выше два его приказа, а также чтение их перед ротами. Разобрать дело было поручено Киселеву. Он не приписывал Орлову преступных замыслов, – он только обвинял его в слабости и чрезмерной доброте, которою-де пользовались люди, как Раевский, для достижения своих целей; и еще более он осуждал «фальшивую филантропию» Орлова, утверждающего, «что нравственные способы приличнее и полезнее тех, которые невеждами употребляются». Все хорошо в меру, говорил Киселев: не надо калечить людей, но и палки у унтер-офицеров незачем отнимать, да и вообще «мечтания Орлова хороши в теории, но на практике никуда не годятся». Сабанеев и слышать не хотел об оставлении Орлова дивизионным командиром, и сам Киселев соглашался, что Орлову 16-й дивизией более командовать нельзя[30 - Сборник Императорского Русского Историч. Общества. Т. 78. С. 90—118; Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев. Т. I. С. 158 слл.].
Киселев предлагал Орлову почетный выход – проситься в отпуск, «на воды», а там ему дадут другую дивизию; но Орлов заупрямился и требовал формального суда. Дело тянулось почти полтора года и получило большую огласку, по-видимому даже за пределами России. «Сабанеев думал, что одним ударом меня сшибет, – писал Орлов А. Раевскому. – Ударил и подул в пальцы: сам себя ушиб. Он надеялся, что при первом случае я отклонюсь от командования дивизии и испугаюсь, но я сам требовал исследования, и тогда он взялся за клевету». Орлов жил в это время то в Кишиневе, то в Киеве, то в своей калужской деревне. Он чувствовал себя совершенно правым. Вскоре после происшествия в Камчатском полку и тотчас после ареста Раевского, он писал жене из Тульчина, куда поехал для разговора о своем деле с главнокомандующим 2-й армии гр. Витгенштейном: «Мой план защиты совсем готов у меня в голове, и если только разум способен одерживать верх над слепым, неразумным и своекорыстным усердием, – я думаю, что настоящий случай докажет мою правоту с полной ясностью и что Сабанеев своей опрометчивостью лишил себя всякого права на расположение наших общих начальников» (16 февр. 1822 г.). А в ноябре он писал кн. Вяземскому: «Дело мое идет и продолжается. Чужие края и отечество наполнились странными слухами и посреди общего вранья трудно постичь настоящий ход дела. Об оном я распространяться не буду, но вообрази себе собрание глупой черни, смотрящей на воздушный шар. Одни говорят – это черт летит, другие – это явление в небе, третьи – чудеса, и пр. и пр. Спускается балон, и что ж? Холстина, надутая газом. Вот все мое дело. Когда шар спустится, вы сами удивитесь, что так много обо мне говорили. Впрочем, все сие дело меня крепко ожесточило и тронуло до крайности. Ежели я достиг равнодушия, то через сильную борьбу»[31 - Русский Архив. 1884. 4. С. 391.].
Он не сдавался на увещания Киселева, настаивал на суде, требовал вопросных пунктов, а тем временем Киселеву пришлось по семейным делам внезапно уехать за границу, где он пробыл до начала 1823 года, – и дело Орлова было решено уже, по-видимому, без его участия: приказом от 18-го апреля Орлов был лишен дивизии и назначен состоять по армии – «то есть по фабрике и заниматься своими делами. Это самое, – писал он жене, – они могли бы сделать уже год назад». Фактически он командовал дивизией только полтора года. Его военная карьера, так блестяще начавшаяся, была кончена. Нового назначения ему не дали, и ближайшие три года, до ареста в конце 25-го года, он занимался приведением в порядок своего имения и стеклянно-фарфорового завода в Масальском уезде, жил то в деревне, то в Москве, ездил в Крым и т. д.[32 - Вот кстати любопытные цифровые данные о его состоянии и о тогдашних ценах. В июле 1822 г. он сообщает жене расчет, по которому хотел бы продать это имение с заводом, если бы нашелся покупщик: 230 заводских рабочих – по 1 тыс. руб., 500 крестьян – по 300 руб., 23 000 десятин – по 30 руб., постройки – 70 000 руб., инструменты – 50 000, материал – 100 000, а всего 1 290 000, но если бы дали миллион, то взял бы.] Он был, по-видимому, на самом дурном счету в смысле политической благонадежности, и его не спускали с глаз. В собственноручной записке Александра I, найденной после его смерти в его кабинете, среди шести видных генералов, наиболее зараженных пагубным духом вольномыслия и являющихся как бы главными очагами заразы в армии назван и Орлов[33 - Русская Старина. 1883, дек. С. 659.], а позднее, в конце 1825 г., Дибич доносил, что Орлов, содействуя распространению тайного общества в армии, старался, но тщетно, заодно с сыновьями генерала Раевского, заразить черноморский флот[34 - Шильдер. Николай I. Т. I. С. 238.]. Этот глупый донос основывался, без сомнения, на том, что летом 1825 г. Орлов ездил в Крым с целью купить участок земли на Южном берегу. Там, между прочим, он в Симферополе свиделся с давним приятелем – Грибоедовым.
IX
Александр Раевский жил эти годы в Одессе, куда в середине 1823 г. переехал и Пушкин. Они прожили здесь вместе год в теснейшей дружбе, если только можно назвать дружбой взаимное тяготение двух противоположных натур. Раевский заслуживает того, чтобы на нем остановиться подробнее.
Один из людей, знавших его в те годы, говорит: «Этот Раевский действительно имел в себе что-то такое, что придавливало душу других. Сила его обаяния заключалась в резком и язвительном отрицании». Другой – Вигель, ненавидевший его страстно и глубоко, как только и может человек ненавидеть самого себя в своем прообразе, – называет его адским смешением самолюбия, коварства и злобы, говорит о его презрении к людям и глубочайшем эгоизме, о его твердом уме, лишенном благородства. И даже родной отец, этот прекрасный, цельный и умный человек, нежно любивший всех своих детей, с болью свидетельствовал, что у Александра «холодное, себялюбивое сердце». Вот отрывок из его письма к старшей дочери, писанного в 1820 году: «С Александром живу в мире, – но как он холоден! Я ищу в нем проявления любви, чувствительности, и не нахожу их. Он не рассуждает, а спорит, и чем более он неправ, тем его тон становится неприятнее, даже до грубости. Мы условились с ним никогда не вступать ни в споры, ни в отвлеченную беседу. Не то, чтобы я был им недоволен, но я не вижу с его стороны сердечного отношения. Что делать! таков уж его характер, и нельзя ставить ему это в вину. У него ум наизнанку; он философствует о вещах, которых не понимает, и так мудрит, что всякий смысл испаряется. То же самое с чувством: он очень любит Николашку[35 - Ребенок-черкес, приемыш А. Н. Раевского, который вывез его 3-х лет раненого с Кавказа и на коленях привез в Киев.] и беспрестанно его целует, но он так же любил и целовал Аттилу[36 - Собака.]. От него зависит, чтобы я его полюбил или, вернее, чтобы я открыл ему мою любовь. Я думаю, что он не верит в любовь, так как сам ее не испытывает, и не старается ее внушить. Я делаю для него все, когда только есть случай, но я скрываю чувство, которое побуждает меня к этому, потому что он равнодушно принимает все, что бы я ни делал для него. Я не сержусь на него за это. Делай и ты так, Катенька; он тебя любит настолько, насколько способен любить. Говорю тебе это для того, чтобы тебе не пришлось страдать от ошибки, тягостной для нежного сердца. Николай будет, может быть, легкомыслен, наделает много глупостей и ошибок; но он способен на порыв, на дружбу, на жертву, на великодушие. Часто одно слово искупает сто грехов». – В этом портрете недостает одной существенной черты: старик не мог знать того сарказма, которым обычно дышала речь Александра, – для этого он слишком импонировал сыну. Но вот две мимоходом брошенных заметки, которые дополняют портрет. В 1823 году Орлов пишет А. Н. Раевскому из Москвы: «Я не видел здесь никого, кроме моих родных, и все мои сношения с ними представляли собою одно непрерывное излияние нежных чувств – вещь, я знаю, тошнотворная для твоего стоического сердца»; а в 1841 г. тот же Орлов пишет жене, что только что был с Эвансом у Александра и что его девочке лучше: «Он осыпал нас обоих сарказмами; это хороший знак: если к нему вернулись его сарказмы, это показывает, что к его дочке возвращается здоровье».
Любопытно, что этот друг Пушкина и прототип пушкинского «Демона» и наружностью удивительно походил на того гетевского друга Мерка, который послужил моделью для Мефистофеля: он был высок и худ, почти костляв, с небольшой головой, длинным и острым носом, очень широким с тонкими губами ртом и маленькими изжелта-карими глазами, которые блестели сквозь очки наблюдательным и слегка насмешливым взглядом; «он всегда, – прибавляет очевидец, – (я думаю, даже когда спал) сохранял саркастическое выражение»[37 - Русская Старина. 1899, май. С. 241.].
Раевский был, конечно, очень умен. Пушкин, после первого сближения с ним на Кавказе, писал о нем, что он будет «более, нежели известен», а на словах, как передавали слышавшие, выражался еще решительнее: «при тогдашнем всеобщем ожидании политических перемен во всех углах Европы Пушкин говорил об А. Раевском, как о человеке, которому предназначено, может быть, управлять ходом весьма важным событий»[38 - Анненков. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. – Вестник Европы. 1874, янв. С. 8.]. Это был ясный, холодный и твердый ум, гордый и независимый, казавшийся на первый взгляд непобедимым. Его сила заключалась в необыкновенной остроте взгляда, с которою он подмечал иррациональное. Никакое противоречие, никакая туманность мысли, никакой каприз воли не ускользал от него; он мгновенно вскрывал невинную хитрость бедной души человеческой и безжалостно казнил ее самообман одним словом, одной язвительной насмешкой. Он не знал иллюзий, был недоступен им и по злому инстинкту неутомимо охотился за ними в других. И так как всякое чувство – иллюзия и каприз, то перед его взором не могло уцелеть ни одно нравственное чувство: он обдавал холодом энтузиазм и, шутя, показывал элементарный эгоизм на дне всякого благородства. Пушкин так изображает Раевского-демона:
Неистощимой клеветою
Он Провиденье искушал,
Он звал прекрасное мечтою,
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе,
На жизнь насмешливо гляде
– лИ ничего во всей природе
Благословить он не хотел.
Но ум, лишенный способности чувствовать силу и красоту иррационального в мире, – плоский и скудный ум, и таков, при всей своей остроте, был ум Раевского. Высшие сферы человеческого духа были для него закрыты. Вигель говорит по поводу его отношений к Пушкину: «Поэзия была ему дело вовсе чуждое, равномерно и нежные чувства, в которых видел он одно смешное сумасбродство». То подтверждается документально. В марте 1825 года, когда Раевский страдал бессонницей, сестра прислала ему для развлечения рукопись «Горе от ума» (он был приятель с Грибоедовым), и вот что он писал ей затем: «Твоя глупая пьеса, которую я читал всю эту ночь, отвратительна во всех отношениях: две-три меткие черты не составляют картины и не могут искупить ни отсутствие плана, ни нелепость характеров, ни жесткость и беспорядочность версификации, достойной Тредьяковского. Меня всегда удивляет, как Грибоедов, с его острым умом, становится тяжел и нелеп, лишь только возьмет в руки перо».
В атмосферу этого-то ума, как раскаленное железо в холодную воду, погрузился Пушкин. Это были два человеческих типа в необыкновенно ярких проявлениях, две противоположные нравственные стихии: наивысшая полнота переживаний и скудность рассудочной мысли, нераздельность порыва – и чувство, парализованное в корне, наивное ясновидение – и жалкая проницательность рассудка. Но глубокая мудрость Пушкина была безоружна, как голый ребенок, а трезвый ум Раевского был вооружен всем оружием логики; и случилось то, что всегда случается в таких случаях: умный покорил мудрого, и, как всегда, – на минуту. Пушкин ясно говорит:
Но, одолев мой ум в борьбе,
Он сочетал меня невольно
Своей таинственной судьбе.
Иначе и не могло быть. На стороне Раевского были два великих преимущества: первое – та непоколебимая уверенность, которая всегда присуща абсолютному скептицизму; эта уверенность сообщала его отрицанию неотразимую убедительность, его сарказму – страшную остроту. Второе – то, что та стихия, которой Раевский был олицетворением, жила и в самом Пушкине. Потому что холодная расчетливость ума присуща поэту даже в большей степени, чем средним людям: без нее как мог бы он мерить, отбрасывать, шлифовать формы? Она обуздана в нем высокой настроенностью духа и несет лишь служебную роль, но в ней – опасное искушение.
Пушкин сам в чудесных строках описал свою дружбу с Раевским[39 - «Демон», черновые наброски этого стихотворения и варианты XLV строфы I гл. «Онегина».]. Во власти, которую приобрел над ним Раевский, было какое-то наваждение, и самому Пушкину чудились здесь дьявольские чары. От него веяло на Пушкина дыханием смерти:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Юзефович рассказывает, что Пушкин, ходивший к Раевскому обыкновенно по вечерам, выговорил себе право тушить свечи, чтобы разговаривать с ним свободнее впотьмах. И в то же время Пушкин жадно слушал эти речи, он упорно повторяет:
Непостижимое волненье
Меня к лукавому влекло…
Я неописанную сладость
В его беседах находил…
В чем же была тайна этого очарования? Что сообщало такую сладость беседам?
Пред Пушкиным открывалась здесь новая, неожиданная точка зрения на мир. В своей наивной мудрости он ощущал до сих пор мир, как неразгаданную увлекательную тайну, и жадно смотрел вокруг и вглядывался в бездонную глубь бытия, ища разгадать эту тайну; а Раевский давно разгадал ее и знал все с полной ясностью:
Он обещал…
2) Послабление военной дисциплины. Сим разумею я некоторый дух беспечности и нерадения, в частных начальниках тем более предосудительный, что пример их действует быстро на самих солдат, порождает в сих последних леность и от лености все пороки. Я прошу г.г. офицеров заняться крепко своим делом, быть часто с солдатами, говорить с ними, внушать им все солдатские добродетели, пещись о всех их нуждах, давать им пример деятельности и возбуждать любовь к Отечеству, поручившему им свое хранение и свою безопасность.
Когда солдат будет чувствовать все достоинство своего звания, тогда одним разом прекратятся многие злоупотребления, а от сего первого шага будет зависеть все устройство дивизии. Большая часть солдат легко поймут таковые наставления, они увидят попечение начальства и сами почувствуют свои обязанности. Я сам почитаю себе честного солдата и другом и братом.
Слишком строгое обращение с солдатами и дисциплина, основанная на побоях. Я почитаю великим злодеем того офицера, который, следуя внушению слепой ярости, без осмотрительности, без предварительного обличения, часто без нужды и даже без причины употребляет вверенную ему власть на истязание солдат. Я прошу г.г. офицеров подумать о следующем: от жестокости и несправедливости в наказаниях может родиться отчаяние, от отчаяния произойти побег, а побег за границу наказывается смертью; следовательно, начальник, который жестокостью или несправедливостью побудит солдата к побегу, делается настоящим его убийцею; строгость и жестокость суть две вещи разные, одна прилична тем людям, кои сотворены для начальства, другая свойственна тем только, коим никакого начальства поручать не должно. Сим правилом я буду руководствоваться, и г.г. офицеры могут быть уверены, что тот из них, который обличится в жестокости, лишится в то же время навсегда команды своей.
Из сего приказа моего легко можно усмотреть, в каком духе я буду командовать дивизиею. В следующих приказах я дам на сей предмет положительные правила, но я желаю, чтобы прежде всего г.г. начальники вникнули в мое намерение и, убедившись в необходимости такового с солдатами обращения, сделались бы мне сподвижниками в учреждении строгой, но справедливой дисциплины.
Предписываю в заключение прочитать приказ сей войскам в каждой роте самому ротному командиру, для чего, буде рота рассеяна по разным квартирам, то сделать общий объезд оным. Ежели при объезде полков солдаты по спросе моем скажут, что им сей приказ не извещен, то я за сие строго взыщу с ротных командиров. Подлинный подписал генерал-майор Орлов 1-й.»
Другой приказ Орлова относится к январю 1822 г., то есть к последним дням его командования 16-й дивизией.
«Думал я до сих пор, что ежели нужно нижним чинам делать строгие приказы, то достаточно для офицеров просто объяснить их обязанности, и что они почтут за счастье исполнять все желания и мысли своих начальников; но, к удивлению моему, вышло совсем противное. Солдаты внемлют одному слову начальника; сказал: побеги вас бесчестят, и побеги прекратились. Офицеров, напротив того, просил неотступно укротить их обращение с солдатами, заниматься своим делом, прекратить самоправные наказания, считать себя отцами своих подчиненных; но и по сих пор многие из них, несмотря на увещания мои, ни на угрозы, ни на самые строгие примеры, продолжают самоправное управление вверенными им частями, бьют солдат, а не наказывают, и не только пренебрегают исполнением моих приказов, но не уважают даже и голоса самого главнокомандующего.
В Охотском пехотном полку гг. майор Вержейский, капитан Гимбут и прапорщик Понаревский жестокостями своими вывели из терпения солдат. Общая жалоба нижних чинов побудила меня сделать подробное исследование, по которому открылись такие неистовства, что всех сих трех офицеров принужден представить я к военному суду. Да испытывают они в солдатских крестах, какова солдатская должность. Для них и им подобных не будет во мне ни помилования, ни сострадания.
И что ж? Лучше ли был батальон от их жестокости? Ни частной выправки, ни точности в маневрах, ни даже опрятности в одеянии – я ничего не нашел; дисциплина упала, а нет солдата в батальоне, который бы не почувствовал своими плечами, что есть у него начальник.
После сего примера, кто меня уверит, что есть польза в жестокости и что русский солдат, сей достойный сын отечества, который в целой Европе почитаем, не может быть доведен без побоев до исправности? Мне стыдно распространяться более о сем предмете, но пора быть уверенным всем г.г. офицерам, кои держатся правилам и примерам Вержейского и ему подобных, что я им не товарищ и они заблаговременно могут оставить сию дивизию, где найдут во мне строгого мстителя за их беззаконные поступки.
Обратимся к нашей военной истории: Суворов, Румянцев, Потемкин, все люди, приобретшие себе и отечеству славу, были друзьями солдат и пеклись об их благосостоянии. Все же изверги, кои одними побоями доводили их полки до наружной исправности, все погибли или погибнут; вот примеры, которые ясно говорят всем и каждому, что жестокое обращение к нижним чинам противно не только всем правилам, но и всем опытам. В заключение сего объявляю по дивизии: 1-е, г. майору Вержейскому отказать от батальона, а на место него назначаю 32-го егерского полка майора Юмина, 2-е, г. капитану Гимбуту отказать от роты; 3-е, прапорщику Понаревскому отказать от всякого рода команды:; 4-е, всех сих офицеров представляю к военному суду и предписываю содержать на гауптвахте под арестом впредь до разрешения начальства.
Кроме сего, по делу оказались менее виноватыми следующие офицеры, как-то: поручику Васильеву в уважение того, что он молодых лет и бил тесаками нижних чинов прежде приказов г. главнокомандующего, г. корпусного командира и моего, майорам Карчевскому и Данилевичу, капитану Парчевскому, штабс-капитанам Станкевичу и Гнилосирову, поручикам Калковскому и Тимченке и подпоручику Китицыну за самоправные наказания, за битье из собственных своих рук, делаю строгий выговор. Объявляю им две вещи: первую, что так как многие из них не спрошены комиссиею, то могут они, если чувствуют себя невинными, рапортами прямо на мое имя требовать суда, но тогда подвергнутся всем последствиям оного, и 2-е, что ежели за ними откроются таковые поступки, то подвергнутся участи Вержейского, Гимбута и Понаревского.
Предписываю приказ сей прочесть по ротам и объявить совершенную мою благодарность низшим чинам за прекращение побегов в течение моего командования.»
Когда позднее над Орловым было наряжено следствие, ему, между прочим, был поставлен в вину случай с рядовым Суярченкой, и вот как сам Орлов излагал это дело в своем ответном донесении. Во время смотра 31-го егерского полка при опросе 9-й роты рядовой Алексей Суярченко заявил ему, что ротный командир, поручик Турчанинов, ударил его эфесом в бок так сильно, что он долго не мог дышать. Орлов вызвал Турчанинова в круг роты и пригрозил, что отнимет у него команду; Турчанинов извинился, прося приписать свой поступок минутной вспыльчивости, а не обычаю обращаться жестоко с нижними чинами. Чтобы удостовериться в этом, Орлов, отослав поручика, опросил роту, и когда все солдаты единогласно подтвердили ему, что не имеют никакой другой жалобы на своего ротного командира, он снова призвал Турчанинова в круг роты и сказал ему:
– Вы счастливы, что командуете честными солдатами, которые не хотели воспользоваться гневом моим против вас. Ваша участь зависела от них. Ежели б один рядовой еще пожаловался на вас, то после примера вашей вспыльчивости, в коем вы сами предо мною сознались, я был бы принужден отдать вас под следствие и отнять роту. Помните мое снисхождение и старайтесь на будущее время не употреблять законопротивных наказаний.
VIII
Не прошло и года, как имя командира 16-й пехотной дивизии сделалось как бы нарицательным. Разумеется, о нем пошла двойная слава. Как смотрели на него подчиненные и солдаты, об этом, можно сказать, художественно свидетельствует донесение тайного агента из Кишинева, 1821 года. В ланкастерской школе, сообщает он, учат «кроме грамоты» «и толкуют о каком-то просвещении». «Нижние чины говорят: дивизионный командир (то есть Орлов) наш отец, он нас просвещает. 16-ю дивизию называют орловщиной… Липранди (подполковник, член тайного общества) говорит часовым, у него стоящим: «не утаивайте от меня, кто вас обидел, я тотчас доведу до дивизионного командира. Я ваш защитник. Молите Бога за него и за меня. Мы вас в обиду не дадим, и как часовые, так и вестовые, наставление сие передайте один другому»[28 - Русская Старина. 1883, декабрь. С. 657–58.]. Здесь характерно и отношение к Орлову Липранди. Еще более, интимнее был ему предан Охотников, а В. Ф. Раевский в марте 1822 года из Петропавловской крепости писал кишиневским друзьям:
Скажите от меня Орлову,
Что я судьбу мою сурову
С терпеньем мраморным сносил,
Нигде себе не изменил.
Очевидно, ему еще и тут было нужно и дорого одобрение Орлова.
А начальство Орлова, ближнее и дальнее, смотрело на него косо и позаботилось учредить за его дивизией секретный надзор. Прежде всего, его дивизия сильно отставала от фронтовой части, потому что без смертного боя нельзя было вдолбить знаменитые три учебных шага; а затем, в штабе 2-й армии, к которой принадлежала дивизия Орлова, уже знали о неблагонадежности В. Ф. Раевского. Начальником этого штаба был Киселев, искренно любивший и уважавший Орлова, но державшийся правила, что в «службе нет дружбы».
Надо думать, что Сабанеев, корпусный командир, то есть ближайший начальник Орлова, ждал только первого случая, чтобы освободиться от него. Таким случаем и явился небольшой бунт в Камчатском полку[17 - 3 декабря 1821 г. четверо рядовых Камчатского полка, по договоренности с фельдфебелем, вырвали из рук унтер-офицеров своего товарища, подвергавшегося экзекуции по приказу ротного командира Брюхатова. Орлов не только не пресек «бунта», но отстранил капитана Брюхатова от командования.], входившем в состав Орловской дивизии. Узнав об этом происшествии от самих ослушников, Орлов приказал бригадному командиру Пущину произвести следствие, а сам в тот же день, как и предполагал заранее, выехал к больной жене в Киев. Тайно извещенный Сабанеев нагрянул из Тирасполя на следующий день, когда Пущин еще и не начинал следствия, и, не застав Орлова, поднял шум[29 - Воспоминания Липранди. – Русский Архив. 1866. № 10. С. 1438–41.]. Это было в декабре 1821 года, всего через полгода после женитьбы Орлова. В высших военных сферах началось против него дело, еще более осложнившееся после того, как в феврале следующего года Киселев решился наконец, арестовать В. Ф. Раевского по обвинению в преступной пропаганде среди солдат.
Орлова обвиняли в том, что распустил дисциплину в своей дивизии, потакает солдатам, ведет панибратство с подчиненными, вверил учебные заведения первому вольнодумцу в армии. Ему ставились в вину, между прочим, и приведенные выше два его приказа, а также чтение их перед ротами. Разобрать дело было поручено Киселеву. Он не приписывал Орлову преступных замыслов, – он только обвинял его в слабости и чрезмерной доброте, которою-де пользовались люди, как Раевский, для достижения своих целей; и еще более он осуждал «фальшивую филантропию» Орлова, утверждающего, «что нравственные способы приличнее и полезнее тех, которые невеждами употребляются». Все хорошо в меру, говорил Киселев: не надо калечить людей, но и палки у унтер-офицеров незачем отнимать, да и вообще «мечтания Орлова хороши в теории, но на практике никуда не годятся». Сабанеев и слышать не хотел об оставлении Орлова дивизионным командиром, и сам Киселев соглашался, что Орлову 16-й дивизией более командовать нельзя[30 - Сборник Императорского Русского Историч. Общества. Т. 78. С. 90—118; Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев. Т. I. С. 158 слл.].
Киселев предлагал Орлову почетный выход – проситься в отпуск, «на воды», а там ему дадут другую дивизию; но Орлов заупрямился и требовал формального суда. Дело тянулось почти полтора года и получило большую огласку, по-видимому даже за пределами России. «Сабанеев думал, что одним ударом меня сшибет, – писал Орлов А. Раевскому. – Ударил и подул в пальцы: сам себя ушиб. Он надеялся, что при первом случае я отклонюсь от командования дивизии и испугаюсь, но я сам требовал исследования, и тогда он взялся за клевету». Орлов жил в это время то в Кишиневе, то в Киеве, то в своей калужской деревне. Он чувствовал себя совершенно правым. Вскоре после происшествия в Камчатском полку и тотчас после ареста Раевского, он писал жене из Тульчина, куда поехал для разговора о своем деле с главнокомандующим 2-й армии гр. Витгенштейном: «Мой план защиты совсем готов у меня в голове, и если только разум способен одерживать верх над слепым, неразумным и своекорыстным усердием, – я думаю, что настоящий случай докажет мою правоту с полной ясностью и что Сабанеев своей опрометчивостью лишил себя всякого права на расположение наших общих начальников» (16 февр. 1822 г.). А в ноябре он писал кн. Вяземскому: «Дело мое идет и продолжается. Чужие края и отечество наполнились странными слухами и посреди общего вранья трудно постичь настоящий ход дела. Об оном я распространяться не буду, но вообрази себе собрание глупой черни, смотрящей на воздушный шар. Одни говорят – это черт летит, другие – это явление в небе, третьи – чудеса, и пр. и пр. Спускается балон, и что ж? Холстина, надутая газом. Вот все мое дело. Когда шар спустится, вы сами удивитесь, что так много обо мне говорили. Впрочем, все сие дело меня крепко ожесточило и тронуло до крайности. Ежели я достиг равнодушия, то через сильную борьбу»[31 - Русский Архив. 1884. 4. С. 391.].
Он не сдавался на увещания Киселева, настаивал на суде, требовал вопросных пунктов, а тем временем Киселеву пришлось по семейным делам внезапно уехать за границу, где он пробыл до начала 1823 года, – и дело Орлова было решено уже, по-видимому, без его участия: приказом от 18-го апреля Орлов был лишен дивизии и назначен состоять по армии – «то есть по фабрике и заниматься своими делами. Это самое, – писал он жене, – они могли бы сделать уже год назад». Фактически он командовал дивизией только полтора года. Его военная карьера, так блестяще начавшаяся, была кончена. Нового назначения ему не дали, и ближайшие три года, до ареста в конце 25-го года, он занимался приведением в порядок своего имения и стеклянно-фарфорового завода в Масальском уезде, жил то в деревне, то в Москве, ездил в Крым и т. д.[32 - Вот кстати любопытные цифровые данные о его состоянии и о тогдашних ценах. В июле 1822 г. он сообщает жене расчет, по которому хотел бы продать это имение с заводом, если бы нашелся покупщик: 230 заводских рабочих – по 1 тыс. руб., 500 крестьян – по 300 руб., 23 000 десятин – по 30 руб., постройки – 70 000 руб., инструменты – 50 000, материал – 100 000, а всего 1 290 000, но если бы дали миллион, то взял бы.] Он был, по-видимому, на самом дурном счету в смысле политической благонадежности, и его не спускали с глаз. В собственноручной записке Александра I, найденной после его смерти в его кабинете, среди шести видных генералов, наиболее зараженных пагубным духом вольномыслия и являющихся как бы главными очагами заразы в армии назван и Орлов[33 - Русская Старина. 1883, дек. С. 659.], а позднее, в конце 1825 г., Дибич доносил, что Орлов, содействуя распространению тайного общества в армии, старался, но тщетно, заодно с сыновьями генерала Раевского, заразить черноморский флот[34 - Шильдер. Николай I. Т. I. С. 238.]. Этот глупый донос основывался, без сомнения, на том, что летом 1825 г. Орлов ездил в Крым с целью купить участок земли на Южном берегу. Там, между прочим, он в Симферополе свиделся с давним приятелем – Грибоедовым.
IX
Александр Раевский жил эти годы в Одессе, куда в середине 1823 г. переехал и Пушкин. Они прожили здесь вместе год в теснейшей дружбе, если только можно назвать дружбой взаимное тяготение двух противоположных натур. Раевский заслуживает того, чтобы на нем остановиться подробнее.
Один из людей, знавших его в те годы, говорит: «Этот Раевский действительно имел в себе что-то такое, что придавливало душу других. Сила его обаяния заключалась в резком и язвительном отрицании». Другой – Вигель, ненавидевший его страстно и глубоко, как только и может человек ненавидеть самого себя в своем прообразе, – называет его адским смешением самолюбия, коварства и злобы, говорит о его презрении к людям и глубочайшем эгоизме, о его твердом уме, лишенном благородства. И даже родной отец, этот прекрасный, цельный и умный человек, нежно любивший всех своих детей, с болью свидетельствовал, что у Александра «холодное, себялюбивое сердце». Вот отрывок из его письма к старшей дочери, писанного в 1820 году: «С Александром живу в мире, – но как он холоден! Я ищу в нем проявления любви, чувствительности, и не нахожу их. Он не рассуждает, а спорит, и чем более он неправ, тем его тон становится неприятнее, даже до грубости. Мы условились с ним никогда не вступать ни в споры, ни в отвлеченную беседу. Не то, чтобы я был им недоволен, но я не вижу с его стороны сердечного отношения. Что делать! таков уж его характер, и нельзя ставить ему это в вину. У него ум наизнанку; он философствует о вещах, которых не понимает, и так мудрит, что всякий смысл испаряется. То же самое с чувством: он очень любит Николашку[35 - Ребенок-черкес, приемыш А. Н. Раевского, который вывез его 3-х лет раненого с Кавказа и на коленях привез в Киев.] и беспрестанно его целует, но он так же любил и целовал Аттилу[36 - Собака.]. От него зависит, чтобы я его полюбил или, вернее, чтобы я открыл ему мою любовь. Я думаю, что он не верит в любовь, так как сам ее не испытывает, и не старается ее внушить. Я делаю для него все, когда только есть случай, но я скрываю чувство, которое побуждает меня к этому, потому что он равнодушно принимает все, что бы я ни делал для него. Я не сержусь на него за это. Делай и ты так, Катенька; он тебя любит настолько, насколько способен любить. Говорю тебе это для того, чтобы тебе не пришлось страдать от ошибки, тягостной для нежного сердца. Николай будет, может быть, легкомыслен, наделает много глупостей и ошибок; но он способен на порыв, на дружбу, на жертву, на великодушие. Часто одно слово искупает сто грехов». – В этом портрете недостает одной существенной черты: старик не мог знать того сарказма, которым обычно дышала речь Александра, – для этого он слишком импонировал сыну. Но вот две мимоходом брошенных заметки, которые дополняют портрет. В 1823 году Орлов пишет А. Н. Раевскому из Москвы: «Я не видел здесь никого, кроме моих родных, и все мои сношения с ними представляли собою одно непрерывное излияние нежных чувств – вещь, я знаю, тошнотворная для твоего стоического сердца»; а в 1841 г. тот же Орлов пишет жене, что только что был с Эвансом у Александра и что его девочке лучше: «Он осыпал нас обоих сарказмами; это хороший знак: если к нему вернулись его сарказмы, это показывает, что к его дочке возвращается здоровье».
Любопытно, что этот друг Пушкина и прототип пушкинского «Демона» и наружностью удивительно походил на того гетевского друга Мерка, который послужил моделью для Мефистофеля: он был высок и худ, почти костляв, с небольшой головой, длинным и острым носом, очень широким с тонкими губами ртом и маленькими изжелта-карими глазами, которые блестели сквозь очки наблюдательным и слегка насмешливым взглядом; «он всегда, – прибавляет очевидец, – (я думаю, даже когда спал) сохранял саркастическое выражение»[37 - Русская Старина. 1899, май. С. 241.].
Раевский был, конечно, очень умен. Пушкин, после первого сближения с ним на Кавказе, писал о нем, что он будет «более, нежели известен», а на словах, как передавали слышавшие, выражался еще решительнее: «при тогдашнем всеобщем ожидании политических перемен во всех углах Европы Пушкин говорил об А. Раевском, как о человеке, которому предназначено, может быть, управлять ходом весьма важным событий»[38 - Анненков. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. – Вестник Европы. 1874, янв. С. 8.]. Это был ясный, холодный и твердый ум, гордый и независимый, казавшийся на первый взгляд непобедимым. Его сила заключалась в необыкновенной остроте взгляда, с которою он подмечал иррациональное. Никакое противоречие, никакая туманность мысли, никакой каприз воли не ускользал от него; он мгновенно вскрывал невинную хитрость бедной души человеческой и безжалостно казнил ее самообман одним словом, одной язвительной насмешкой. Он не знал иллюзий, был недоступен им и по злому инстинкту неутомимо охотился за ними в других. И так как всякое чувство – иллюзия и каприз, то перед его взором не могло уцелеть ни одно нравственное чувство: он обдавал холодом энтузиазм и, шутя, показывал элементарный эгоизм на дне всякого благородства. Пушкин так изображает Раевского-демона:
Неистощимой клеветою
Он Провиденье искушал,
Он звал прекрасное мечтою,
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе,
На жизнь насмешливо гляде
– лИ ничего во всей природе
Благословить он не хотел.
Но ум, лишенный способности чувствовать силу и красоту иррационального в мире, – плоский и скудный ум, и таков, при всей своей остроте, был ум Раевского. Высшие сферы человеческого духа были для него закрыты. Вигель говорит по поводу его отношений к Пушкину: «Поэзия была ему дело вовсе чуждое, равномерно и нежные чувства, в которых видел он одно смешное сумасбродство». То подтверждается документально. В марте 1825 года, когда Раевский страдал бессонницей, сестра прислала ему для развлечения рукопись «Горе от ума» (он был приятель с Грибоедовым), и вот что он писал ей затем: «Твоя глупая пьеса, которую я читал всю эту ночь, отвратительна во всех отношениях: две-три меткие черты не составляют картины и не могут искупить ни отсутствие плана, ни нелепость характеров, ни жесткость и беспорядочность версификации, достойной Тредьяковского. Меня всегда удивляет, как Грибоедов, с его острым умом, становится тяжел и нелеп, лишь только возьмет в руки перо».
В атмосферу этого-то ума, как раскаленное железо в холодную воду, погрузился Пушкин. Это были два человеческих типа в необыкновенно ярких проявлениях, две противоположные нравственные стихии: наивысшая полнота переживаний и скудность рассудочной мысли, нераздельность порыва – и чувство, парализованное в корне, наивное ясновидение – и жалкая проницательность рассудка. Но глубокая мудрость Пушкина была безоружна, как голый ребенок, а трезвый ум Раевского был вооружен всем оружием логики; и случилось то, что всегда случается в таких случаях: умный покорил мудрого, и, как всегда, – на минуту. Пушкин ясно говорит:
Но, одолев мой ум в борьбе,
Он сочетал меня невольно
Своей таинственной судьбе.
Иначе и не могло быть. На стороне Раевского были два великих преимущества: первое – та непоколебимая уверенность, которая всегда присуща абсолютному скептицизму; эта уверенность сообщала его отрицанию неотразимую убедительность, его сарказму – страшную остроту. Второе – то, что та стихия, которой Раевский был олицетворением, жила и в самом Пушкине. Потому что холодная расчетливость ума присуща поэту даже в большей степени, чем средним людям: без нее как мог бы он мерить, отбрасывать, шлифовать формы? Она обуздана в нем высокой настроенностью духа и несет лишь служебную роль, но в ней – опасное искушение.
Пушкин сам в чудесных строках описал свою дружбу с Раевским[39 - «Демон», черновые наброски этого стихотворения и варианты XLV строфы I гл. «Онегина».]. Во власти, которую приобрел над ним Раевский, было какое-то наваждение, и самому Пушкину чудились здесь дьявольские чары. От него веяло на Пушкина дыханием смерти:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Юзефович рассказывает, что Пушкин, ходивший к Раевскому обыкновенно по вечерам, выговорил себе право тушить свечи, чтобы разговаривать с ним свободнее впотьмах. И в то же время Пушкин жадно слушал эти речи, он упорно повторяет:
Непостижимое волненье
Меня к лукавому влекло…
Я неописанную сладость
В его беседах находил…
В чем же была тайна этого очарования? Что сообщало такую сладость беседам?
Пред Пушкиным открывалась здесь новая, неожиданная точка зрения на мир. В своей наивной мудрости он ощущал до сих пор мир, как неразгаданную увлекательную тайну, и жадно смотрел вокруг и вглядывался в бездонную глубь бытия, ища разгадать эту тайну; а Раевский давно разгадал ее и знал все с полной ясностью:
Он обещал…